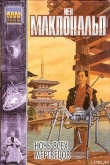Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Тетка вышла из здания почты-банка и вошла в то, что издали выглядело как вход в квартиру. Оставила дверь открытой. Теперь место выглядело как продуктовая лавка. Почему без витрины и вывески? Вот, вышла, плетется мимо моей скамейки. Лицо благостное, гладкое, довольное. В руках – кульки с продуктами. Нес-Циона – город, в котором можно уладить все проблемы за время поедания одного банана! Однако жарко. Я поднялась и побрела осматривать окрестности. Ну и место! Чтобы это ни пейзажа, ни монумента, ни дома с вывертом, ни клумбы с особым цветком! Как есть – ничего.
Из одноэтажного домика, горбатого и конопатого, донесся крик. Я подошла, вслушалась. Галдела тетка. Но как галдела! Как Кальварийский базар в Вильне или, вернее, как галдел виленский еврейский охлос, называвшийся «амхо».
Тут снова требуется отступление. В моем раннем детстве мы ездили летом отдыхать не в Репино и не в Сестрорецк, как это принято у ленинградцев, а в Литву, где мама могла блеснуть нарядами и безукоризненным польским языком с варшавским акцентом.
Прибалтика была единственным местом в СССР, напоминавшим маме о прежней жизни. Там люди все делали правильно. Не шумели в очередях, да и очередей не было. Ходили друг к другу в гости в крепдешиновых платьях и пили чай с кондитерскими изделиями, имевшими привычные для мамы названия: «винбротл» и «безе», а не «пирожные с заварным кремом» и «меренги». И еще: только в Прибалтике выпекали торт «Наполеон» так, как это делали у мамы дома – из тонких хрустящих коржей, залитых заварным кремом на лимонной цедре. И только там евреи болтали между собой на правильном идише.
В Паланге, которую мама величала «Паланген», она пристраивалась к обществу теток, которые вели себя «как полагается» и на идиш говорили только изредка, тогда как я предпочитала крутиться среди «амхо», иного языка не признававшей. И я откуда-то знала идиш, хотя выросла в Ленинграде при Симе, русской женщине, не имевшей о языке идиш ни малейшего представления. Приличные евреи, с которыми предпочитала дружить моя мама, были адвокатами, врачами и архитекторами. А «амхо» состоял из водопроводчиков, скорняков и торговок. И именно среди детей этого простого люда у меня было много друзей и подружек.
Маме не нравилось, что я дружу с ними и болтаюсь не на пляже, а в лесочке около пляжа, пронизанном криком-стоном-шепотом: «шлинг ароп!», что означает: «проглоти!». Это еврейские мамаши из «амхо» с бигуди в волосах и в халатах на голое тело бегают за своими детенышами с мисочкой супа или котлетками в пюре и, поймав сорванца, ловко запихивают ему в рот ложку с едой. Детеныши сердито отпихивают мисочки и назло мамашам долго перекладывают запихнутый кусок из-за одной щеки за другую.
Мойше, шлинг ароп! Фридл, шлинг ароп! Велвке, шлинг ароп! Пешке, шлинг ароп шейн! Мойше, проглоти! Фридл, проглоти! Велвке, проглоти! Песька, ну проглоти же, наконец!
Мама недовольно морщилась и старалась обойти лесок справа или очень быстро пройти мимо него слева по дорожке, ведущей к пляжу. А как-то, услыхав: «Ляля, ду эйх шлинг шейн ароп», что в переводе означает «И ты, Ляля, проглоти, наконец!», мама решительно вклинилась в лесок, выудила меня из прочей детворы, крепко схватила за руку и вывела на дорогу, ни с кем не разговаривая, со мной – тем более.
Впрочем, обо мне на отдыхе никто особо не заботился. Сима ездила в Прибалтику для того, чтобы во время отпуска «жить как человек среди людей, которые живут как люди», а потому не слишком за мной приглядывала. Мама же, окруженная поклонниками, приятелями и приятельницами, вспоминала обо мне только к вечеру, а порой забывала вспомнить вообще. Однажды я заснула в гостях, меня уложили вместе с другими детьми и маме о моем местонахождении сообщить забыли. Но она даже не удивилась, когда я появилась назавтра к обеду. Не спросила, где я была. Кивнула тем, кто меня привел, и ушла в свою комнату.
Я была предоставлена самой себе и, по сути, жила в этом лесочке, где меня подкармливали, вздыхая: «Ви кемен фарлозн а кинд!» Мол, как же можно запустить ребенка! Мне было обидно ощущать себя запущенной, но по сравнению с пышными путти этого лесочка я и впрямь выглядела болезненно тощим, неухоженным ребенком. А возвращалась из Литвы окрепшей и округлившейся. Сима радовалась прибавке в весе и румянце и относила их за счет качества места, в котором «даже курица живет как вольная птица». Мама же к прибавке в весе вообще всегда относилась беспокойно, потому что была склонна к полноте. Усилия «амхо» по выхаживанию еврейского заморыша из Ленинграда в нашей семье в расчет не принимались хотя бы потому, что этих усилий никто не замечал.
Лесочек «амхо» подарил мне замечательную подружку по имени Малка Цукер. Она была маленькая, квадратная и тяжелая, как танкетка. И когда Малка наклоняла голову, а за ней и тело, взметала вверх руки и начинала гудеть, как «У-2», разогревающий мотор, пузатым водопроводчикам и завмагам лучше было не попадаться на ее пути. Идя на таран, она била их головой в живот, и случалось, что пузатый дяденька даже шлепался на спину от неожиданности.
Мама Малки, Хайка Цукер, продавала кур на Кальварийском рынке в Вильнюсе. Она так громко орала «ди бесте хун ин штот!», «лучшие в городе куры!», что посадила голос навсегда и говорила грозным шепотом. И если протараненный Малкой дядечка бежал к Хайке с жалобой, Хайка отвечала таким взрывом хрипа, всхлипов и гневного шепота, что дядечка смущенно ретировался. Но дядечки редко шли к Хайке жаловаться, потому что, взяв их на таран, Малка тут же поднимала головку, распахивала свои необыкновенные глаза, огромные и карие, выглядывавшие из ресниц, как выглядывает из материнской шкуры застенчивый медвежонок, и тихонько произносила: «Чу-у-лигт!»
Это чистосердечное «простите!», вернее, «-стите!», умело растопить даже заскорузлое сердце Гершона-водопроводчика, отца нашей общей подружки Этке.
– Почему это дочка грубиянки Хайки умеет попросить прощения, а наш змееныш только молчит и скребет ногой землю?! – орал он на мать Этке.
Между тем Этке была тихой и нежной, она никого не таранила и в играх всем всегда уступала. Где же ей было научиться обманно-вкрадчивому «ч-у-у-лигт!»?
Да, так к чему это я? А к тому, что в лесочке я отточила свой идиш в хороший народный говор со всеми его коленцами, загогулинами и причиндалами. Мама называла этот идиш «базарным». И я тут же распознала его в крике, раздавшемся из окна подслеповатого домишки в Нес-Ционе.
– Это случится, когда у селедки вырастут крылья! А они не вырастут, потому что ваши селедки – это не селедки, а селедочные выкидыши! Чтобы я еще когда-нибудь зашла в это безбожное место! Не дождетесь! Колтун на ваши головы, типун вам на язык!
И она вылетела из двери и скатилась по ступенькам крыльца. Похожая не на райское яблочко, а на засохший тейгл с имбирем. Вся в сахарных колючках на тесте, превратившемся силой муки, воды и времени в несокрушимый цемент.
– Почему еврейка кричит и чего она хочет? – спросила я на идише, используя вкрадчивый язык вильнюсского «амхо».
Тейгл затормозила пяткой, остановив таким образом колесо с парусом, состоящее из двух кривых ног с запутавшейся между ними трикотажной юбкой. Потом отошла на шаг назад и стала меня разглядывать, поворачивая голову налево и направо.
– Чья такая? – спросила наконец.
Я назвала имя и девичью фамилию моей матери, не надеясь на ритуал узнавания. Тут нужно было только дать время для обнюхивания. Главное – учуять знакомый запах.
– Из Вильно или из Слободки? – спросила Тейгл недоверчиво.
– Из Варшавы. А в Вильне жила моя подружка Малка Цукер, дочь Хайки Гладштейн.
– Хайка Гладштейн жива! – крикнула Тейгл. – Жива моя Хайка! Я думала, ее сожгли. Там немцы всех сожгли. Где же она?
– В Нетании. Из Вильно все уехали.
Я вспомнила, что давно не виделась с Малкой, и эта мысль причинила мне боль. Подругами детства не бросаются, а Малка была мне хорошей подругой и такой осталась. Надо бы съездить в Нетанию. Кстати, отец Малки – водопроводчик. А в мой дом вода не притекает и из него не вытекает. Цукеры же мне в помощи не откажут и с оплатой подождут. И как это я о них забыла!
– Мы с Хайкой… с самого детства… вместе в школе, – лепетала Тейгл.
Я не была уверена, что Хайка, которую я знала, когда-нибудь училась в школе. Зачем после этого продавать кур? А не будучи уверенной, не могла гарантировать, что речь идет о той же Хайке. Так и объяснила. Мой логический вывод Тейгл удивил. Видно, думать она была непривычна, но действие это уважала.
– Ой-ой! – помотала она головой. – Какая у тебя головка! – И тут же постановила: – Ты еще станешь у нас премьер-министром. – И немедленно поинтересовалась: – И когда же ты в последний раз ела курицу?
Говоря эту сакраментальную фразу виленской еврейки, тетка оглядела меня оценивающим взглядом и поморщилась. Моя комплекция ей не понравилась. Не было во мне приятной глазу округлости, которую можно приписать действию вареной курицы с картофельным пюре, плавающим в масле.
Кстати, как же я попала в тот лесочек? Не ветром же меня туда занесло. Помню, что пришла с кем-то, и меня приняли из рук в руки с большим почтением к передающим рукам. Мама? Никогда! Сима? Ни за что! Кто же это был?
– Пошли! – велела Тейгл. – Сегодня утром я как раз варила бульон. Как знала!
И она покатилась вперед, не оставив мне иного выхода, как следовать за ней.
Шли мы, шли и шли мимо одинаковых домиков, словно скопированных с бедных пригородов того же Вильно. С виленского Заречья, например, где некогда жила Малка Цукер. Я у них гостила, и не раз. Сама туда ездила, не ставя маму и Симу в известность. Малка подросла и уже не изображала таран. Она превратилась в застенчивого подростка, потом в плотную, но красивую барышню. И говорили мы с ней, бродя по узким улочкам Вильно, о композиторах и художниках, о жизни вообще и наших с ней жизнях в частности.
Малка училась в консерватории, успешно образовывалась и самообразовывалась, а во всем, что касается музыки, давала мне фору. И как же она умела слушать! Втягивала в себя каждое слово. Слова словно проваливались в немыслимую глубину ее глаз, все еще сохранявших взгляд испуганного медвежонка, выглядывающего из косматой материнской шкуры. И как же не вязалась элегантная Малка Цукер, многообещающая студентка консерватории, с мышиного цвета деревом и камнем заборов, стен, крыш, колодцев, тротуаров и водокачек бедняцкого пригорода литовской столицы!
Неприметность, бесцветность, честная бедность, ничто ни подо что не рядится, никаких поддельных колонн и портиков, – так выглядели и задворки Нес-Ционы. Неправильные квадраты и перекошенные треугольники. Во дворах трава пучками, как борода молодого ешиботника, лопухи и несколько плодовых деревьев. Наконец пришли. Ох, что за место!
Выселки на выселках, старая хибара, превращенная в авторемонтную мастерскую. Кривой домишко на пыльной улочке, серая зелень, тощие куры на узких полосках придорожных сорняков. Плохо. Совсем плохо.
А Тейгл ничего этого как будто и не замечала. Помедлила у косо навешенной калитки, обернулась, протянула руку лодочкой:
– Песя! – И добавила: – Будем знакомы!
– Тут ты живешь?! – вылетело у меня.
Лицо, очевидно, выражало недоумение, потому что Песя стала махать руками, как мельница крыльями.
– Это – депо моего Абрашки, – сказала она грустно и сморщила нос. – Они выкинули его из кибуца, сволочи, жулики, чтоб им не знать покоя днем и удовольствия ночью!
Я слушала знакомый жаргон с удовольствием и надеялась, что Песя заведется, как заводилась Хайка Цукер, и будет тарахтеть так минут десять, нагромождая одно несуразное проклятие на другое. Но Песя не стала раскручивать мотор. Сообщила то, что мне нужно было узнать, и толкнула калитку.
– А за что его выгнали из кибуца?
Мне не так уж важно было узнать правду о каком-то Абрашке, но очень хотелось, чтобы Песя продолжала шуметь на идише моего детства. Кроме того, было что-то очень важное в моих воспоминаниях о палангинском лесочке и виленских еврейских закоулках. Там пряталась тайна, и мне показалось насущным немедленно ее раскрыть. Но я знала натуру виленской еврейки. Ничто не остановит ее при выполнении задачи: накормить тощего. Поэтому воспоминания стоило отодвинуть на потом. Так за что же выгнали из кибуца сына Песи?
– Это все Мордехай, – сказала Песя и заговорщицки оглянулась. Теперь она должна была приблизить палец ко рту запретительным жестом, и она его придвинула. – Ш-ш! Ты же не знаешь, что такое кибуц! И лучше тебе об этом не знать! Это… – Песя поискала в голове определение и, не найдя его, принялась перечислять разные возможности: осиный рой, топкое болото, юденрат, гнилое место, стая гусей, куриная задница.
Последнее определение меня заинтересовало. Куриной задницей в лесочке называли сжатый в узелок усилием воли рот городской сплетницы. Вы спросите, для чего сплетнице зажимать себе рот усилием воли, если она – сплетница? Но вы не учитываете того, что это не фокус – болтать бездумно, позволяя словам вылетать изо рта, как каким-нибудь мыльным пузырям из соломинки. Кто поверит такому злословию?! Нет, для того чтобы сплетня возымела действие, ее необходимо придерживать за зубами, расставаясь со словами неохотно. Пусть у слушателя создастся впечатление, что он клещами вырывает правду из сопротивляющейся куриной гузки.
– Сплетники, что ли? – переспросила я.
– Только сплетники?! Злоумышленники!
Песя снова оглянулась, ничего подозрительного не заметила и дала словам волю.
– У Мордехая есть сын Элифаз. Полный болван. Такие должны пасти гусей и радоваться, что имеют работу. А ему захотелось идти учиться в ОРТ. На механика. Ну и какой из него механик, когда он не знает, с какой стороны кладут мясо в мясорубку? А Гершон, это мой муж, был тогда секретарем кибуца. У него золотая голова, у моего Гершона! Он должен был идти в «Гистадрут», там он стал бы большим человеком. Но для него кибуц – родная мама, разве он может бросить родную маму?! И Гершон сказал на собрании про этого подпаска Элифаза все, что надо было сказать. И его не пустили на механика. А потом секретарем стал Мордке, Мордехай. Отец Элифаза. И он дал нам ответный бой! Но разве можно сравнить нашего Абку с его Элифазом?! Абка, это мой сын, он в пятилетием возрасте разобрал папины часы. А когда ему исполнилось двенадцать, он их собрал. И часы пошли! И до сих пор идут! Абка родился, чтобы быть механиком. Он мог дойти до инженера! А Мордке его не пустил! Весь кибуц возмущался, это я тебе говорю! Но наш Абка… он похож на моего Гершона. Заводится с первого поворота и не помнит, где у него тормоз. Он собрал чемоданчик и ночью ушел из кибуца. Снял вот эту хибару и открыл гараж. Теперь он самый лучший автомеханик в Нес-Ционе! И он уже собрал деньги на настоящий гараж. Я пошла к Менахему – теперь он у нас главный. И я ему сказала: «Дайте мальчику учиться, и он вернется, и кибуцу будет от этого большая польза».
– Не дали?
– Почему же! – Песя повела головой особым жестом оскорбленной гордости, пытающейся вести себя скромно. Этот жест еврейки из лесочка оставляли для разговора об успехах своих детей и особом вкусе цимеса, сотворенного их руками. Именно таким жестом Хайка Цукер сопровождала рассказ о музыкальных успехах Малки. – Дали. Но он не взял!
Песя вспыхнула от удовольствия, как вспыхивает в печи огонь, обнаружив особо сухой и восприимчивый к горению кусок дерева.
– Почему же еврейка скандалит? – спросила я осторожно.
– Потому что они должны знать, что потеряли! – гордо ответила Песя и начала взбираться на покосившееся крыльцо.
Мы вошли в пропахшую машинным маслом комнату, явно служившую конторой.
– Располагайся! – велела Песя, сдвигая лежащие на столе бумажки к внутреннему его краю, упирающемуся в незанавешенное окно. – Я приехала сегодня рано. Взяла выходной. Абка ест всякую дрянь из соседней забегаловки. Я сварила курицу, нажарила котлет и блинов. Мой сын никогда не ходил голодным, даже в самые плохие времена. Вот видишь, – она сняла с полки старую жестяную коробку, – это очень важная вещь в доме! Я научу тебя печь мой знаменитый сливовый пирог! Все голодали, весь кибуц и вся страна. В Иерусалиме была блокада, еду давали по карточкам, а мой Абка ел сливовый пирог! Для этого пирога хватает одного яйца и одной баночки кефира. Но на двух яйцах и на сметане он просто объедение. А печь его просто. Надо взять остатки прежнего сливового пирога и раскрошить их… – Тут Песя, возившаяся с проржавевшей коробкой, наконец оторвала крышку с изображением летящего по волнам фрегата его или ее величества от подлежащей фрегату надписи: «Цейлонский чай из колоний. Лучшего качества. От королевского поставщика». – Вот, смотри! Старого пирога осталось так много, что почти не надо добавлять муки. А яйца, слава богу, теперь считать не надо. Ах, если бы Гершон согласился уйти из кибуца, каких бы я развела курочек! Разве можно сравнить эти новомодные яйца с теми, что мы ели раньше? Я сама видела, как нынешние курицы, которых держат в клетках, отворачиваются от своих яиц. Им противно такие яйца нести. А сметана?! Ты должна еще помнить вкус виленской сметаны. У меня он всегда стоит перед глазами.
Вкус виленской сметаны, очевидно, стоял перед глазами и носом Песи никогда не рассеивающимся туманом, потому что она прикрыла глаза и с удовольствием принялась внюхиваться в запах машинного масла и табака, въевшегося в мебель и стены.
– Песя, – спросила я неосторожно, – а где ты взяла первые крошки?
– Что?!
Песя неохотно вернулась с виленского рынка и поглядела на меня все еще затуманенными сметанным духом глазами.
– Я спрашиваю: где ты взяла крошки для первого пирога?
Песя озабоченно поблуждала глазами по стенам, что-то припоминая.
– Мне дала их покойная свекровь! – выпалила она наконец и вздохнула. Она знала меня с детства. И маму Хайки Гладштейн она тоже знала. И Хайку! Какая у нее была голова! Боже мой, какая голова была у моей свекрови! Она помнила все до последней минуты своей жизни! Ее уже нет с нами семь лет. – Песя поникла головой. – Я тебе скажу, – прошептала она, снова предварительно оглянувшись, – если бы Циля была жива, они бы не посмели сделать такое с нашим Абкой! Цилю в кибуце уважали. Она закончила гимназию на иврите.
– Здесь? – не поняла я.
– Почему здесь? В Вильне! Разве здесь были такие гимназии, как там?
Тут Песя в который уже раз закатала рукава вязаной кофты. Она закатывала их каждые пять минут, но рукава от этого становились только длиннее. С этим особым качеством виленской вязки я тоже была знакома с детства. Эта вязка, она как хорошее слоеное тесто, которое не нужно раскатывать. Поднимешь его на ладони, и оно само вытягивается в тонкую пленку. Вот так и виленская еврейская домашняя вязка: пока лежит себе на полке, имеет нормальный вид. Но стоит надеть это изделие, и его полы тут же устремляются к земле, а рукава к бесконечности. И сколько их ни закатывай, они от каждого такого витка несутся вниз только быстрее.
Ах, сколько таких кофт связала мне Хайка и сколько этих кофт мама с раздражением выбросила в помойное ведро! Но нет! Хайка никогда не вязала для меня никаких кофт. Не было этого! А мама точно выкинула в помойное ведро много моих вещей. Помню, что я рвалась к этим вещам и плакала. Что это было?
Пирог и впрямь спекся чрезвычайно быстро. Я еще доедала курицу, сверкавшую белизной, словно ее предварительно вымочили в хлорке, а Песя уже поставила на стол дымящийся пирог и закопченный чайник.
– Руки вымой! – крикнула она, не оглядываясь. – Это Абка, зашел пообедать, – сообщила она мне опять-таки шепотом, словно кибуцные враги ее сына могли подслушать и эти слова, обратив их ее Абке во вред.
Абка оказался крепким широкоплечим мужичком, неразговорчивым и неглупым. Он предложил отвезти меня в Ришон. Что-то там ему было нужно в любом случае, а ехать завтра или сегодня – это без разницы.
Обещав наезжать и не забывать, я стала собираться в путь, но кое-какие вещи все же требовали выяснения, пока Абка проверял почту, попивая чай и отталкивая блюдце с очевидно приевшимся сливовым пирогом, которое Песя незамедлительно опять к нему подталкивала.
– Песя, – задала я первый вопрос, – а зачем ты пошла в кибуц?
– Влюбилась в Гершона, – сладко улыбнулась Песя. Она бы, наверное, замурлыкала, но присутствие сына сдержало этот порыв. – Он был самый умный парень в нашей гимназии. И его потянуло на революцию. А Циля, его еще более умная мама, справедливо рассудила, что делать революцию для всех этих шкоцим[6] – русских, поляков и литовцев, – это все равно что скармливать Тору свиньям. Она увезла Гершона в Палестину, а он прихватил меня с собой. Ну а что тут тогда было, кроме кибуца? Эти важные дамы из Нес-Ционы, они же фыркали, когда мы шли по улице!
Пришло время второго вопроса: знает ли Песя старушку-колибри и ее шляпки, и была ли она знакома с моим французским дедом Паньолем, иначе говоря – с Пинхасом Брылей, с того момента, когда его сюда непонятно как занесло, и до того дня, как тем же манером отсюда вынесло.
– Ты имеешь в виду Розу-шляпницу? – спросила Песя с прищуром. – Ой, какие у тебя знакомые! Она же сумасшедшая! Прилетела из Парижа перед самой войной и открыла салон. И все нес-ционские дамы, все эти толстозадые лавочницы Ришона начали бегать вокруг нее на задних лапках! Ай! Она мечтала одеть в свои дурацкие шляпки всю Палестину. Но мы дали ей отпор! Это было на Пурим. Роз устроила показ моделей. Надо было видеть, как все эти богатые коровы спотыкались в своих платьях до пола с кружевами и рюшечками! А мы – кибуцницы – пришли с кастрюлями на голове. С кастрюлями, обвязанными тряпками и цветочками. И мы ходили вокруг салона этой парижской штучки и пели наши песни. И все хохотали над разряженными лавочницами. Мы победили! – гордо заключила Песя и закатала рукава кофты, вытянувшиеся за время доклада почти до колен.
– Если хочешь успеть, поторапливайся! – велел мне Песин сын Абка.
– Она еще не слышала про своего деда, – недовольно возразила Песя, – тут его звали Пиня, и он всегда хотел кушать.
– Он был влюблен в эту… Роз?
– Какая Роз! Он был влюблен в мой картофл-цимес со сливами и морковкой!
– А кем был в те времена Йехезкель Кац?
– Я не хочу о нем говорить! – Песя протестующе подняла руку. – О мертвых плохо не говорят. Но то, что случилось сегодня на улице Нахлат Биньямин, – это большое несчастье. Для всех нас и для всего еврейского народа! Пусть нашему Хези земля будет пухом!
– Что случилось сегодня на улице Нахлат Биньямин? – спросила я с беспокойством.
– Так ты не знаешь?! Хезька Кац полез в багажник за старой машинкой «Зингер», а крышка багажника вдруг закрылась и ударила его по голове насмерть. Но Абка не притрагивался к этой машине! Хезька считал, что он умеет все – писать стихи, рисовать голых женщин и чинить свой разбитый «Форд»! И вот что из этого получилось!
– У него есть наследники?
– Нет.
– И что будет с наследством?
– С наследством? Какое наследство! Пуговицы и старый «Форд»? А!
Песя раздраженно махнула рукой, и я поняла, что расспрашивать дальше неуместно.
Где теперь искать картины Паньоля? И что же теперь делать?
Абка довез меня до автобусной станции в Ришоне, и я снова толкнула дверь в шляпную лавку. Трубочки звякнули, веки птички-колибри дрогнули, александритовые глаза открылись. В них возник вопрос.
– Я покупаю эту шляпку! – объявила я, ткнув в сторону черно-фиолетового чуда.
Птичка-колибри пожала плечами и неохотно поднялась из глубин бархатно-парчового трона. Охлопала бока и вытащила из потайного кармана пачку сигарет.
– Куришь? – спросила голосом то ли охрипшим от табака, то ли осипшим от сна.
Мы закурили. Птичка курила крепкие французские сигареты «Голуаз». А лет ей было – в обед сто, а со сна так и все сто пятьдесят.
– Чего ты привязалась к этой шляпке? – спросила она, лениво доставая круглую картонку. Вернее, достала она просто кусок картона, а вместилище для шляпки умело и проворно слепила на моих глазах. Обмотанная глянцевой бумагой и лентами, картонка производила впечатление настоящей. Будто все происходило не на автобусной станции Ришона, а на рю де Риволи.
– В твоей шляпке я перемещаюсь в Париж.
Роз кивнула. Ее глаза позеленели и покрылись легким паром. В них накрапывал дождик, сверкали цинковые крыши, отражались витрины под маркизами и фланирующие парижанки. Одеты они были по моде тридцатых годов.
– Давно была в Париже? – спросила птичка-колибри, приспустив веки.
– Недавно…
– И как?
– Праздник, который всегда с тобой.
Роз кивнула и улыбнулась так, как дети улыбаются во сне. Блаженной потусторонней улыбкой. Потом мы пили крепкий кофе. Знала ли она Паньоля? Роз так решительно и зло сказала «нет!», что я даже вытаращила глаза. Она немедленно объяснила, что вообще терпеть не может художников, а парижских – в особенности, потому что это народ грубый, невежественный и ущербный. Кроме разве что погибшего сегодня Йехезкеля Каца, который, впрочем, давно уже не художник. Но когда-то он подавал большие надежды.
Что станется с имуществом Каца, Роз не знала и знать не хотела. Этим должна заняться мэрия, которой покойный сильно задолжал. Но они дерут такой налог с лавок на автобусной станции, что задолжать мэрии должен всякий. Вот ее лавка уже давно подлежит закрытию. Но за Роз вступился сам городской голова. Старый друг не дает пропасть. А его скоро сменит какой-нибудь молодой, и что тогда?! Тут Роз опрокинула в рот малюсенькую рюмочку ликера.
– Это согревает кровь! – сказала небрежно. – А как подумаешь о том, что случилось с Кацем из-за допотопной швейной машинки, кровь тут же опять застывает. Сегодня я выпила пять рюмок ликера! – добавила Роз раздраженно.
Я спросила, как выглядел парад кибуцниц с кастрюлями на головах.
– Ничего более подходящего для своих голов они выбрать не могли, – Роз удовлетворенно кивнула этому своему воспоминанию. – Это тебе наука. Если не научишься выбирать только ту шляпку, которая тебе предназначена, не справишься с жизнью. Одно расстройство останется. Ах! Если бы я могла одеть каждого в подходящую ему шляпу, жизнь пошла бы совсем по другому пути!
Александрит полиловел, заголубился и погас. Роз заснула посередине разговора, успев, однако, поставить изящную чашечку с недопитым кофе на подлокотник. А я еще долго пыталась вникнуть в то, что рассказал мне на обратном пути из Нес-Ционы Абка, сын Гершона и Песи.
– Что такое она тебе наговорила? – спросил он хмуро, имея в виду собственную мамашу. – Небось, опять про Пазю врала.
– Это какой Пазя? Который должен пасти гусей?
– Так я и знал! Пазя – это Элифаз, мой лучший друг. Таких парней поискать надо! И механик классный. Я забираю его из кибуца. Мы с ним будем партнерами.
– А как же мама Песя?
– Слушай стариков – раньше их в дурдом попадешь. Пазя спас мне жизнь в Шестидневную. Сколько я ей об этом говорил, не понимает! Рассказывает всем, что это я вытащил Пазю из горящего танка. Стыд и позор! А что можно поделать? Нас у нее было трое. Давид погиб в Синайскую, а Мотке подстрелили еще раньше в Петре. И она их забыла! Забыла своих сыновей, понимаешь?! Не было, говорит, у нее никаких других детей, кроме Абки. Ну что ты будешь делать?!
Потом Абка спросил, где я живу и что делаю. А услыхав, что и живу, и работаю у Кароля Гуэты по прозвищу Каакуа, растрогался.
– Он был нашим командиром. Он нас много раз спасал, вытаскивал из беды, понимаешь? Из большой беды. Он – во!
– А говорят, что он – человек страшный.
– Для врагов – страшный. А для друзей – лучше не бывает. Я вас навещу, – обещал Абка на прощание. – Я бы отвез тебя домой, но должен приехать клиент с машиной. Ты уж извини и передавай подполковнику большой привет.
Странная история. А что в ней, собственно, странного? Что Песя не хочет вспоминать о погибших сыновьях? Так это по Фрейду. Что Кароль – специалист вытаскивать из большой беды? Так это я и сама знаю. Только он же и специалист большую беду устроить. Поэтому прав тот, кто говорит, что от него лучше держаться подальше. Кто это говорит? А хоть бы и Женька! И тот факт, что он не сенбернар, не из этой спасательной породы и команды, ничего не значит! А я – дура! Такого мужика отдала этой арабке! И сделала это своими руками!
5. Дом и крыша
После Нес-Ционы Яффа любому покажется столицей мира. А по сравнению с Абкиной хибарой моя развалюха – дворец и чертог, даже и без крыши.
Слабое утешение, но другого у меня не было. Дом без крыши – не дом, жить в нем нельзя, ремонтировать его не на что, а надежда на заработок погибла вместе с незадачливым специалистом по пуговицам.
Но странным образом именно после неудачной поездки к безвременно погибшему Кацу у меня появилась ни на чем не основанная уверенность, что крыша сама прилетит. Ну не может же быть, что взбесившаяся крышка багажника просто так бьет по темечку своего хозяина, вследствие чего погибает моя единственная надежда жить под крышей!
У всего в этой жизни должен быть смысл. Йехезкель Кац знал, кем писаны дедовы картины. И это было плохо. Каца больше нет. Но это еще хуже, потому что картин этих тоже нет. И нет надежды устроить мистификацию, продать картины и починить крышу. Эрго, крыша должна прилететь сама. Другого просто не дано.
А пока срочно требовалось выпустить из дома воду. Дело в том, что ввиду многолетнего отсутствия крыши, комнаты превратились в пруды с илом, лягушками и ряской. Прочная арабская кладка, высокие пороги и разбухшие резные двери не давали вешним водам, несшимся с неба, стечь на землю, завершив круговорот. Из залы, над которой крыша почему-то сохранилась, вода, попадавшая внутрь сквозь зияющие окна, убегала в сад по ступенькам крыльца. А в комнатах она стояла и квакала.
По этой причине ни я, ни зловредные духи Яффы, ни муниципальные работники не могли в эти комнаты попасть. Ни я, ни мэрия даже не знали, сколько в доме комнат. Предположили, что три и еще ванная. И мэрия согласилась с Бенджи, что, пока в комнатах живут лягушки, я за них не должна платить налог.
Ясно было, что кухня есть. Дом без кухни – это еще менее вероятно, чем дом без крыши. Но где она, эта кухня, оставалось неизвестно. Сквозь выбитые окна можно было разглядеть в глубине двух комнат двери, а куда они ведут – кто знает? Может, там еще комнаты, наверняка – очаг, печь или газовая плита, но не исключается и спуск в царские подвалы, набитые сокровищами и наполненные зерном, медом и вином.
Добраться до этих дальних помещений было невозможно ни снаружи, ни изнутри. Почему изнутри, я уже объяснила. А снаружи – потому что задняя часть дома была плотно охвачена могучими и непроходимыми зарослями, вырубить которые я не решалась. Там сплелись сладко пахнущий персидский жасмин, плющ, невиданной мощи местный вьюн с огромными лиловыми цветами и еще какие-то кусты и деревья. И зачем их вырубать? Красота-то какая! И то сказать, не за ночь же они выросли, эти заросли, прикрывая замок уколовшейся о веретено дурочки. Кто-то их сажал. Стал бы он сажать жасмин перед дверью и плющ перед окнами, чтобы они оплели и закрыли на века все входы и выходы?