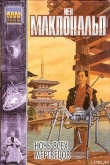Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Когда удавалось заснуть, спала. Когда меня выворачивало наизнанку, с трудом добиралась до унитаза. Когда сознание уплывало в полумрак, плыла за ним. А в перерывах думала о Малахе Шмерле, вернее, о деде и его творческих загадках, а также решала свою: ехать ли в Париж, потратив на это путешествие весь отложенный капитал, то есть семьсот долларов, на которые я собиралась завалить свой дворец рухлядью, купленной на рынке? Пока что удалось приобрести только кровать и обеденный стол. А шкаф? А диван в гостиную? Обязательно – зеркало. Даже два: в спальню и в гостиную. Вешалку. Кресла. Стулья. Журнальный столик. И большой письменный стол. Без всего этого мой дом все еще был не домом, а пристанищем. Нет, хватит гоняться за Паньолем. Напишу Соне письмо и буду дожидаться ответа.
Вообще-то Соня отвечала на письма неохотно. Но, начав писать, не могла остановиться. А на вопрос о Шмерле разразилась целым памфлетом, из которого выяснилось, что Малах был деревенским дурачком в местечке под Варшавой, куда семья Брылей выезжала на вакации. Он был не простой дурачок: умел превращать сухих коров в дойных и играл на дудочке. Но попал под телегу и погиб. А Паньоль, писала Соня, утверждает, что Малах Шмерль погиб в Испании за пролетарское дело, с чем она, Соня, категорически не согласна. О смерти Шмерля под телегой она узнала от Каськи, которой можно верить гораздо больше, чем Пине. Правда, муж Сони, воевавший в Испании вместе с Паньолем, знал какого-то Малаха Шмерля, но говорить на эту тему отказывался. А Пиня звереет, когда с ним начинают говорить об Испании.
Письмо это лишило меня покоя надолго. Если допустить, что Соня говорит дело, художника Малаха Шмерля никогда не было. Паньоль взял себе этот псевдоним, использовав запомнившееся с детства имя деревенского дурачка. Но тогда в Испании воевал только Паньоль-Шмерль. То, что он воевал под чужим именем и с чужим паспортом в кармане, не подозрительно. Не он один воевал там именно так. И даже если он уже тогда был коммунякой и энкаведешным наемником, меня это не касается. Но если Паньоль и был Шмерлем, кто писал картины, подписанные этим именем?
Хорошо, согласимся с тем, что в 1935 году Паньоль еще верил в свои силы и умел расправить крылья, что кисть художника слушалась сердца, сердце – своей особой правды, а потом этот талант пропал. Правдоподобно? Нет. Вот это уже совершенно нелогично.
Талант, конечно, может пропасть. Выдохнуться, захиреть, сломаться под давлением обстоятельств. Вот и Чума больше не берет в руки кисть. Не берет – в этом все дело. А Паньоль-то с кистью не расстается, но ничего похожего на свои палестинские картины создать не может. В его нынешней мазне нет и намека на тот, прежний, необычный взгляд на мир. И нет былого умения этот мир передать в цвете, форме и композиции. Значит… значит, придется вернуться к мысли, что был такой художник – Малах Шмерль. Не тот Малах, который погиб под телегой, а другой, присвоивший его имя и погибший в Испании. Тогда по какому праву Паньоль распоряжается его картинами?
Оставим этот вопрос в стороне. Паньоль явно не хочет раскрывать тайну, поэтому бегает от меня, как от чумы или другой эпидемии. Ну и ладно! Я же с самого начала собиралась создать мифическую личность под названием Малах Шмерль. Если такой художник и впрямь существовал – чем это мне мешает? Паньоль в любом случае не должен был фигурировать в нашей истории. Он и не будет фигурировать.
Мы решаем, что Малах Шмерль все-таки не попал под телегу, несмотря на свидетельство какой-то Каськи, и не покоится на деревенском кладбище в каких-то Ясеницах. И даже если на этом кладбище есть надгробный камень с его именем, западным искусствоведам еще надо доехать до Ясениц, которых ни в одном справочнике нет. Соня и сама нетвердо помнит, как называлась деревня, в которой отдыхала семья Брылей.
Идем дальше: в тридцатых годах Малах Шмерль притащился бог весть откуда в Палестину. И тут же написал около сорока замечательных работ, одна – просто гениальная. И еще оставил энное количество акварелей и эскизов, весьма профессиональных. Не обучавшись до того живописи?! Чушь!
Значит, обучался. У кого?
Месяцем раньше я была бы готова придумать никому не известную художественную школу в Ясеницах, все ученики и учителя которой погибли, картины – пропали, а свидетели повесились. Но теперь настоящий Малах Шмерль захватил все подступы к моему сознанию. Я не хотела больше ничего придумывать. Мне стало необходимо обнаружить правду.
А правда состояла, очевидно, в том, что кто-то, присвоивший себе имя городского дурачка из Ясениц, жил короткое время под этим именем, проехал через Палестину, дружил с Паньолем и Йехезкелем Кацем и погиб в Испании. Почему же его не помнит Песя, кормившая Паньоля цимесом? Или Роз, служившая в тот же период времени моделью и для Паньоля, и для Каца, и, судя по одной картине, для самого Шмерля? А может, помнят, но по какой-то причине не хотят об этом говорить?
Нет, как себе хотите, а поиски в районе Нес-Ционы и Ришона следовало расширить и углубить. Хорошо бы тут же уехать назад в Израиль, но обратный билет требовал от меня кантоваться в Канаде еще трое суток, иначе надо было платить немалый штраф. Значит, надо идти искать харчевню и развлечения в Монреале, потому что я не ела двое суток и потому что мне надоело думать о Малахе Шмерле. В таком состоянии легко наступить на грабли, что я и сделала.
Лифт долго не поднимался, а поднявшись, привез странного типа. Тип был очень высокого роста, поэтому создавалось впечатление, что он держит крышу лифта на своих плечах. Увидев меня, гигант улыбнулся. Не улыбнуться в ответ было невозможно, таково было свойство его улыбки. Она спустилась сверху на мою щеку и расплылась по ней, оставив ощущение талой воды. Потом опустилась вторая улыбка, за ней третья. Когда лифт дополз до фойе, снегопад из улыбок прекратился так же внезапно, как и начался, но все вокруг оказалось залито улыбчивым радостным светом.
– Я – вождь индейцев, – сообщил гигант.
– Очень приятно. А я – королева Англии.
– Я действительно вождь индейцев. Ищу компанию на вечер. Пойдете со мной?
– Смотря куда. Но до вечера далеко. Могу составить компанию на ланч.
– А потом?
– Про «потом» я еще ничего не знаю. Если честно, у меня предубеждение против вигвамов и томагавков. И против самураев тоже.
– Вы видели живого самурая?
– Пока самурай жив, нельзя знать, самурай он или нет.
Вождь индейцев снова улыбнулся. Эта улыбка казалась уже не снежинкой, а стрекозой. Она сверкнула крыльями и исчезла.
– Тут за углом есть прекрасный ресторан. Французский. Пойдем?
Читатель, однажды уже последовавший со мной за незнакомым атлетом в Яффу, может подумать, что таков мой жизненный обычай: доверяться первому встречному двухметровому столбу и не думать о последствиях. Это неправильная точка зрения, хотя и не лишенная определенной справедливости. Мне нравятся большие мужчины, гиганты, облепленные мышцами, эманация мужской силы. Но именно с такими встречными-поперечными я обычно бываю особо осторожна. Приказывать сердцу – искусство, которым я владею плохо. Поэтому там, где соблазн изначально велик, я немедленно строю стену, а дверь в ней прорубаю медленно и осторожно.
Но есть мгновения, в которые большой мужчина может застать меня врасплох. Не хочется вспоминать, как выглядело то ленинградское утро, в которое мне встретился мой бывший муж. Оно не слишком отличалось от кошмарного полдня, в который я вышла к тель-авивскому пляжу, чтобы встретить Женьку, или от утра в монреальской гостинице, когда лифт подкинул мне вождя индейцев.
Эти особые мгновения имеет смысл описать. Читателю предлагается представить себе мир после потопа, а в нем все в беспорядке: земля не отделена от суши, воды от неба и свет от тьмы. И на этом фоне вдруг возникает силуэт последнего человека, причем силуэт этот так огромен, что занимает собой все окружающее пространство. Это особый соблазн, соблазн безвыходности и страха перед ней. Жизнь представляется в виде западни, склепа, волчьей ямы. И необходимо отодвинуть огромный камень, плиту, крышку гроба, потому что воздух кончается. А задача непосильна. В такой момент двухметровый вождь индейцев выглядит посланной свыше подмогой.
И кому какой вред, если три лишних дня в Монреале я проведу, скажем так, безнравственно? И кто об этом узнает? Впрочем, ничего безнравственного, кроме этой, пролетевшей по диагонали, мысли так и не случилось. Вождь индейцев не был красавцем, и со второго взгляда мне вовсе не понравился: лицо не прорисованное, грубое, я бы сказала, идолоподобное. Тело большое, вздернутое вверх, но не массивное. Нарочито тощее и скандально поджаристое. Да еще нижняя губа презрительно оттопырена. Весь из себя – оскорбленное достоинство. Если бы не улыбка, просто отталкивающее лицо.
Съесть антрекот в компании этакого идолища – дело ненаказуемое. А о большем я не то что не загадывала, а заранее решила – не будет! И зря Кароль потом приписывал мне безответственность в особо крупных размерах, тогда как я вела себя очень даже ответственно: не позволила этому Тони платить за себя, пила только легкое вино и вела на удивление светскую беседу.
Вождь индейцев рассказал, что живет где-то на севере Канады, рядом с нефтяными вышками, построенными на земле, принадлежащей его племени. Старый вождь, отец Тони, потому и послал сына в Гарвард, заложив золотые семейные реликвии, что надеялся отсудить нефть и вышки. Но был согласен и на долю в государственных барышах. Не для себя, а для всего племени. На эти деньги старый вождь собирался построить школу не хуже английского Итона и посылать ее выпускников в Гарвард с тем, чтобы они потом могли баллотироваться в конгресс и сенат.
Выглядело это жутко благородно, и Тони почитал отца как святого. В университете он учился на адвоката, и учился неплохо. Сам Тони прилагал к этому не так уж много усилий, но ему помогали все кому не лень, да еще заставляли помогать и тех, кому было лень, потому что на глазах у восторженного общества совершалась историческая справедливость: абориген превращался в человека!
Мне стало интересно, кокетничает ли вождь индейцев, принижая собственные интеллектуальные достижения.
– И что, так-таки все тебя любили и почитали за своего? Вот прямо расползались в глину от счастья, что какой-то краснокожий ведет себя как белый человек, а в науках его даже превосходит?
Тони потемнел лицом, обмакнул рот платком, спрятал в платок улыбку и поглядел на меня из внезапно запавших глазниц, как змий глядел на Олега из конской черепушки.
– Не смей говорить «краснокожий»! – сказал он с придыханием.
– Мне можно, я – жидовка!
Вождь откинулся на спинку стула, поглядел на меня с изумлением и вдруг затрясся мелким смехом. А отсмеявшись, сказал с неожиданной злостью в голосе:
– Ваши – всех хуже. Подают милостыню крупными купюрами.
– Откупаются, но не от тебя. Твои индейцы, когда позаканчивают Итоны и Гарварды, будут поступать так же.
– Значит? – спросил вождь и хищно чмокнул, дожидаясь нужного ему ответа. Что он хотел услышать, я не знала, а догадываться не хотела.
– Значит, так устроен мир. Либо ты берешь милостыню и молчишь в тряпочку, либо не берешь и изрыгаешь пламя. А результат от этого не меняется. Как тебе удобно жить, так и живи.
– А ты, ты как живешь?
– Я от природы неулыбчивая. Мне плохо подают.
– Да уж… – согласился вождь и занялся ростбифом.
Я заметила, что он пьет много, но не пьянеет в привычном понимании слова, а наливается мраком. Когда мрак заколыхался на уровне его плеч, я решила, что пришло время бежать. И убежала.
Но наутро в номер внесли огромный букет желтых роз. А когда я спустилась в фойе, Тони уже валялся на банкетке под лестницей и испускал улыбки. Улыбки кружились по фойе, садились на голые плечи регистраторши, взъерошенные волосы рыжей служащей и форменные фартуки уборщиц. Они вымаливали ответное движение души у персонала и даже заставили рассеянно улыбнуться деловую даму с кожаной папкой подмышкой.
– Я ищу лобстера, – объявила я строго.
Тони задумался, посчитал в голове, проверил на костяшках пальцев и объявил, что месяц нелобстерный. То, что август – месяц нераковый, поскольку в нем нет буквы «р», я знала. Очевидно, лобстеров высчитывают по тому же признаку. Раки они и есть, только большие! Интересно, как обстоит дело с лангустами?
– Мне сказали, что в Канаде необходимо попробовать лобстера, – заупрямилась я. – У нас они безумно дорогие.
– А здесь в это время года они не свежие, а мороженые, – заупрямился и Тони. – Сейчас хороша птица.
Я решила съесть лобстера в одиночестве и незамедлительно, но потом передумала и отправилась звонить. В списке, полученном от Кароля, одна фамилия была подчеркнута красным карандашом. А наверху было написано: «От Мары. Передать синий пакетик». Подавая его мне, Мара залилась жаром и сказала: «Это для Карен, жены самого богатого и влиятельного еврея Канады. Передай, что я ее люблю. Но постарайся вручить подарок не ей, а ее мужу, Саймону. И прислушайся к его советам. Саймон может все!»
До самого мистера Саймона Кушнера я по телефону не добралась, но секретарша обещала все выяснить и обо всем доложить, в связи с чем мне пришлось остаться в номере. Тони расположился было в кресле, но я его выставила. Разговор с мистером Кушнером не предназначался для посторонних ушей. Ответный звонок не заставил себя ждать. Мистер Кушнер будет счастлив побеседовать с вестницей от Мары через сорок пять минут. Я так торопилась, что не заметила, как Тони оказался в такси.
– Ты куда? – удивилась уже в пути.
– Я тебя подожду, потом пойдем есть перепелок.
Саймон Кушнер оказался крупным вальяжным мужчиной лет шестидесяти. Его кабинет – дерево, стекло и кожа – производил нужное впечатление. От Кушнера пахло не только деньгами, но и умением эти деньги тратить. Он разорвал обертку, открыл картонную коробочку и внимательно рассмотрел прелестную арт-декошную брошь с рубинами, жемчугом и алмазами. Я помнила эту вещицу, сама и указала на нее Маре в антикварном магазине Шнейдера. Стоила она десять тысяч долларов. Шнейдер не спустил ни копейки, утверждал, что на аукционе может получить больше. И мог! А я швыряла сумочку, в которой лежало такое богатство, на все кресла. И в туалет в самолете ходила без нее. Ну Мара! Хоть бы сказала, что я везу в этом пакетике.
Самому влиятельному человеку Канады подарок понравился. Он даже замурлыкал.
– Карен обрадуется. Это красиво. Мара понимает в красивых вещах. А что у нее слышно?
Мара не наставляла меня относительно этой части разговора с Саймоном Кушнером. Черт его знает, кем он ей приходится, что можно рассказать, что – нет. Но Кушнер был настойчив. Я дала самую лестную характеристику Каролю и описала их брак в мажорных жизнеутверждающих тонах.
– Так ему и надо! – вспыхнул мистер Кушнер.
– Кому? Каролю?
– Так ему и надо, моему кузену! Отпустить такую женщину, как Мара, это же надо быть полным дураком! Дурак он и есть, – засопел мистер Кушнер и почему-то загрустил.
Потом вспомнил обо мне и спросил, попыхивая сигарой, что привело меня в Монреаль. При этом его серые глаза покрылись поволокой, а мысли явно бродили черт-те где, так что я могла говорить о делах, а могла и прочитать лекцию о пользе льняного семени. Но я все-таки заговорила о делах. Как это получилось, не знаю. Мистер Кушнер подавлял своим видом и авторитетом. В нем было что-то от главнокомандующего. С такими людьми не спорят. Велено рассказать, значит, нужно выложить все как на духу. Я говорила, говорила, потом замолкла. Молчал и мистер Кушнер.
Вдруг он оживился. Глаза снова видели, и уши слышали. Оказалось, они, эти уши, не пропустили ни одного моего слова.
– Значит, ты внучка Паньоля! – удивился Кушнер. – Надо же! А я и не знал, что Паньоль был женат. Мы считали, что он… немножко педераст. Твой дед – жулик! – вдруг взвизгнул мой визави и гулко расхохотался. – Впрочем, я тоже жулик, – добавил он, отсмеявшись. – И в конечном счете я обманул Паньоля.
Рассказывать, почему мой дед жулик и как мистер Кушнер его обманул, мой визави явно не собирался. Попробовать все же стоило.
– Оставь, – усмехнулся Марин приятель. – Талмуд говорит, что там, где собираются два еврея, правды нет, потому что даже если один говорит правду, второй этого не подтвердит, а один свидетель – не свидетель.
Он нажал на кнопку звонка. Вошла постная барышня в юбке до пят и жакете, не позволяющем догадаться, как выглядит то, что под ним. Она положила несколько папок на стол Саймона Кушнера, сказала, что ланч уже в пути, и вышла, аккуратно и бесшумно прикрыв за собой дверь.
Кушнер проследил направление моего взгляда и точно определил содержание мыслей,
– Моя жена Карен не хочет рисковать, – хохотнул он. – Она сама выбирает моих секретарш и предпочитает религиозных. А вот и ланч!
Внесли блюдо с бутербродами и бутылки с соком. Из одной булочки вылезало красно-белое крабье мясо. Я нацелилась на нее, но Кушнер перегнулся через стол и перехватил добычу. При этом он явно развеселился. Подмигивал и похохатывал. Пришлось жевать пресную говядину с не менее пресным огурцом.
– А что это за человек ждет тебя в приемной? – спросил Саймон Кушнер, когда мы уже собирались расстаться.
– Меня?
– Какой-то индеец.
– Ждет? Я его не приглашала! Привязался в гостинице.
– Ты с ними поосторожнее! Я попрошу моего сотрудника избавиться от твоего спутника и проводить тебя до места.
Толстенький коротконогий сотрудник по имени Вэнс доставал Тони до подмышки. Он не слишком радел, выполняя поручение босса. Подвез нас на своей машине до гостиницы и испарился, оставив меня на попечение все того же двухметрового вождя индейцев.
Не стану пересказывать в деталях, как мы с Тони ели канадских перепелок, катались на канадских горках, посещали музей канадской истории и летели в Торонто на частном самолете. Тони объявил, что его дела в Монреале закончились, вернее, у них не было шанса начаться. А дела были такие: старый вождь помер, теперь вождем стал Тони, он пытался отсудить вышки, но все двери захлопывались прямо перед его носом. Одно дело – помочь индейцу пройти через Гарвард, другое – отдать ему канадскую нефть. Теперь путь вождя лежал в Торонто, и что мне до этого? Я даже гостиницу там не заказывала, поскольку самолет вылетал в Израиль в девять вечера. Мы с Тони только и успели, что побродить по городу и съесть мороженого лобстера в шумном заведении, нашпигованном юными ослами и ослицами в разномастных джинсах, мотавшими головами под оглушительные звуки налетающего со всех сторон рок-н-ролла: «И-о! И-о! О-е!»
Но, обнаружив Тони рядом с собой в самолете, летящем в Тель-Авив, я испугалась.
– А в Израиле тебе что надо?
– Хочу посмотреть. Давно хотел. Покажешь мне ваш Иерусалим?
– Я его не знаю.
– Значит, будем осматривать вместе.
– И когда же ты успел получить визу?
– Я гражданин США. Мне виза не нужна.
– Как знаешь, только я тебя не приглашала. У меня дел невпроворот, и болтаться с тобой по Израилю мне некогда.
Мы проболтали все то время, что не удавалось заснуть. О чем болтали? О всякой ерунде. Я подробно изложила израильскому агенту национальной безопасности все повороты и загогулины этой беседы, более того, почти дословно ее записала и расписалась. Скорее всего, этот документ все еще желтеет в папочке под грифом «совершенно секретно». Но это было потом. А сразу по прилете Тони пошел к стойке билетного контроля для иностранцев, я же пристроилась в длинную и шумную очередь израильтян. Стояла и думала, как отвязаться от индейской каланчи. Решила действовать грубо и напрямик. Но получилось худо.
Девица в окошечке повертела в руках мой паспорт, куда-то позвонила и попросила подождать. Тут же возле меня выросли мальчики в одинаковых голубых рубашках и попросили пройти. Я вошла в кабинет в три тридцать, а к семи попросила вызвать Кароля. Меньше всего мне хотелось запутывать его в эту историю, но выхода не было.
По словам лысого и коренастого дяди из ШАБАКа, я привезла с собой в Израиль опасного международного террориста, разыскиваемого Интерполом. Дядя утверждал, что террорист объявил меня своей невестой. А в портфеле террориста нашли… в общем, что-то нехорошее.
– Бомбу? – спросила я по глупости, и тут же последовал шквал вопросов: о какой бомбе речь, почему я подумала о бомбе, говорили ли мы о бомбах?
Поди объясни, что я в жизни не видела настоящей бомбы, а если увижу, не смогу отличить ее от консервной банки. Что ни о каких бомбах речи между мной и этим Тони не было. Речь шла о лобстере. А про бомбу я ляпнула просто так, не подумав, да и о чем тут думать вообще?! Но лучше уж не упоминать и лобстера, они могут подумать, что это какой-то код. Поди знай, что они могут подумать о том, о чем я либо вообще не думаю, либо думаю совершенно иначе. И тут, запутавшись во всем и не понимая, что происходит, я вспомнила о Кароле.
Он приехал, долго и внимательно слушал, что говорит ему дяденька из ШАБАКа, потом сам произнес короткую речь. Все это происходило за бетонной стенкой с врезанным в нее окном. Слов я не слышала, со своего стула не сходила и видела в окно только то, что было видно со стула.
Это ж надо! Привезти в Израиль международного террориста! Он мог меня застрелить, между прочим, отомстив белым и особенно евреям за хорошее к себе отношение. Мстить мне за канадскую нефть было бы глупо. Я к ней непричастна. А мог взять меня в заложницы и стрелять из-за моей спины. Господи! Да этот жлоб мог сделать все что угодно! Проклятая нефть, видно, сковырнула его с рельс. Он же чокнутый! А я тут при чем?! И что я должна была делать? Звать полицию уже в гостиничном лифте? Спрятаться за спину коротконогого Вэнса и не выходить из его машины? Кстати, в качестве причины для посещения Канады я назвала визит к Саймону Кушнеру. Глупо, конечно. Самого влиятельного гражданина Канады впутывать в эту глупую историю не следовало.
Оказалось – следовало. Меня не отпустили, пока не позвонили этому Саймону. Тот мои слова полностью подтвердил. Тогда дверь в комнату открылась, и Кароль коротко бросил:
– Пошли!
Меня отдали ему на поруки, попросив подписать декларацию о невыезде. Я подписала. С удовольствием. Ехать я никуда больше не собиралась. Пропади оно все пропадом!
Всю дорогу из аэропорта Кароль сосредоточенно молчал. Разговорить его мне не удавалось. Но стоило нам войти в дом, как Кароль разорался. Он орал, что ему надоели эти русские идиоты с их проблемами, что он хочет жить спокойно, что хватит и точка, и я могу убираться ко всем чертям, но из дома – ни ногой, сидеть в лавке, не поднимая глаз, и черт его дернул со мной связаться!
Надо сказать, я его понимала. Но может и он понять меня! Я ничего не сделала, ни в чем не виновата, я даже рада, что стала невыездной, потому что каждая поездка – это очередная неприятность. Откуда я могла знать, что этот вождь индейцев международный террорист? Да и это еще надо доказать. С чего бы такой тип полетел в Израиль под своим подлинным именем? Впрочем, я не знаю, какое имя у него подлинное, какое – нет, и мне нет до этого никакого дела! И что это за мир, в котором нельзя съесть в компании незнакомого человека жесткую перепелку, чтобы не попасть после этого как кур в ощип?!
Тут я разревелась, что вообще-то мне несвойственно. Кароль отступил, зато стала наступать Мара.
– И почему это необходимо трахаться с первым встречным!
– А я с ним и не трахалась!
Тут Марины и без того круглые глаза превратились в блюдца.
– Не трахалась? Так что же вы делали?
– Разговаривали.
– О политике?
– О политике тоже. Но больше о нефтяных вышках.
– И что ты ему рассказала об Израиле?
– Не помню.
Мара посмотрела на меня как на больную и вышла из комнаты на цыпочках. Кароль тоже исчез. А я сидела и сидела в пустой комнате, по которой гулял морской ветер, слушала всхлипы моря и вдруг решила поехать к Женьке. Оставила записку, где я, чтобы не стали искать меня через Интерпол, выскользнула из дома, села в такси и назвала адрес.
Вы скажете – дался мне этот Женька! Да в том-то и дело, что не дался. Ускользнул, убежал, вырвался из рук. А кто кроме него у меня есть и кто еще может меня понять? Цукеры? Так я же не поеду к ним после того, как ухитрилась притащить в Израиль международного террориста! У людей могут случиться из-за меня неприятности. А Женьке уже ничто не может повредить. Ему и объяснять много не придется. Он с трех слов все поймет. Маре, Каролю и лысому дяденьке из ШАБАКа не объяснишь, что для бывших советских граждан угнетенный индеец – это низшее млекопитающее, с которым полагается курить трубку мира, многозначительно покачивая головой?! И что всерьез такого типа никто не принимает. Кто же мог подумать, что эти монтесумы все еще охотятся за скальпами? Кому бы такое в голову пришло?! Они же погибают в своих резервациях от пьянства и чесотки! А потом – вождь индейцев! Как можно отказать себе в удовольствии преломить с ним мороженого лобстера во славу Фенимора Купера?! Но чтобы это трахаться с индейцем, кому такое в голову придет?! Нет, Женька должен меня понять, а другие – не могут.
Правда, я Женьку предала. Позволила загнать к Абке. Тоже своего рода резервация. Но и он поступил со мной плохо, мы, выходит, квиты.
И что он мне такого плохого сделал? Ну не стал он драться с Мишкой. А я бы хотела, чтобы они подрались? Мне оно надо?!
Когда Мишка потом приполз ко мне мириться и просить прощения, он же его получил! Главное – остаться друзьями. Мишка тоже парень нехлипкий. Если бы Женька полез защищать мое достоинство, а Мишка в пылу своей дури его бы покалечил, – что тогда? Разве я бы этому идиоту своему бывшему не носила в тюрьму передачи, не нанимала адвоката? И к Женьке в больницу тоже бы бегала. Так мы устроены – я, Женька, Мишка. А Кароль и Мара устроены иначе.
А теперь что? Женька копается в моторах, пьет, чего раньше не делал, и никак не может выйти из пике. Летит вниз и думает только о том, чтобы все скорее кончилось. Бам! И дым пошел.
Я и не заметила, как обгрызла себе пальцы до крови. Не обратила внимания и на время. И получилось так, что оказалась в четыре часа утра напротив ветхой избушки на окраине Нес-Ционы. Уселась на кривую скамейку под косым окошком. Что и говорить: руки у Абки золотые, но глазомер латунный, поддержанный кибуцной психологией: красота и пропорции значения не имеют, абы оно держалось и кое-как выполняло возложенную на него функцию. Окошко открывается и закрывается – уже хорошо. А что оно вставлено по диагонали – какая проблема? И на кособокой скамейке можно же сидеть, не сползая, если крепко упереться ногами в землю. Чего еще надо!
Нет, Нес-Циона, конечно, не пустынь, и местные муравьи, которых Песя называет муравчиками, они не акриды, кусавшие пустынников. Но я же и не приехала очищаться от грехов! И потом – не акриды питались пустынниками, а как раз наоборот. И мне тошно и зябко. Собаки не лают. Месяц не светит. Уличный фонарь, как всегда, не горит. Господи, какая тишина! И какой воздух! Густой, настоянный на испарениях близлежащих апельсиновых плантаций, с примесью кипарисного духа… Вот накатила волна цитрусовой сладости, а вот и запах выпечки. Значит, хозяин пекарни уже приступил к работе.
Внюхиваясь в запахи, я не заметила, как на крыльце появилась тень. Почувствовала запах табака. И поняла, что это Женька. Вообще-то он бережет свои легкие, без них о подводной охоте и думать нечего, но по ночам выходит покурить. Раньше устраивался на палубе «Андромеды». Теперь вот на кривом крылечке.
– Как съездила? – спросил Женька хриплым голосом.
– Плохо. И еще привезла с собой террориста.
– Под дулом? – в голосе Женьки послышалось неподдельное беспокойство.
– Нет. Увязался. Я думала: так, дурак, и делать нечего. Назвался вождем индейцев. Болтал всякую чушь. А у меня в этом Монреале ни одной знакомой души. Я думала, шутка. А он потащился за мной в Израиль да еще объявил себя моим женихом. Пришлось дать подписку о невыезде.
– Ерунда какая-то. А зачем его впустили, если знали, кто он? Ловили, что ли, на живца? Так тебе за это еще и премия положена. А сюда зачем?
– Решила, что ты мне нужен. Хочу забрать тебя в Яффу.
– Куда это? – ухмыльнулся Женька. – Или ты уже заработала на дом?
– Еще не заработала. Одолжила. А еще и отремонтировала в долг. Но ты не думай, я и без тебя его выплачу. Если, конечно, Кароль не выгонит меня ко всем чертям после этой истории. Он взял меня на поруки.
– Не выгонит, – сказал Женька твердо. – Ты несешь золотые яйца. Чего тебя выгонять? А в эту историю с террористом он не верит. Так, пугает, чтобы покорнее была. А насчет того, что ты сказала… Я и сам об этом думал. Глупо все получилось.
– И Луиз?
– И Луиз тоже, – вздохнул Женька. На этих словах он посадил голос и долго молчал. Я не перебивала. – Но знаешь, – начал он почти шепотом, постепенно взвинчивая голос, пока тот не окреп и не дошел почти до крика, – знаешь, я понял очень важную вещь: жить надо набело!
– Это как?
– Помнить, что то, что сделал сегодня, завтра ластиком не сотрешь.
– Глубокая мысль. А если послезавтра окажется, что и стирать не надо? Что тогда?
– Тогда лучше повеситься, потому что ни в чем не будет смысла.
– По мне, так оно и лучше.
– Ну что ж, – сказал Женька раздумчиво, – поживем, увидим. Сейчас ты меня не убедила, но спорить рано. Пойду приготовлю кофе. Пошли в дом.
– Абки нет?
– Они уехали джиповать пустыню. Собрали черт знает из чего джип и укатили. Счастливые, как дети.
– Тебя не взяли?
– Предлагали. Не захотел. Они хорошие ребята, но… Не знаю. Я вроде как знал, что ты приедешь. Мне этого очень хотелось. Мишка твой приезжал. Нашел себе кралю, интересуется, как решишь с квартирой. Тебя нет, Кароль его выставил, вот он и приехал ко мне.
– И что?
– Я ему сказал, чтобы убирался к чертовой матери вместе с этим подарком от Еврейского агентства.
– Смело.
– Ошибка?
– Нет, все нормально. У меня же есть дом. Кроме того, Мишка твоим согласием не удовлетворился, разыскал меня.
Мы пили кофе и молчали. Все произошло так просто, словно иначе и быть не могло. А может, действительно не могло. Бедную Луиз, конечно, жалко. И пока мы будем учиться жить набело, хорошо бы ее родичи поучились, как пользоваться ластиком. Очень уж она суровая, эта жизнь под копирку и без исправлений. Эх, Женька, Женька! Итака приветствует тебя. И все твои приключения – псу под хвост. Несчастной Луиз как не было. А что ты вынес из своей Одиссеи? Банальную задумку о жизни не по лжи? Выеденного яйца она не стоит, эта твоя благоприобретенная мудрость. Но положимся на время, оно от любой дури лечит.