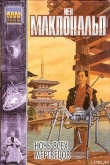Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Грузин персы в коалицию не брали принципиально. Грузины были подозрительны, и персам они были подозрительны, и старьевщикам, и «салонике» тоже. Кроме того, их было трудно отличить друг от друга. А еще шел слух, будто они убивают конкурентов исподтишка и закапывают трупы на пустырях. Трупов никто не видел, но слухам верили.
Такая вот чехарда. И если верить предсказаниям Бенджи (а если не верить ему, кому же тогда верить?), рынок не собирался успокаиваться в ближайшее время, а сколько это ближайшее время продлится, не знал никто. А это означало, что пользоваться прикрытием Бенджи стало небезопасно. Теперь он многим на рынке не друг и не судья, а враг. И мне придется самостоятельно выйти на тропу войны. Заводить новые знакомства, не вступая ни в какие коалиции, и камнем падать на любую добычу. А добыча ждала в каждом углу, потому что, когда рынок так бурлит и продавцы настолько заняты междоусобной войной, цены и товары остаются без присмотра.
Складывавшиеся и распадавшиеся коалиции отвлекали внимание старейшин от дела и взвинчивали молодым нервы. Опытный глаз не успевал оценить ситуацию и товар, а неопытный не знал, что к чему, но хотел воспользоваться внезапно появившейся свободой. Поэтому дорогие вещи уходили за бесценок, а хлам взлетал в цене.
Плохое время для рынка. Зато хорошее для коллекционера и непредсказуемое для скупщиков невысокого ранга вроде меня. Рынок знает и уважает коллекционеров, владеющих большими коллекциями. А скупщиков, имеющих богатую клиентуру, он уважает даже больше. Их впускают с заднего хода и шепчутся с ними за закрытыми дверьми. Но дурашки вроде меня, не имеющие доступа к оптовым сделкам и рассчитывающие самостоятельно найти клад, не распознанный торговцами, на рынке гости нежелательные.
Хорошо купить, чтобы хорошо продать, можно было только у мелких торговцев, старьевщиков, грузин и начинающих антикваров, не знающих вещам цены или спускающим ее из принципа. Старые торговцы в такие времена как раз прячут хорошие вещи, торгуют барахлом и развлекаются участием в войнах, потому что антиквариат держит цену не хуже золота, а порой и лучше него. Их банковские счета это позволяют.
Но старьевщики, грузины и мелкие торговцы ждать не умеют и не могут. Эти господа не признают власть Бенджи, так что в их компании не стоит выставлять знакомство с ним. А поскольку они ничего не знают ни обо мне, ни о лавке-галерее Кароля, а люди Бенджи им об этом не расскажут, лучше всего прикинуться не скупщиком, а коллекционером-лохом, энтузиастом, которому легко впарить что угодно.
Такой коллекционер не должен быть распознан. Никто не должен догадываться, что он понимает что-нибудь в клеймах, формах, фактуре и расцветке, исторических периодах, камнях, фарфоре, да в чем бы то ни было. Коллекционер-лох должен вызвать доверие торговцев своей неопытностью и бестолковостью, чтобы в конечном счете купить по дешевке дорогую вещь.
Это – особое умение. Заметив на прилавке желанную игрушку, коллекционер должен сразу потушить голодный блеск в глазах, пройти мимо, вернуться и начать торговлю с чего-нибудь совершенно другого. Следует иметь вид последнего идиота и знать, когда нужно безнадежно ошибиться в оценке этого побочного товара, ошибиться так, чтобы продавец вконец успокоился и перестал подозревать в тебе знатока. Только тогда удается купить то, что хочется.
Но на сей раз мне попался незнакомый продавец, горячий, как молодой осел. А вещи у него были интересные. Тот самый палестинский и ранний израильский китч, о котором шла речь выше и который я уже превратила в дорогостоящую иудаику для знатоков. Рынок, исключая Бенджи, об этой моей находке еще не знал. Знали, что я скупаю такое барахло, и охотно мне его продавали за копейки.
Но к тому времени я оказалась в сложном положении. То ли выход мелкой бронзовой скульптуры в предгосударственной Палестине был столь ограниченным, что я уже скупила все мало-мальски стоящее, то ли владельцы этого барахла и старьевщики даже не подозревали, что на него есть покупатель, и не выкладывали этот товар на прилавки, но проходила неделя за неделей, и ничего значимого на рынке не появлялось. Я уж подумывала, не перекинуться ли к грузинам, остро нуждавшимся в знатоке-перекупщике, но этой надобности пока не осознавшим, как вдруг передо мной оказалось сокровище. Кто-то явно собирал бронзовые китчевые поделки, а возможно, и сам их производил.
Впечатление было такое, словно в лавку, возникшую ну прямо на днях, опустошили целую мастерскую. А продавец называл цены с потолка и отчаянно торговался. Я отступила и пошла к Бенджи пить кофе и производить рекогносцировку.
Разумеется, Бенджи знал этого перса, но вмешиваться не захотел. Парня зовут Мордехай, называют Мордук. Он происходит из боковой ветви противоборствующего Бенджи клана, ветви, которая досель занималась собиранием старья по домам. Этих персов-надомников не надо путать с хозяевами лошадок, измученных жарой и постоянным недоеданием, которые все еще, несмотря на запрет мэра, лениво волокут грохочущие телеги по улицам Тель-Авива под усталый крик возницы: «Алте за-а-хен! У кого есть алте захен? Даю цену, беру товар!»
Тут Бенджи позволил себе выпад против ашкеназов-старьевщиков, шикнозов, вусвусов[7], презираемого рынком жалкого порождения восточноевропейских местечек. Что они там видели, в своих деревушках?! Для них любое серебро серебряное, каждый фарфор на одно лицо и все ковры – ковровые! Разве они умеют определить ценность монеты на зубок и отличить подлинник от подделки?! Им даже лень зайти в дом и подняться по лестнице! Ждут на улице, пока хозяйка снесет вниз шевелящийся от блох коврик или позовет к себе забрать продавленный диван.
Нет, персы, представители младших или побочных ветвей благородного племени контрабандистов, обирателей могил и магов караванных путей, поступали иначе. Они не оставляли обывателю выбора: снести ли бабкино старье вниз к телеге старьевщика или оставить его пылиться на старом месте, – а сами шли в дома, стучали в двери, обещали глупой хозяйке златые горы, вымаливали стакан воды, потом чашку кофе, разговаривали с хозяйкой о ее болячках, а тем временем осматривали украдкой квартиру, выбирали нужное, оценивали его стоимость, после чего покупали не один этот предмет, а половину содержимого серванта, следя за тем, чтобы общая цена покупки не превышала минимальной рыночной цены за облюбованный раритет.
Мордехай был представителем самой захудалой ветви этого племени. Но он стал любимцем домохозяек, поскольку был молод, красив, черен, худ, грязен и лохмат. Домохозяйки его жалели и кормили. А он рассказывал им о горькой своей сиротской судьбе, постукивая под столом или в кармане ногтем по дереву. Родители его были живы.
Мордехая научили вызнавать семейную историю клиента, из которой можно было сделать далеко идущие выводы. Если семья притащилась в Палестину налегке, искать в доме следовало одно, если с багажом – другое. Если бабка хозяйки или ее мамаша приехали из польского местечка, сторговать можно было разве что недорогую старинную бронзу, олово и вышивку, которые на рынке важно величали иудаикой. И самовары, разумеется. А вот если бабка хозяйки была варшавской или, например, черновицкой дамой, тут могло пахнуть настоящим товаром: старыми коврами, хорошей ювелиркой, столовым серебром и мейсенским фарфором. Книгами и картинами персы-надомники не занимались, а если попадалось что-нибудь по дешевке, отдавали товар городским антикварам.
У домохозяек, прибывших из Марокко, Персии, Бухары, Вавилона и прочих неевропейских мест, таким перекупщикам антиквариата, как Мордехай, разжиться не удавалось. Эти тут же ставили бедолагу на место, его чернота и худоба не вызывали у них жалости, а тем более – доверия. Кроме того, они ценили старину, помнили, что от кого им досталось и что чего стоит. Если и продавали семейные реликвии, то только в час великой нужды, да и то людям проверенным. Торговались они истово и цену всегда назначали выше высокой. С ними имели дело старейшины клана. А Мордехай специализировался на невежественных наследницах немецких и польских бабок и свекровей, а также на новоприбывших из СССР, Аргентины и Румынии, которые так растерялись от обступившей их новой жизни, что все привезенное из прежнего мира стали считать ворохом сухих листьев, в которые чертова уловка сионистов превратила то, что прежде мнилось червонным золотом.
Мордехай так преуспел с этими основными своими клиентками, что ему стало скучно карабкаться по этажам и бродить по квартирам, а потом сдавать выторгованное добро матерым владельцам базарных лавок. Он решил сам стать себе хозяином.
Борьба Мордехая со старейшинами клана да еще без поддержки влиятельных родственников была нелегкой, но завершилась успехом. Лучше уж один из своих, решили старейшины, чем какая-нибудь «салоника» или, хуже того, какой-нибудь грузин. И Мордехаю даже помогли купить четверть базарной развалюхи.
По мнению Бенджи, Мордук, несмотря на сопутствовавший его деятельности успех, ничего не понимал в антиквариате. Выманивая и выцыганивая у глупой хозяйки то, что ему казалось наиболее в доме ценным, он чаще всего ошибался. Про растущую моду на бронзовые поделки он знать не знает, а если так задрался со мной, то это из-за моего французского платья, подарка Чумы. В этом Мордук как раз разбирается. Он даже пытался торговать трикотажем и французским шиком, снял на Алленби помещение и открыл магазин, но прогорел. Однако по заграницам немного поездил и цену таким вещам знает. Тетка в дорогом платье не должна торговаться за копейку, более того, она не понесет домой копеечный товар. Он и назвал солидную сумму. Надо дать Мордуку остыть и прийти недели через две в полинявшем трикотаже израильского производства. А Бенджи присмотрит за товаром. Попробует объяснить Мордуку, что за дрянь эти мои бронзовые игрушки, и взять всю партию по бросовой цене или обменять ее на ковер.
Бенджи можно было доверять во всем, кроме сделки такого рода. Если он заберет у молодого перса мою бронзу, я ее больше не увижу. Продаст. А мне скажет, что его опять посетил злой дух, йецер га-ра, с которым бороться бесполезно. Легче дать потом денег на синагогу, где грех отмолят.
Я и сказала Бенджи, что о безделушках беспокоиться не стоит: никому они не нужны, да и мне нужны только как особая блажь. Полковник и так злится, что я набиваю его галерею этим, пардон, дерьмом. Мордук задрался, я не купила, будем считать это предупреждением свыше. Кароль хочет, чтобы я занялась картинами, ими и займусь. Бронза, кстати, плохая, самодельная, клейма «Бецалель» на ней нет.
Бенджи важно кивнул. Он, мол, полностью разделяет точку зрения подполковника и принимает мою концепцию о предупреждении свыше. Самодельной бронзы он и сам может наштамповать сколько угодно. А в картинах он, к сожалению, ничего не понимает, но слышал, что на них можно сделать деньги.
Я явилась к Мордуку не через две недели, а назавтра. Нацепила на нос дешевые пластиковые очки с темными стеклами, оделась в тряпье с рынка Бецалель, где продавали бракованные полотенца на вес и трикотажные юбки по три штуки за десятку. Мордук меня не узнал. Оглядел с презрением и зевнул.
Лавка его была забита старыми шкафами, чешскими полками под стекло и немецкими полированными сервантами. А в шкафах, на полках и в сервантах – полный ералаш. Битое и целое, старое и новое, ценное и грошовое – все вперемешку. Бронзовое барахло уже валялось в дырявой плетеной корзине. Вот и хорошо! Теперь следовало найти не относящийся к делу предмет, перенести внимание продавца на него и только потом обратить свое внимание на корзину. Я оглядела полки и ткнула пальцем в большую бронзовую рамку для фотографии с пузатым купидоном, двуглавым орлом, горлицами, незабудками, крестом и семисвечником. Ни один стиль реально протекавшего времени не мог соединить все эти предметы вместе. Тут требовался совершенно девственный и безумный творческий посыл.
– Сделано в Газе, – вырвалось у меня при внимательном рассмотрении этой невероятности. На одесском базаре я бы сказала – «сделано на Малой Арнаутской».
– Обижаешь, – надулся Мордехай, – это антика (с ударением на «и»). – Настоящая антика. Старая. Пятьдесят лет лежала в ящике вот этого стола.
Он пнул ногой фанерный письменный стол местного производства, из тех, что загромождали присутственные места до внедрения новейших мебельных конструкций из алюминиевых трубок и пластикового покрытия, столь же уродливых, как и их предшественники. Столу могло быть от силы лет тридцать, большего груза времени он бы не вынес по хлипкости своей природы. И мне показалось, что где-то я уже этот стол видела.
– А стол откуда?
– Стол? – Мордехай на минуту задумался. – Стол с телеги. Думаешь, «алте захен», вусвусы проклятые, меня обманули? Я взял у них этот стол, чтобы рамку заполучить. Они их в связке продавали.
– Сколько просишь?
– Тридцать, – сказал Мордехай грустно. Он уже не надеялся получить и эти небольшие деньги. – Вместе со столом.
– А стол мне зачем?
– Стол тоже антика, – выпалил Мордехай. – Ему все сто. Там была тетрадка, так бумага вся пожелтела и буквы выцвели. Вот, смотри, две последние странички остались. Видишь, какая она старая?
Пожелтевшая бумага была исписана кириллицей. Буквы ложились с одинаковым наклоном, крупные, тщательно выписанные непривычной к ежедневному письменному усилию рукой. Но где-то я видела и этот почерк. Может такое быть? Не может! Значит, жарко и очень тянет запустить руку в корзину с бронзовыми поделками, а потому меня обсели галлюцинации.
«…И я говорю себе: „Разве Марк Шагал стал другим оттого, что он стал Марком Шагалом?“ И я думаю: „Разве наши жизни разошлись так уж далеко оттого, что я уехал из Витебска в Палестину, а не в Париж?“
И я не решаюсь послать тебе это письмо, не знаю адреса, не знаю, нужно ли тебе знать, где хранится папка с твоими рисунками. И не только с твоими, но это уже тебя не касается.
Говорят, что ты стал плохо относиться к Израилю, и ты не ценишь наш сионистский подвиг, и ты думаешь только о деньгах. Так должен ли я отдавать тебе эти рисунки и вообще вытаскивать их на свет Божий? Вот я умру, и чужие люди выкинут все мое барахло на помойку. А тут есть много интересного. Но все это принадлежит не мне, а другому человеку. А твои рисунки я мог с полным правом продать и жить как барин. Но я не вор. Мне было приятно знать, что вот, у меня есть такая ценность, которой мог бы позавидовать Ротшильд, а я на это плюю. Я – выше этого. И я нашел свой способ зарабатывать деньги. Но что мне в них? Если хочешь знать, я зарабатываю их неправедно, но праведно трачу. Отдаю беднякам. И это делает меня богачом! Я богаче их и богаче тебя, потому что все говорят, что ты – скуп и жаден.
Но сейчас я чувствую, что смерть ходит за мной по пятам. Она дышит мне в нос и затылок, и я почему-то уверен, что она охотится не за мной, а за этими проклятыми картинками.
Папочка надежно спрятана. В этом письме я рассказал тебе, куда я ее спрятал. Может быть, я пошлю тебе это письмо. А может быть, я его не пошлю. И пусть эта папка горит синим пламенем или сгниет там, куда я ее спрятал. Потому что ты никогда не интересовался мной и не искал меня. А когда-то великий Шагал спрашивал у меня совета, и я давал ему хорошие советы, и он благодаря моим советам стал тем, кто он есть. А теперь ты, говорят, продался фашистам и малюешь для них Деву Марию. Какая же ты сволочь!
Когда ты был в Израиле, я написал тебе открытку. Напомнил о старом друге, который хочет с тобой встретиться. И подписался. И написал сбоку мой телефон. Но ты не позвонил.
Все! Я решил! Я не буду отправлять это письмо. Вот я прижимаю его бронзовой рамкой. Не знаю, откуда она тут взялась. Ах да, теперь я вспомнил! Есть тут один чудак, который льет рамки из чугуна. Я делаю для него формы. Самые дурацкие, какие только можно придумать. А он ничего не понимает и льет в них чугун. Раньше я работал и для Бориса Шаца, для „Бецалеля“. Делал формы по заказу и придумывал собственные вещи. Но они там тоже стали свиньями. Им перестала нравиться моя работа. Я не хочу сказать, что эта рамка такая же дурацкая, как твои картины и витражи, но в ней есть намек. Только ты стал уже таким надутым гусем, что моих намеков не поймешь. Иди к черту!»
Подпись была четкой, как на банковской бумаге – Йехезкель Кац.
Мне стало так жарко, что пот потек по лицу. Мордук посмотрел на меня внимательно, в глазах у него торчал вопрос.
– Женские дела, – пробормотала я, и Мордук кивнул. Вопрос не исчез окончательно, но его очертания в лукавых глазах перса несколько побледнели.
– Ты помнишь, у кого купил стол?
Мордехай отрицательно помотал головой. Старьевщик приехал, кажется, из Реховота. Или из Ришона. В общем, из тех краев.
– А где начало этого письма?
– Я пустил его по листочку на обертку.
Кому он продавал бусы, ложки-плошки и иные безделушки, завернув их в бесценные листочки, Мордехай тоже не помнил. А если бы и помнил, что с того? Где можно найти этих случайных покупателей?
– Что написано на этих листочках? – спросил Мордук с беззлобным детским любопытством. – Чем они тебя так заинтересовали?
– Да так… Кто-то кого-то обокрал. Но тут только конец, а интересно, что было в начале. Там что-то про мэра Ришона. А я иногда пишу в местную газету.
– А! – успокоился Мордук. – Тогда к лучшему, что листочки разлетелись. Мне этот мэр не сделал ничего плохого. Я его не знаю. Ну так ты берешь эту рамку за тридцатку? Дешевле нельзя.
– Беру, – кивнула я, полезла в сумку за кошельком и, словно в забывчивости, оставила в сумке письмо. Мордук о нем и не вспомнил.
– А это барахло, – я кивнула на корзину с бецалелевской бронзой, – сколько ты за него просишь? Я учу детей рисовать, мне нужны всякие недорогие штучки. Сколько возьмешь за все?
Теперь капли пота выступили на лбу Мордехая.
– Я платил старьевщику… я заплатил…
– Ты уже сказал, что дорого заплатил за рамку и получил в придачу стол. Наверное, это барахло ты тоже получил в придачу!
– Но не к столу, а к старому токарному станку. Я его уже продал тут одному… отдал дешево. А станок еще в рабочем состоянии. Еще там были ящики с пуговицами. Их я продал в магазин на Нахлат Биньямин.
– Мне станок не нужен. И пуговицы не нужны. Сколько ты хочешь за всю корзину?
– Я должен посоветоваться со специалистом, – заюлил Мордехай.
– Ладно, советуйся. Я поищу что-нибудь другое. Там, за углом, продают гипсовые бюсты.
– А сколько ты хочешь платить?
– Школа выдала мне триста пятьдесят шекелей на покупку пособий. А я уже потратила из них тридцать на эту рамку. Она мне нравится. Я поставлю ее дома. Осталось триста двадцать.
– Накинь еще тридцать.
– И что я выиграю от этого гешефта? Моя начальница не захотела заказывать пособия в специальном магазине, как все делают. Я сама потащилась на базар. Мне за это что-то полагается?
– Накинь двадцать.
– Пятнадцать. И донеси корзину до угла, там можно взять такси. Она тяжелая.
Мы пошли по боковой улице, потому что я не хотела проходить мимо Бенджи. Ему совсем не надо было знать об этой истории. Ну, купила какая-то дура кучу бронзовых безделушек за небольшие деньги. Об этом базар не шепчется. А вот сообщение о том, что я купила для галереи Кароля безумное количество старой израильской бронзы, взвинтит базарную цену на эти поделки до потолка. И хотя я была теперь обеспечена товаром на ближайшие полгода, не следовало пилить сук, на котором сидишь.
Итак, что мы имеем? Даже если бы Йехезкель Кац не расписался на неотправленном письме, я узнала его почерк. И узнала стол, он стоял в мастерской Каца. Узнала по исписанной цифрами поверхности. Мы еще спорили с Каролем, что означают эти цифры. Кароль считал, что это еще один список карточных долгов. А я полагала, что нечто иное. И оказалась права! Под запыленной рейсшиной была надпись: «Таблица перевода дюймов в сантиметры». Хези Кац не надеялся на свою память и в этом вопросе! Помню, как я рассмеялась, представив себе остекленевшие глаза Каца, не понимающего с бодуна, что за цифры мельтешат перед его глазами. Если бы не ощущение чуть ли не преступности нашего тогдашнего присутствия в доме покойного, я бы точно пошарила в ящиках стола, нашла и прочла это письмо. И знала бы, где спрятана папка с рисунками Шагала. Так мне, стыдливой дуре, и надо!
А мэрия пустила все с молотка. Хорошо хоть, что альбом с фотографиями, валявшийся среди картин в мастерской, я забрала себе. Но в серванте рядом с коньяком и рулетками лежало еще три альбома. И в них – наверняка! – нужные мне фотографии. Какая же я идиотка! И незачем теперь рассказывать эту историю Каролю, он меня просто застрелит.
А папка… где ее можно было спрятать? Антресоли проверяла Мара. Папка с рисунками не прошла бы мимо ее внимания. Нет, на антресоли полез Кароль. И долго возился там с идиотскими старыми шинами. Он не стал бы обращать внимания на старую папку, особенно после этих шин. Мы же искали не папку, а картины!
Значит, придется все же рассказать Каролю, может быть, он что-нибудь и вспомнит. Я же не одна делала обыск в квартире Каца. Необходимо попасть в эту квартиру еще раз. Ленивый работник мэрии вряд ли полез на антресоли. Ему было велено очистить квартиру, он и вызвал старьевщика. А на антресолях тут редко хранят что-нибудь ценное. Больше старую одежду и поломанные радиоприемники.
– На антресолях ничего не было! – решительно заявил Кароль. – Я перевернул там каждый вонючий ботинок и каждую бумажку. Думал, старые письма найдутся или какие другие улики. Ничего там не было! И не стал бы Йехезкель Кац прятать ценные, ценнейшие рисунки на антресолях.
Где же он их спрятал?
– Ты говоришь, он пригрозил, что папка сгниет… Я вот что думаю, – Кароль прищурился и потер висок, что являлось у него признаком большой сосредоточенности. Этот жест даже Абка помнил, «прищурится, почешет бровь и скажет: „Идем в том направлении“… И выходили к своим!» – Я считаю так, – сказал Кароль, – Хези зарыл папку. Только где? Ты говоришь, на подводе старьевщика был токарный станок? Этого в доме не было! А в мастерской?
– Не было, – вмешалась Мара. – А что с его лавкой на автобусной станции? Станок мог стоять там, тем более что старьевщик вез и пуговицы.
– Точно! – согласился Кароль. – И если уж прятать где-то папку, то под полом собственной лавки. Там она всегда под руками. Поехали в Ришон! К Виктору!
– Обойдемся на сей раз без Виктора. Пожалуйста, – попросила Мара. – Не стоит одалживаться у него по такому ничтожному поводу. Мой папа мечтает торговать машинами. Что может быть лучше, чем помещение на центральной автобусной станции? Там же столько народу вертится! Давай купим у мэрии лавку Каца, а во время ремонта пол все равно придется вскрыть.
– Ха, ха! – раздраженно произнес Кароль и оглянулся на меня, но тут же махнул рукой. – Скажешь тоже: твой папа мечтает торговать машинами! Это я хочу торговать машинами, а он согласился мне помочь!
– Потому что мэр не должен торговать машинами.
– Так, может, сделаем мэром твоего папу? А я буду спокойно торговать машинами и приторговывать антиквариатом. Деньги польются рекой, а твой папаша будет говорить замечательные речи на всяких собраниях. Правда, с акцентом, но это уже никому здесь не мешает.
Такую перепалку между ними я слышала впервые. Что-то испортилось? Впрочем, какое мне дело!
Мы домчались до Ришона за полчаса. На сей раз машину вела Мара. Мы летели, но правила дорожного движения соблюдали неукоснительно.
– Как хорошо ты водишь машину! – не удержалась я.
– Статистика говорит, что женщины водят машину и управляют станками лучше мужчин, – спокойно ответила Мара. – В них тестостерон не взрывается, – добавила она, мельком взглянув на Кароля.
– Что это – тестостерон?
– Такой вот цирк с вами, с русскими. Про каких-то шаманов знаешь, а про главный двигатель мужского прогресса даже не слыхала! Тестостерон ударяет мужикам в голову, как только что-нибудь под них ложится, – портовая шлюха или шоссейная дорога.
Судя по всему, Мару разозлила не шоссейная дорога, а портовая шлюха. И где только Кароль ее подцепил? И для чего? Устал от превосходства своей женской половины?
Лавку Каца уже, по всей видимости, продали. В ней шел ремонт. Ленивый араб неспешно ковырялся в ящике с цементом. Не менее ленивый иудей курил, рассевшись на подоконнике.
– Пол вскрывать будете? – спросил Кароль.
– Будем, – обещал араб. – Плитка старая. Надо класть линолеум.
– А может, и не будем, – задумчиво возразил иудей. – За такие небольшие деньги можно приклеить линолеум и поверх старых плиток.
Араб хотел что-то возразить, но справедливо рассудил, что незачем бросать слова на ветер.
– Так-так, – Кароль постучал каблуком дорогого и начищенного до зеркального блеска ботинка по пыльному полу. – Ничего не поделаешь. Надо ехать к Виктору.
Виктор тут же объявил о своем желании стать компаньоном в автомобильном бизнесе. Каролю пришлось согласиться. Но он скрипнул зубами.
– А как ты избавишься от прежнего покупателя? – спросил Кароль.
– Скажу Пундику, чтобы убирался ко всем чертям! Лавки на станции не продаются, а сдаются. И сдает их мэрия. Какая проблема? У Пундика нет денег на залог. Вот он и послал рабочего ковыряться, пока деньги найдутся. А мэрия передумала. Нет денег, нет лавки. Все! Завтра посылай Мариного отца оформлять документы. А я посылаю работника закрыть лавку.
– Кароль, – сказала я уже за ужином, – допустим, что папка найдется под полом этой лавки. Мы же все равно не можем продать рисунки! Шагал – дело громкое. Продавать нужно на большом аукционе и лучше в Европе. А аукционщики потребуют документы, кому это принадлежало, у кого купили.
– Можно продать втемную, – буркнул Кароль. – Коллекционерам. Возьмем меньше, зато все наше!
– Появятся эксперты, начнут копать. Шагал вроде как забыл о своих рисунках. Настоящий хозяин папки, судя по письму Каца, умер. Так что Каца свободно посчитают хозяином папки, ему наследует мэрия, которой Кац задолжал. А у нас – никаких прав. Мы проиграем суд и потеряем много денег.
– Пошли все к черту! – вспыхнул Кароль. – Я нашел рисунки, я их продаю! Кому какое дело! И вообще – я купил папку у Йехезкеля Каца! Он сам мне ее принес, в мою галерею. Сейчас составлю расписку задним числом, и все!
– Ой, ой! – вздохнула Мара. – Абка видел, как мы забирали картины, видели это и соседи покойного Каца. Сегодня Кароля никто в Ришоне не знает, а когда его портреты появятся на улицах, соседи Каца тут же его вспомнят. И если появится какое-то недоразумение с рисунками Шагала, все начнут кричать, что мэр – вор, что он обобрал покойника. Пусть Ляля получит от своего деда письменное разрешение забрать его картины. Все картины. А что было в кладовке и что в папке – с этим ни один суд не сможет разобраться.
– С такой женой я могу баллотироваться даже в президенты, – ухмыльнулся Кароль и тут же повернулся ко мне. – Поезжай в Париж и привези от деда расписку.
8. Малах Шмерль и вождь индейцев
Под полом мастерской Йехезкеля Каца папка с рисунками Шагала не обнаружилась. Не нашлась она ни в каком другом месте. Мара рассудила, что, скорее всего, этой папки и не было. Весь Ришон был готов подтвердить, что покойный Хези Кац был вралем и швицером, то есть выпендрежником. На том и порешили. Жаль, конечно. Стать публикатором неизвестных работ Шагала – это не фунт изюма. Но дело получалось темное, продавать эти рисунки в открытую мы бы не решились, так что бог с ними.
Беспокоило другое – Шагал стал уже не просто современником и единомышленником Шмерля, он превратился в наличный фактор. Если Шагала знал Кац, знал его и Шмерль. Во всяком случае, видел рисунки из папки. Если, конечно, папка была…
Как бы то ни было, Кароль командировал меня за письмом деда, а Паньоль носился по свету, как сбрендивший шмель: то прогудит над Пальма-де-Мальоркой, то разбудит гудением Париж, то спрячется на Ньюфаундлендах. В Монреале я его почти поймала – постучала в дверь к Паньолевой любовнице буквально через час после того, как Паньоль этой дверью хлопнул.
Сравнительно молодая бабка с зареванными глазами разговаривать со мной отказалась. Сказала только, что Паньоль ушел навсегда и больше никогда… Тут она издала такое мычание-сморкание-форте на всю Канаду, что меня просто сдуло с ее крыльца. Пришлось возвращаться в гостиницу не солоно хлебавши.
Одно я вам скажу, господа: в Монреале подают плохой кофе. Тот, который мне полагался по купону «постель плюс завтрак», я, пригубив, оставила еще утром на столе, а время приближалось к полудню. И я отправилась в город в надежде раздобыть нечто более соответствующее своему названию и назначению. А каково назначение этой пахучей горечи? Проникнуть в кровь, взвихрить ее кофеином, вогнать шпоры в вялые бока притомившегося сердца, чтобы скакало арабским жеребцом, а не тащилось еле-еле, как кобыла старьевщика. Чтобы высветлило взор, напрягло слух, взбодрило нервные клетки. Короче, чтобы подействовало. А в забегаловках подавали тошнотворную бурду и, если была в этом городе настоящая кофейня, где знали толк в кофейных зернах, она была спрятана так хорошо, что о ее местонахождении ни один прохожий даже не догадывался.
Кофе? Так вот же автомат! Или там, в бутербродной. Или тут. Вот вывеска. Я послушно тыкалась в указанное место. Бурда, бурда и еще раз бурда! Такой кофе подают в абортариях и правильно делают. После того как все уже позади, кому оно нужно, чтобы сердце скакало, а голова была ясной? Не к добру, а к мигрени вспомнился мне ленинградский абортарий: сонная теплынь, невыносимый запах потревоженного женского тела, склизкие плитки пола, невнимательный, а то и презрительный взгляд персонала, мечтавшего делать добро, а оказавшегося на грани зла. И сколько абортов я сделала? Два. Нет, три. Два в Питере и один в Израиле. Мишка не хотел детей. Женька не хотел детей. А кто из современных мужиков их хочет?
Вот Кароль хочет. Мечтает просто. Чтобы за стол садилось не менее пяти человек. Но Мара еще не достигла состояния внутреннего равновесия. Когда Кароль станет мэром, тогда она и родит мэрского ребенка. Поздний ребенок будет, и может получиться урод.
Башка разболелась не на шутку. Тот, кто страдал или страдает мигренями, поймет, о чем я говорю. Осеннее монреальское солнце не грело. Дул ветер, и было даже зябко, но правая половина головы налилась таким внутренним жаром, что его хватало на обогрев всего организма. Мир померк, в ушах звенело, под ложечкой сосало, потом стали лупить в гонг. Бам-бам-бам! И кровавые лохмотья выплыли из-под висков и застили свет. Два дня постельного режима. И делать с этим нечего. Я вернулась в гостиницу и нырнула под одеяло.