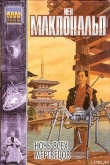Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
– Ты можешь взять в шкафу все, что хочешь, – прощебетала тетя Соня. – Кати, моя дочь, была ужасной франтихой.
Но в шкафу обнаружилась только куча кукол и огромная коробка, битком набитая балетными тапочками тридцать пятого размера.
– У нее был рак лимфатических узлов, а мы думали, что тапочки плохо сшиты, – сокрушенно объяснила мне тетя Соня.
Говорить о дочери Соня не хотела. Зато без конца рассказывала, как осталась в живых потому, что поехала к брату в Париж после окончания гимназии.
А пока то и пока се, в Варшаву вошли немцы. Маму и младшего брата убили. Впрочем, нет! Меирке убили не немцы, а испанцы. Но немцы убили старших сестер. С семьями. И двоюродных тоже. И жену Пини, то есть Паньоля, убили, хорошо хоть Мирале (это моя мама) спаслась.
В войну Соня пряталась от немцев, которых она называла «бошами», у старого друга Пинхаса Брыли, француза, за которого потом вышла замуж. Месье Сомон вместе с Паньолем воевал в Испании. Соня показала мне его фотографию. Усы у месье Сомона были потрясающие.
Однако на месье Сомоне мы долго не задержались. С гораздо большей настойчивостью Соня тыкала пальчиком в пожелтевшие от времени фотографии, на которых можно было разглядеть испуганную хорошенькую девушку в белом беретике.
– Это я! – гордо восклицала тетя Соня. – И пальто, и платье приехали со мной из Варшавы. Паньоль тогда бедствовал и даже туфель купить мне не мог.
Все стены квартиры были увешаны картинами моего деда. Рассмотрев их, я поняла, что дело плохо. Дед был хорошим ремесленником, умелым и изобретательным, но он не умел быть самим собой. Одни картины выдавали близость Модильяни, другие – Сутина. Кое-где Паньоль поднимался до самых высот кисти Брака, на других – смело раскидывал радуги в духе Делоне. Я не нашла подражания только Шагалу, но тетя Соня объяснила, что дед с ним на ножах.
И что из этого получается? Получается вот что: сиди Паньоль каждый день с утра до обеда на своем крылечке и рисуй зайчиков, кувыркающихся на копнах сионистского сена, мы бы стали богачами. А из Ноева ковчега, в котором каждой твари по паре, великого мастера выкроить невозможно. Тетя Соня заметила мое разочарование и нисколько ему не удивилась. Она наверняка знала то, что я не хотела произносить вслух. И Паньоль знал. Потому и не выставлял свои старые работы. В авангарде он стал королем, а в традиционной живописи так и остался подмастерьем.
– Когда Паньоль жил в Палестине, – задумчиво сказала тетя Соня, – он работал совсем иначе. Вот, смотри!
И она показала мне небольшой этюд – пейзажик, несколько крестьян, жара, мальчик, очень напоминающий мою маму в детстве, так, как она выглядит на старых фотографиях в Сонином альбоме. Мальчик глядит в небо, с которого летят вниз его, мальчика, исполненные желания: невеста в фате («Этого он мне желал, это я», – Соня с гордостью ткнула в невесту пальчиком), зеленый кот, велосипед, подкова и вписанная в нее рыжая кошка. Шагал, конечно, подозревался, но поскольку картина подписана 1935 годом, можно постулировать независимое видение. Шагал был уже в моде, но прямого подражания тут не было. И если таких картин есть хотя бы десятка два, можно начинать.
– Я уже телефонировала Пине, – сообщила тетя Соня. – Но ты же его знаешь: весь мир остановится в ожидании Паньоля, но он спешить не станет! А куда тебе торопиться? У меня нет других наследниц. Переезжай ко мне. Решено! Я посылаю месье Фосет, нашего консьержа, в гостиницу за твоими вещами.
Насколько я поняла, месье Фосет был и шофером тети Сони, и ее компаньоном в походах по ресторанам, а его жена, Франсин, следила за домом, пока муж находился на Сониной службе.
– Фосеты думают, что я оставлю им наследство. А я не оставлю! – обрадованно сообщила мне тетя Соня. – И как это мне раньше в голову не пришло? Но я же не знала раньше, что ты приедешь в Израиль! Я даже не знала, что ты есть. А они, – тетя Соня оглянулась, словно месье Фосет мог стоять за дверью, – они были коллабо! Выдавали евреев бошам. Я завещала все, что у меня есть, Управлению железной дороги. Там работал мой муж, и они хорошо обошлись со мной, когда он умер. Помогли организовать похороны, прислали сиделок, дали хорошую пенсию. А теперь я перепишу все на тебя. Если ты останешься со мной.
Так я стала не очень богатой, но все же наследницей. Можно было расслабиться и ждать появления Паньоля. Но расслабиться не давала тетя Соня. Она страдала от бессонницы, а поэтому могла заявиться и в три ночи. Придвигала кресло к кровати и дышала мне в ухо. Дышала до тех пор, пока я не решала открыть глаза.
– Ой! – восклицала она испуганно. – Я тебя разбудила! А я хотела только посидеть рядом. Так одиноко, так ужасно одиноко, особенно ночью. Хочешь, я сварю тебе какао? Когда твоя мама была ребенком, я всегда варила ей какао.
А утром она просыпалась рано и была деловита, как птичка.
– Можно подумать, что ты приехала в Париж, чтобы спать! – вскрикивала тетя Соня, рывком отодвигая гардину в моей комнате и впуская в нее солнце. – Смотри, какое утро! Завтрак уже на столе, и мы поедем… куда мы поедем? Я знаю, мы поедем в Версаль! Ты посмотришь, как жили французские короли, очень так себе, я тебе скажу, они жили, у них не было даже приличной уборной. Моя мама говорила про французов: «Фун эйбн глянцн, фун унтн – ванцн!» Ты понимаешь, что это значит? Сверху они как глянцевые обложки их журналов, а под юбками у них вонь, клопы и вши. Французы не любят мыться, у многих нет ванной в доме, а там, где она есть, ее держат для красоты. Вставай, иди в ванную! У меня она всегда мокрая, потому что я моюсь даже дважды в день! А потом мы съедим хороший дежюне, я знаю одно местечко… они готовят такую рыбу, пальчики оближешь. А потом мы поедем покупать тебе костюм. Тот, который мы купили вчера, это для вечера, а днем тоже надо в чем-то ходить. То, что ты привезла с собой из Палестины, это же просто кошмар! А потом мы будем есть мороженое в одном кафе возле Тюильри. И погуляем по парку. Надо нагулять аппетит, потому что обедать мы поедем на Лионский вокзал. Там дают замечательный эскалоп.
Если бы тетя Соня съедала все то, о чем мечтала ранним утром, месье Фосету пришлось бы передвигаться по Парижу на подъемном кране. Но Соня оставалась тощей маленькой птичкой, поскольку все эти деликатесы она заказывала, но не ела. Зато старалась впихнуть в меня все, что в нее не лезло.
Поковыряет мороженое, съест вишенку, возложенную на башенку из розовых сливок, и станет пихать мне свое мороженое в рот, ложечку за ложечкой. И приговаривать: «Зачем же мы заказали этот шоколадный пломбир, если ты не собиралась его есть?! А ну-ка, открывай рот!» И так с рыбой, эскалопом и всем остальным, да еще в двойном количестве! Я уже подумывала, не воспользоваться ли римским способом «два пальца в рот», но месье Фосет меня спас.
– Заказывайте одну порцию на двоих, – шепнул он мне, деликатно отказавшись присоединиться к нашему пиршеству.
Из этого совета я поняла, что тетя Соня пыталась раскармливать и месье Фосета. Неужели она и его кормила с ложечки, прикрикивая и подтирая остатки еды с его бороды? Бедная Соня, не успевшая насладиться материнством!
Однако контакт с месье Фосетом, в основе которого лежал комплот против Сони, оказался весьма полезным. Так, по непредсказуемому стечению обстоятельств Версаль оказался закрытым. Месье Фосет позвонил туда заказать билеты, не будем же мы толкаться у касс в общей толпе, если билеты можно заказать. И какое счастье, что он позвонил! Именно сегодня они меняют экспозицию! Так мы оказались в Латинском квартале, куда месье Фосет завез нас тоже чисто случайно. Но раз уж движение по Парижу столь затруднено, что другого маршрута просто не нашлось, месье Фосет позволит себе оставить нас на два часа, чтобы навестить внезапно заболевшую старую мадам Фосет, его матушку, которая живет неподалеку. И – ах! – опять проблема со стоянками. Повернули налево, потом направо – и надо же! – по чистейшей случайности оказались не просто в Латинском квартале, а перед входом в антикварный магазин братьев Падизада.
Месье Фосет убежал, и мне пришлось мобилизовать весь запас детских хитростей, чтобы затащить тетю Соню внутрь магазина. Антиквариат она не любила, поскольку корь и ветрянка передаются через старые книги, подушки и игрушки. Я стала лепетать что-то про старые часы, к которым нужен ремешок, а старая кожа не только не переносит корь, она лучший от нее защитник. Мы вошли в магазин, и – о чудо! – Чума стояла за стойкой.
После скандала с выставкой Бенджи отправил Чуму в Париж к своим двоюродным братьям. Чума велела не рассказывать, куда она едет, даже мне. Бенджи слово держал, но когда я объявила, что еду в Париж, не выдержал и дал адрес. И вот: Чума летела мне навстречу из-за прилавка антикварной лавки братьев Падизада, а я могла только осторожно пожать ей руку и показать глазами на тетю Соню. Чума недоуменно пожала плечами.
Ровно через десять минут тете Соне надоело разглядывать витрины.
– Когда ты снова придешь? Где можно тебя найти? – теребила меня Чума.
Я обещала прийти назавтра, но Соня не отпустила меня до четверга. В четверг она играла в бридж с вдовой одного железнодорожника и женами двух других, один из которых еще не вышел на пенсию. Железнодорожники были коллегами ее покойного мужа, а с их женами Соня была знакома целую вечность. Других подруг у нее, кажется, не было.
В четверг месье Фосет отдыхал. Я могла ему только позавидовать. Утром мы ходили в кондитерскую заказывать пирожные, которые тетя Соня отвезет на бридж. Потом мы ходили к парикмахеру. Затем нужно было идти к мяснику, чтобы выбрать мясо для лангетов. Потом к зеленщику. Затем тете Соне захотелось купить эскарго и сыра. Потом мы выбирали цветы, которые тоже полагалось нести на железнодорожный бридж. После легкого ланча мне пришлось бежать за программой телевидения, потому что в перерыве между партиями железнодорожного бриджа принято смотреть телевизор и каждый должен сказать, какую программу он хочет смотреть, а в прошлый раз тете Соне нечего было сказать, и мадам Дюваль ей выговорила, нельзя же быть такой отсталой. Потом надо было помочь Соне выбрать платье и бижутерию, поправить ей прическу, сказать Франсин, чтобы вызвала такси… Я была уверена, что Чума уже закрыла свою лавку, но лавка, к счастью, оказалась открытой.
Чума выслушала отчет о моей новой жизни в полном молчании. Я бы сказала, что ее молчание, поначалу просто внимательное, к концу рассказа стало настороженным.
– Сколько лет этой тетушке? – спросила Чума задумчиво.
– Шестьдесят три.
– Чем она больна?
– Вроде ничем, но боится гипертонии.
– Значит, тебе предстоят минимум еще двадцать лет такой счастливой и вдохновенной жизни. И все ради квартиры на улице Сент-Оноре? Дом в Яффе ты сможешь отремонтировать намного раньше. И потом… У меня есть ощущение, что кое-что ждет тебя там, в Яффе. Кое-что очень важное. Знаешь, бывает такое ощущение, что за человеком по пятам ходит приключение. Оно ходит за тобой, я это чувствую.
Чумина интуиция была притчей во языцех. Например, она предсказывала, что ее дом сгорит, задолго до того, как пожар случился. Она многое правильно предсказала. И потерянные вещи находила. Однажды точно сказала, кто своровал «понтиак» Кароля. И Кароль нашел машину в тот же день. Арабские мальчишки из Аджами ее стырили, покатались и бросили возле промзоны в Ришоне. Чума так точно описала, где стоит машина, что Кароль приехал туда, пошел вдоль описанного Чумой забора и пришел прямо к своей машине.
Так что к Чуминым словам насчет предстоящих мне двадцати лет рабства за наследство и тем более к обещанию замечательного приключения, которое ходит за мной по пятам в Яффе, я отнеслась серьезно.
В тот вечер я вернулась домой поздно и нарвалась на скандал. Скандал был такой: Соня ходила по дому в полном молчании и швыряла вещи. Я уже давно лежала в постели, а дом все еще тарахтел: падали стулья, звенели столовые приборы, грохало сиденье унитаза, звякали корзины для мусора, гремели крышки кастрюль. Соня швыряла только то, что не имело свойства разбиваться. Я задремала и проснулась от стука в дверь. Вернее, то, что я приняла спросонья за стук, оказалось шлепками. Что-то шлепалось о дверь, потом глухо стукало о ковер. Я открыла дверь и увидала за ней Соню со стопкой книг в руках. Несколько книг лежало на полу.
– Вот, книги рассыпались, а поднять их некому. И я, старая, больная женщина…
– Соня, – сказала я, стараясь не рассмеяться и не перейти на крик, – завтра я уезжаю. А сейчас прекрати швыряться книгами, отправляйся в свою комнату и не смей выходить оттуда до утра. Завтракать я не буду, а выспаться хочу.
Соня посмотрела на меня с обидой, бросила всю стопку книг на пол и разрыдалась.
– В спальне! – велела я. – Рыдать – в спальне. Швырять вещи – в спальне! Сходить с ума – в спальне!
– Я хотела завещать тебе все, что у меня есть! А ты уходишь неизвестно куда и ничего не рассказываешь!
– Любопытной Варваре хвост оборвали!
– Как? – переспросила Соня сквозь слезы.
– Неважно. Это по-русски. Я не знаю, что говорят французы в таких случаях. Но если я не сбегу, ты доведешь меня до дурдома, а там мне ничего не понадобится! Никакого наследства! Там меня будут содержать за счет «Гистадрута».
– Кто это? – спросила тетя Соня с любопытством. И слезы тут же высохли.
– Не твоего ума дело! Иди спать, делай ночь, Нехама.
– Ты уже забыла, как меня зовут?!
– Тьфу! Это тоже по-русски. Нет, сегодня я еще помню, как тебя зовут, но надеюсь, что завтра забуду. Иди!
И она пошла. И была за завтраком ниже травы и тише воды. И умоляла меня остаться. Ходила за мной на цыпочках, а если я оборачивалась, махала руками и испуганно улыбалась.
Я ушла из дома в полдень, обещав прийти за вещами к ужину. В тот день Чума взяла отгул. Мы побродили по Парижу, потом пошли обедать в маленький семейный ресторанчик. Посетителей было немного, но и столиков – всего пять. Посередине зала стоял детский манежик, в нем играла с куклой и гремела крышками от кастрюль белобрысая малышка лет трех. Рядом с манежем расположился огромный лабрадор с львиной башкой. Пахло едой и пеленками. Еда была недосолена.
– Я хочу открыть свой ресторан, – вдруг заявила Чума. – Мне не нравится их пища. – И тут же, не давая себе труда переходить с темы на тему сложными ходами, продолжила: – Когда ты вернешься к тетушке, все будет иначе. Не дури себе голову глупыми размышлениями. Все уже решилось, и все хорошо. Тебе не придется переезжать ни ко мне, ни в гостиницу. А я хочу купить именно это место. Оно удобно расположено. А хозяйка опять беременна. Муж ее, зеленщик, собирается расширять свое дело, ему нужны деньги. И Жаклин не хочет больше работать. Трое детей – это уже серьезно. Думаю, в следующий твой приезд я подам тебе тут хорошие шашлыки, шуарму и острые закуски. Буду стоять вон там, где сейчас повешено распятие. Там я собираюсь поставить кассу и бар с напитками. А вот тут…
Жаклин следила за жестами Чумы и кивала. Касса, бар… Она и сама бы все сделала точно так, но зеленщик не давал ей денег.
Чума посадила меня в такси, таксист мурлыкал себе под нос песенку Азнавура, частил мелкий дождик, сверкали цинковые крыши. И мне вдруг отчаянно захотелось немедленно покинуть этот чужой праздник, принять участие в котором никто меня не приглашал и приглашать не собирался, и вернуться в Яффу, в свой сад, свою конуру, к своим многочисленным недругам и немногочисленным друзьям.
А с Паньолем я так и не встретилась. Да оно и правильно было: если у Каца сохранились картины наподобие той, которая поразила меня в доме тети Сони, есть о чем говорить и встречаться. А если там одни этюды на тему картин известных художников, тогда увольте! На нет и суда нет!
И вот, приехав в Израиль и дождавшись законного выходного, приходившегося всегда на будни, я решила поехать в Ришон-ле-Цион к Кацу. Все во мне кричало, что за тридцать пять лет этот Кац либо уехал из Ришона, либо… Но магазин Йехезкеля Каца все еще располагался на центральной автобусной станции и торговал пуговицами. К сожалению, он оказался закрыт. На двери не было записки типа: «Вернусь вскоре», «Открою после обеда» или «Приходите после 22 октября». Просто закрыто, и все.
Я ходила туда и ходила сюда, справлялась о намерениях Каца в соседних лавках: болен, уехал в отпуск, пошел в поликлинику и вскоре вернется? Ответы были неуверенные и не по делу: может, заболел; может, откроет позже; может, уехал за товаром. Судя по этим ответам, Йехезкель Кац не был любимцем автобусной станции города Ришон-ле-Цион. Столько лет торчит на этой станции, и никому нет дела до того, открыл он свою лавку или нет! Это же о чем-то говорит!
Да не открой я нашу галерею вовремя, Ади Мазуз из лавки напротив тут же побежит звонить Каролю. Не затем, чтобы ябедничать, а из искренней заботы о моем благополучии. И долговязая соседка Эти отметит, что галерея закрыта. Попробует пробраться со двора и постучит в окно моего чуланчика – все ли в порядке? А знают они меня всего ничего, да и не дружим мы вовсе, так… здороваемся. Нет, что-то с этим Йехезкелем не то.
И пока я так бродила туда и сюда между лавками, мой взгляд упал на витрину магазина, запрятанного внутрь станции, за билетную кассу и общественный туалет. В витрине были выставлены шляпки. Какие шляпки! Веселые и смешные, ну просто само изящество! Такую витрину надо было вынести на главную улицу города, а не затыривать в самый темный угол!
Ах, какие шляпки! Маленькие, как божьи коровки, полураскрывшие красные крылышки, между которыми уже колыхался, представляя себе попутный ветер, черный пушок. И большие шляпы, легко вздымавшие с боков полупрозрачные поля, чтобы краше загибались они книзу спереди, кидая на лицо загадочную тень. А какие цветы украшали хитро оплетенные тюлем, газом или атласом тульи! Сиреневые и серо-голубые, желтовато-лиловые и бордово-зеленые, похожие на сказочных птичек или заморских бабочек. Но одна… одна шляпка была просто невообразимо хороша. Маленький черный ток из жирного фетра и блестящего атласа, сложенного веером, а с макушки на этот загадочно поблескивающий веер лился поток сверкающих тонких и длинных перьев, исчерна-фиолетовых, как римская ночь, как лаковое ландо в свете газовых фонарей, как… Ну не знаю, с чем еще ее можно сравнить! И мне захотелось купить эту шляпку.
Бред, конечно, куда ее наденешь? В оперу? Так даже если решишься на такой нелепый шаг – засмеют. Это сейчас в Тель-Авиве можно надеть шляпку и не вызвать раздраженную реакцию окружающих. А тогда дело решалось однозначно: шляпки носили только религиозные тетеньки, но что это были за шляпки! Горшочки, кастрюльки, бесформенное построение, закрывавшее неудачную стрижку, вернее, спутанные пряди дешевого парика. Ну и что? Что с того, что кому-то моя шляпка не понравится? С каких это пор я интересуюсь тем, что люди скажут? А если не осмелюсь надеть – пусть висит на гвозде как напоминание о моей трусости!
Я толкнула дверь.
Что за магазин! Прилавка нет, полок – тоже. Со всех сторон торчат изогнутые прутья с наверченными на них шарами, а на шарах сидят шляпки – наглые и задумчивые, нахальные и серьезные, грустные и смешливые. Насмешливые тоже были. А у стены в огромном бархатном кресле, украшенном золотыми кистями, убранном переливчатой парчой, усеянном рукодельными цветами небывалой формы и немыслимой окраски, прикорнула крошечная старушка, такая красивая, глаз не отвести. Она была одета в черное платье. Сделано было это платье из всего, что умеет струиться, ниспадать, шуршать, змеиться, поблескивать, взлетать, опадать и веселиться.
Звякнули тоненькие трубочки, повешенные у двери, чтобы ловить ветер, и старушка открыла глаза. Они были цвета незабудок, васильков и одновременно лютиков. Что-то вроде камня александрита, меняющего цвет на свету. Еще у старушки был крошечный носик, ротик бантиком, крепкие, как райские яблочки, щечки и фиолетовые кудельки на голове.
Старушка поглядела на меня испытующе и указала пальцем на ту самую шляпку с исчерна-фиолетовым плюмажем.
Я радостно кивнула. Надела шляпку на лоб, подвинула ее вправо, потом влево, немножко назад и чуточку вперед, потом опустила вуальку и отошла от зеркала на несколько шагов.
Старушка глядела на меня внимательно, но чувств не выражала. Наконец вспорхнула, как колибри, поднялась на цыпочки, – а каблуки тоненькие-тоненькие и во-о-т такой высоты, но мне все равно пришлось нагнуться. Старушка поправила на мне шляпку, подколола вуальку сбоку. Я взглянула в зеркало: вот оно!
Что-то, однако, раздражало. Рядом со старушкой я выглядела неуклюжей дылдой. Старушка кивнула моим мыслям, пальцем потребовала шляпку себе, надела ее и… ну что вам сказать! Как была колибри, так и осталась. Только сморщенное личико скрылось под вуалькой, а вокруг меня расположился киношный Париж. Газовые рожки выхватывают из темноты вздохи и всхлипы веселой ночи, где-то звучит музыка, где-то колышет завесу темноты жемчужный смех. И слетаются на площадь со всех сторон птички-колибри, бездумные и легкие. Несут с собой волну духов и праздничного возбуждения. Мужчины… нет, не в них дело. И любовь дело пятое. Смысл совсем в другом: в этом самом возбуждении, в трепещущем женском начале, сомнительном и сомнамбулическом, легком и подвижном, как лунный свет.
Старушка сняла шляпку и надела ее на шарик. Жест был непререкаемый. Мол, ты – не колибри, колибри – не ты. Не успела я возразить, как голову охватило нечто плотное. Движения старушки были столь легки и быстры, что казалось – шляпка сама слетела мне на голову и на ней устроилась. Она была хороша, и я в ней была хороша. Коричневый фетровый шлем с поднятым забралом из рыжего бархата. Амазонка, Афина Паллада, решительная воительница. А вот этого нам не надо! Это мы и без шляпки умеем изобразить. И вешать наш шлем на стенку нам еще рано.
Я отрицательно помотала головой. Старушка помотала своей, но утвердительно. И села в кресло, сложив ручки на груди. Так, и никак иначе! Вредная какая!
– Я хочу купить ту шляпку! Сколько?
– Она тебе не идет. Моей шляпке будет плохо на твоей голове.
– Мне решать. Это магазин или филиал психоаналитического общества?
– Да! – оживилась старушка. – Я была членом общества! Шляпка – это кульминация нашей внутренней сути. По одежде не всегда можно определить человека, а по тому, какая шляпка ему подходит, – безошибочно!
– Я все равно куплю эту шляпку. Но сначала скажите: куда девался Йехезкель Кац? Он нужен мне по срочному делу.
– Йехезкель, моя милочка, повез машинку «Зингер» на улицу Нахлат Биньямин в Тель-Авиве. Только там умеют чинить этого др-р-ревнего монстр-р-ра.
Эти слова старушка произнесла по-русски. Ее русский был замечательно высокопарен. Она картавила обаятельно и естественно. Эмигрантский Париж или эмигрантский Берлин?
– Когда он может вернуться?
– Не может, а должен. Он должен вернуться через три часа.
– Чем можно заняться тут три часа?
– Тем, чем занимаются на автобусной станции: пить кофе, есть шуарму, смотреть на автобусы, листать расписание.
Я вышла из шляпной лавки злая и униженная. И села в первый попавшийся автобус. Пусть себе везет, куда хочет. А потом привезет обратно. К таким шатаниям я привыкла. И потом – район вокруг Ришона остался мной неисследованным. По какой-то причине меня еще не заносило в эти края. Я спросила у водителя, не идет ли автобус в Эйлат. Спросила потому, что только это расстояние нельзя преодолеть за три часа. Единственный дальнобойный маршрут в этой стране. Водитель помотал головой и открыл передо мной уже закрывшуюся было дверь. Выходи, мол, раз тебе нужен Эйлат. Теперь я помотала головой, давая понять, что выходить не буду, поскольку ехать в Эйлат не собираюсь, и спросила, сколько стоит билет до конечной остановки. Билет стоил всего ничего. Значит, это где-то рядом. Поехали!
Автобус был совсем пустой. Я прикрыла глаза и увидела себя в черной шляпке с перьями водопадом. Но никак не удавалось слиться с праздничной парижской толпой. Стоило сделать шаг, и я оказывалась в похоронной процессии, медленно бредущей вдоль кирпичной стены, освещенной бликами факелов. Впереди плыл черный гроб, покрытый лаком и украшенный бархатом. С золотыми кистями и сверкающей парчой по краям. С рукодельными мерцающими цветами, похожими на трепещущих стрекоз. Маленький такой гробик. Не детский, но и не гроб нормального взрослого человека. А птичка-старушка из шляпной лавки в нем бы вполне уместилась.
– Нес-Циона, – объявил грубый хриплый голос. – Вылезай!
– Где это? – спросила я, испуганно тараща глаза.
– А тебе куда надо?
Водитель, большой грузный парень, рассматривал меня с безразличным нахальством.
– Вообще-то в Тель-Авив. Но сейчас мне надо обратно в Ришон. Который час?
Оказывается, прошло всего двадцать минут. Ладно, осмотрим это чудо Сиона. Нес-Циона! Умели же называть города в прежние времена! Впрочем, «нес» – это, кажется, еще и стяг. «Стяг Сиона», «Чудо Сиона» – какая разница!
– Следующий автобус на Тель-Авив в пять вечера, – лениво сказал водитель. – И он – последний.
– А назад в Ришон?
– Вот тот автобус и довезет. Другого нет.
Он слез и побрел по узкой дорожке к вагончику, видневшемуся сквозь купы пыльных кустов. А я побрела в противоположную сторону.
Пережить два унижения за один час – это тяжело. Ну хорошо, я не колибри, мне не хватает и всегда будет не хватать парижского шика, тут вредная старушенция была права. Но как смеет идиот-шофер указывать мне на мою неукорененность в месте и времени?! Да, я не родилась в этих местах, я живу в этой стране всего пару лет, у меня все еще есть сложности с местным языком и местными нравами. И я никогда не была в Нес-Ционе. Означает ли это, что меня можно выбросить на автобусной станции, как использованный билет?!
Он мог сказать, что едет в Нес-Циону, когда я спросила про Эйлат. Тогда я бы спросила, когда он возвращается в Ришон. А он бы сказал, что никогда. И что следующий автобус – через шесть часов. Но он не сказал, я не спросила, а теперь жди этого автобуса! Тем временем Йехезкель Кац уже закроет свою лавку. Какой прокол! Придется приехать снова.
Нес-Циона, Нес-Циона! Далась мне эта Нес-Циона!
Сейчас, когда я пишу эти записки, я, разумеется, знаю, какие дороги ведут в Нес-Циону, а какие – выводят из нее. И не стала бы торчать тут в ожидании автобуса. Надо думать, что и тогда мелькнула мысль о том, что пешком можно дойти куда как быстрее, чем дожидаясь автобуса. Мелькнула ли, не помню, но должна была мелькнуть. Но тогда я в местной топографии совсем не разбиралась. У меня и с географией были нелады. Вот спросили бы меня, где он, этот Ришон, расположен, на севере или на юге страны, задумалась бы. Это теперь Нес-Циона располагается в центре израильской ойкумены, и автобусы носятся, как сумасшедшие, мимо нее и сквозь нее. Но то, о чем я рассказываю, случилось давно. Израиль жил тогда тихо и медленно, не умея или не желая выходить из провинциальной дремоты. Даже Тель-Авив жил неторопливо, а уж провинция и вовсе спала.
Что такого интересного могло лежать за пределами этого сна, наполненного созидательным трудом, войнами и борьбой за хорошее место на государственной службе, где можно провести жизнь в относительном спокойствии, получая раз в году деньги на одежду и – как это называли поляки? – ага! на рекреацию в профсоюзном доме отдыха? Прекрасное было время! Но я ему не подходила, как мне не подходила шляпка-колибри.
Пожалуй, Каролю это время тоже казалось чем-то вроде кожаной куртки юношеского размера. А Чума, например, вполне бы в нем устроилась, если бы не Шмулик. Более того, нынешние израильские нравы для нее – скандал! Интересно, как выглядели эти места, когда по ним бродил Паньоль? Я разглядывала окружающий пейзаж и представляла, каким образом Паньоль припечатывал его к холсту. Пленэр – помешательство того времени, несомненно, вывело его хоть раз, например, на эту вот лужайку. У Йехезкеля Каца наверняка валяются холсты с видом во-он того куста. Куст помогает схватить перспективу довольно унылой местности, в которой есть все-таки некоторая живописная прелесть.
А маленькая ришонская колибри… ох, должна была быть у Паньоля пассия с александритовым глазом. Не случайно именно этот камешек и перепал мне от деда через тетю Соню в смешном и изысканном колечке, чем-то напоминающем стайку шляпок, окружавших волшебную старушку. Соня же рассказала, что Пиня застрял на целых три года в Палестине из-за барышни, беленькой, как французская сдоба, и похожей на райское яблочко. Ну вот, это оно самое и есть. Приду забирать свою шляпку и спрошу у старушки про Паньоля. Она еще пожалеет, что так меня обхамила!
Но как только у меня появилась возможность рассчитаться с вредной старушонкой за шляпку, в которой мне отказали, шляпка вылетела из головы, а ее место занял пленэр Нес-Ционы. Трава – выгорела. Кусты в пыли. Вокруг лужайки – дома, какой-то магазинчик, кажется, почта, нет, похоже, банк. Мимо меня прошла вислозадая тетка. Когда Паньоль здесь гулял, она могла быть еще вполне ничего. Нет, пожалуй, ее тогда еще не было на свете. Но Паньоль мог наблюдать ее мамашу. Наверное, и та переваливалась на ходу. И так же сосредоточенно ела на ходу банан.
Тетка вошла в то, что я приняла за банк. Лицо озабоченное. А что, если Йехезкель пошлет меня к такой-то маме? Что, если он выбросил все картины Паньоля, сжег их в костре на Иван-Купалов день – Лаг ба-омер? Тогда – стоп, приехали. Придется искать что-то другое. А если картины сохранились, что делать с торговцем пуговицами, который знает, кто их автор? Убить? Взять в долю? Проигнорировать?
А! На центральной автобусной станции городка Ришон-ле-Цион наверняка не знают, что происходит в галерее Кароля Гуэты в Яффе! И никто этому Йехезкелю ничего не расскажет. В крайнем случае скажу, что пуговичных дел мастер фантазирует.
Тетка вышла из банка. Лицо жутко озабоченное. Все еще ест банан. Догрызает до основания. Кем был Йехезкель Кац до того, как стал продавать пуговицы? Почему Паньоль оставил картины именно ему? Может, хавер Кац был тогда галерейщиком и прогорел? И, возможно, он до сих пор ходит на все выставки, здороваясь издалека с бывшими коллегами? А что, если он преподает рисунок в студии живописи или читает лекции по раннему периоду израильского изобразительного искусства? Такое тут случается. Жить на доходы от продажи картин могут всего несколько человек. Остальным приходится ввозить из Азии маковый сап или искать другие дополнительные источники дохода. Например, продавать пуговицы. И тогда дело плохо. Если Кац все еще крутится в нашем цехе, его придется брать в долю.