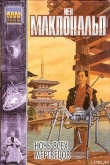Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
– Вот этого не будет никогда! – вспыхнул Левка. – Художником ты, может, и станешь, а я раввином – нет! От одного вида этих вонючих бездельников меня тошнит! И мой брат среди них крутиться не будет. Они же в армию не идут, трусы паршивые! Знаешь, почему была Катастрофа? Потому что их Господу захотелось избавиться – разом! – от этих своих вшей. Они дохли за колючей проволокой с удовольствием. Понимаешь, с удовольствием! А я с удовольствием отремонтирую этот арабский дом, чтобы в нем поселилась хорошая еврейская девчонка! И с удовольствием прошибу голову каждому, кто поднимет руку на мое государство. И я не понимаю, зачем я должен кормить своей кровью всю эту кучу религиозных бездельников, всех этих вшей. Я же не Господь Бог! Да вот и тому надоело! Нет! Если Менька хочет идти на поселения, защищать Эрец-Исраэль и учить там Тору, пожалуйста! Я и сам с ним пойду. За ним присмотр нужен. А в ешиву – фиг! Не выйдет!
Менька спокойно грыз яблоко. По его лицу я видела, что ничего Левке не поможет. Менька уйдет в ешиву, где его будут звать Мендл, то есть именно так, как назвали при рождении. Плохо это или хорошо, я не знала. Поняла только, что упрямые близнецы в моей помощи не нуждаются. Нечем мне их одарить. Найдут каждый свой путь. Вот Малкой надо бы заняться. У Кароля есть дружки во всяких организациях. Пусть устроит Малке концерты. Вместе со своей тещей. Старая грымза все равно не удержит зал больше двадцати минут. А у Малки голос драгоценного тембра, ее необходимо спасти. Не от этого Казиса, а от распада, как мой дворец. Этим и займемся.
Вверив Цукерам судьбу моего дома, я стала торопить Кароля и Мару с поездкой в Ришон. Виктор ждал. Где-то ждали картинки Паньоля. Ждал мой дворец. На Ришон! Но как раз в тот момент, когда Кароль решал, надевать ли пиджак, а Мара – добавлять ли к заготовленным для Виктора подаркам бутылку импортного виски, в дверь вошел Женька, и лица на нем не было. Лицо словно стерли ластиком. Женька был бледен до невероятности, в его глазах стоял ужас, а ладони были обильно смочены в крови.
– Что это? – спросил Кароль строго, устремив взгляд на Женькины ладони.
– Луиз… – прохрипел Женька и повалился на пол, словно его хлестнули под колени.
А надо сказать, что пока я ездила в Париж и в Ришон, на Женькиной яхте «Андромеда» разворачивались потрясающие события. Правда, сначала они развивались в укромных уголках города, на скамейках в парке и в тель-авивских кафе. Но вскоре Луиз примелькалась на яхте, а потом на нее переселилась. Любовь пылала, Женька таял в мареве страсти, а лицо Луиз, раз приняв удивленно-радостное выражение, больше его не теряло. К нам они не заходили, но и я, и Кароль, и Мара встречали влюбленную парочку то тут, то там.
– Хорошо это не кончится, – хмурился Кароль.
– Саид – цивилизованный человек, да еще и христианин, – возражала ему Мара. – Русскому, конечно, придется жениться на этой арабке, а до того принять христианство. Но мне кажется, с этим проблем у него не будет. Буддистам это не запрещается.
У меня были сомнения относительно того, что Женька буддист. Мы все увлекались дзеном, йогой, хокку и творчеством поэта Басе, но к буддизму все это имело опосредованное отношение. Зато креститься Женьке было вовсе ни к чему, он был уже крещеный. То есть так: Женька искал смысл жизни еще в СССР и нашел его в церкви, но не православной, а протестантской. Из любви к Мандельштаму и Максу Веберу, надо думать. Крестился он в Риге. Но вскоре передумал и стал сионистом. Надел на шею магендавид, а крестик держал в портмоне. Снять магендавид, нацепить опять крестик – дело двух минут. И, насколько я знала из рассказов разных людей, Луиз не согласилась перебраться на «Андромеду», не побывав прежде в церкви.
Когда я все это рассказала Каролю, тот кивнул и сообщил мне по большому секрету даже от Мары, что венчались Женька и Луиз где-то под Тверией. Но Луиз все медлила с представлением мужа родителям. И дело было не в том, что родители этот брак не одобрят, а в том, что все шло не по правилам. Женька должен был сначала попросить руки Луиз, пройти через смотрины и прочие процедуры, и только потом тащить ее под венец. Но случилось то, что случилось. Они поехали в Галилею, где воздух пьян и миндаль всегда в цвету, во всяком случае, до первых летних хамсинов. Луиз всего боялась, ей казалось, что за ней следят. Арабка дрожала, как осиновый лист, а тут подвернулась церквушка.
Женька побежал к священнику, предъявил свой крестик, вручил несколько крупных банкнот и… в общем, Женька унял нервную дрожь своей возлюбленной. Оставалось сообщить об этом родителям Луиз, и, насколько я поняла, сообщение было отправлено через посредников, одним из которых был сам Кароль. Родители кочевряжились. Луиз временами рыдала. Но дело явно шло к счастливой развязке. Посредников было много, и все они приносили на «Андромеду» и Каролю утешительные сводки. В семействе Луиз ветер постепенно менял направление, тучи рассеивались, и скоро должно было взойти солнце.
Что же произошло? Что?!
Путаный Женькин рассказ был кошмарен. Они проснулись рано, и Женька отправился в пекарню Абулафии за свежими питами к завтраку. Питы вскоре поспели, и Женька вернулся минут через двадцать, не больше. Уже с причала он услыхал крик. И кинулся на «Андромеду», не разбирая дороги. А там… там… Луиз билась в последних судорогах с перерезанным горлом, и кровь кипела вокруг ее прекрасного лица… кипела и шипела, как газировка… Алая… Яркая… Женька видел, как Луиз напряглась, открыла глаза, потянулась к нему и… все. И все.
А в углу каюты Женька увидал среднего брата Луиз… его в семье не любили, он был помешанный. Луиз считала, что этот Фарид-Поль тайно принял мусульманство. Как бы там ни было, он стоял в углу, выставив окровавленный нож. И Женька принял вызов. Он не понимал в тот момент, что делает. Кинулся на Фарида, недолго с ним боролся, а когда нож оказался у Женьки в руках, вонзил его в левый карман на рубашке этого подонка.
– Нож вошел, как в масло, – удивленно бормотал Женька. – Я думал, это тяжело, а это просто.
Кароль пошел к телефону и сообщил полиции, что на «Андромеде» два трупа. Дочь Саида-таксиста и его сын. Опять честь семьи. Эта проклятая арабская честь семьи! А Мара отвела Женьку в ванную, отмывать и приводить в чувство.
– Мара! – вдруг заорал Кароль. – Скажи ему, что это была самооборона. Фарид был с ножом и занес нож! Объясни ему! Ни фига это не поможет, – пробормотал он мрачно, не мне даже, а самому себе, – сейчас начнется кровная месть. Этому русскому все равно не жить!
Кароль нанял для Женьки самого хорошего и очень грязного адвоката. Грязного в том смысле, что этот адвокат никакими методами не гнушался. Наверное, можно было обойтись более дешевым и более чистым защитником. Фарид наследил в каюте так, что Женьку ни в чем, кроме самозащиты, никто и не подозревал. Фарид напал, Женька защищался. Фарид убил Луиз. Женька убил Фарида. Теперь предстояло организовать сульху, то есть примирение. Кароль не стал действовать сам. Он послал Бенджи к Саиду-таксисту. За сульху потребовали всю «Андромеду». Кароль рекомендовал Женьке согласиться. Жизнь дороже, а клан Саида – меджнуны, сумасшедший воинственный клан. Сам Саид человек цивилизованный, но его сыновья, братья и кузены – это совсем другое дело. И Женька отдал яхту. Он и подниматься на нее не захотел. Ему было все равно, что с этой яхтой будет.
Встал вопрос, где Женька собирается жить? Оказалось, что нигде. Нет у него такого желания. Тридцать три года он шел к своей Андромеде – и вот, не сумел ее защитить. За каким чертом ему теперь нужна эта его проклятая жизнь?! Тут Кароль вспомнил про Абку из Ришона и про его друга Пазю. Эти ребята знали, что такое чернуха и как с ней бороться. Правда, Кароль назвал чернуху «шоком от атаки», но дела это не меняло. Абка и Пазя все еще просыпались по ночам и орали друг другу через стены, а порой – километры: «Огонь! Горит! Надо прыгать! Кто прикрывает?» Потом пили воду, курили на крылечке и опять пытались заснуть. Для них Женькино ночное повизгивание и всхлипы: «Луиз, Луиз!» – дело привычное.
Кароль сговорился с Абкой по телефону, и мы повезли Женьку в Ришон. В механике он кое-что понимал. Будет ремонтировать машины и тракторы, пока не оклемается. К тому времени Женька уже не просыхал, водка булькала во всех отверстиях и порах его съежившегося тела. А Абка и Пазя этого дела совсем не понимают и враз это безобразие прекратят. Выходила двойная польза. Впрочем, доброго чувства к Женьке ни Кароль, ни Мара не испытывали. Женька был «свой», ему следовало помочь, но делали это чуть нехотя, брезгливо и раздраженно.
Возможно, они были правы, но мне было не по себе. Мы отправляли Женьку в колонию трудового режима, а ему было сильно плохо. Его надо было отогреть в руках, как птенчика, дать выговориться и выкричаться и тихонечко подтолкнуть в спину. Он бы и пошел. Споткнулся бы разок, другой, но оклемался бы в хороших-то руках. И сделать это должна была я.
Почему я? А потому что он все еще был мой, несмотря на Луиз. Я сама его отдала. Если бы рыдала, а того вернее – вены себе вскрыла, он бы у меня в ногах еще лет пять провалялся. А я сказала: «Пошел ты!» Он и пошел. И потом… когда мне было совсем худо, он меня выходил.
Нет, все нормально, все правильно. Женька меня предал. И с чего бы это мне самоубиваться? Из-за обманутой любви? Да не любила я его! Просто все вокруг – чужие, другие. Захотелось прильнуть к чему-то знакомому, своему.
Нет, любила! И раньше любила, и когда он с Луиз был, на стены от тоски и злости лезла. Думала – ничего, ты еще приползешь! Кончатся шуры-муры, тебя такая тоска охватит, так разберет… Вот только бы дети не появились! А теперь это. Если бы не Кароль и Мара, я бы… А что «я бы»? И чем мне Мара и Кароль мешают? Но не лезть же к человеку со своей любовью, когда он как отравленный! Только он меня когда-то спас, а я его отсылаю в Нес-Циону эту недоделанную, посылаю на перевоспитание к двум контуженым парням!
Меня так и подмывало остановить машину, отозвать Женьку в сторонку и сказать: «Пошло оно все к черту! Дом скоро починят, место есть. За Фарида ты расплатился, они тебя не тронут. А я тебя выхожу!» Но ничего такого я не сделала и не сказала. Чувствовала, что Женька ждет от меня именно этих слов. Но промолчала. Скажи он тогда что-нибудь дельное, даже покажи взглядом, что хочет сказать, я бы отозвалась. Но Женька глядел не на меня, а в окно. И руки засунул в карманы поглубже, чтобы даже случайно до меня не дотронуться.
Мы сидели рядом на заднем сиденье. Между нами – несколько сумок с тем, что Мара успела настряпать. На случай, если останется время для посещения родных пенат. А Женька все смотрел в окно, отвернулся даже. И я разозлилась. «И слава богу, что все обошлось, – начала я безмолвный диалог с самой собой, – и слава богу, что есть на свете Кароль и Мара. Что бы с нами, со мной и с тобой, дураком, было, если бы не они? Ну, привез бы ты меня избитую на „Андромеду“, и что? И сдал бы полиции. Мишку бы посадили. Я бы носила ему передачи – больше же у него тут никого родного нет. А тебя кто просил лезть к этой Луиз? Двух недель не прошло с той истории в Шаарии, а тебе уже долго показалось! Сволочь ты. Ты, а не я! И сиди в собственном дерьме, и не чирикай! Благодари Мару и Кароля, если бы не они, валялся бы сейчас на нарах или, того хуже, в канаве с перерезанным горлом!»
Женька вздохнул и затих. То ли услыхал третьим ухом мои слова, то ли сам до чего-то додумался. Мы сдали его Абке и поехали к Виктору.
Не помню, что там трепетало над нашими головами, – вязы, клены или фикус Биньямина, огромное дерево с мясистыми листьями и темно-фиолетовыми плодами размером с небольшую сливу, которые шмякаются на ветровое стекло машины и долго кровоточат фиолетовыми подтеками, – но колыхание листьев в высоте создавало ощущение патриархального покоя. Тогда Ришон был тихим городишкой. Тихие улочки, неторопливые прохожие, медленные машины, яркая зелень.
В ожидании Кароля, беседовавшего где-то с Виктором, я снова и снова прокручивала в голове нашу поездку. Никак не могла избавиться от мыслей о Женьке. Нас с Марой Кароль на встречу с Виктором не взял. Мы сидели в кафе и ели мороженое. Разговаривать не хотелось. Меня занимали мои мысли, а Мара нервничала, но вида не показывала. Видно, ей очень хотелось сделать своего Каро мэром. А я считала, что ничего хорошего из этой затеи не получится. Но и об этом мне не хотелось говорить с Марой. Ни о чем мне с ней разговаривать не хотелось. И не была я ей благодарна за Женьку.
Мы сами справились бы; может, и хуже, но правильнее. Будь моя воля, я бы остановила первое такси и поехала за Женькой в Абкину исправительную колонию строгого режима. Но своей воли у меня не осталось. Уложила ли ее на лопатки неодолимая воля женщины, пересекавшей Атлантику на плоту и прыгавшей с мостов «банджи», или она, эта воля, сама скукожилась, утомившись от нескончаемых перипетий, в которые судьба раз за разом погружала меня по самую макушку, я и теперь не знаю. Помню только, что была я какая-то подневольная.
– Что он обещал? – спросила Мара, когда подсевший к нам Кароль съел свое мороженое и допил кофе.
– Все, – усмехнулся Кароль. – Просил оставить ему папочку на недельку, мол, необходимо внимательно прочитать и ознакомиться.
– Ты оставил?
– За кого ты меня принимаешь? Я объяснил, что такая папочка должна храниться в надежном месте, мало ли кто может на нее наткнуться. Он съел и не поперхнулся.
– А что с моими картинками? – спросила я осторожно.
Кароль кинул на стол связку ключей.
– Можем искать там, сколько хотим. Не найдем, помогут искать в другом месте. Этот Кац – он что-то вроде городского сумасшедшего. Картинки его никому не нужны, а за квартиру не плачено лет пять. Да еще огромный долг за лавку и мастерскую.
– Где эта мастерская?
– Во дворе дома, в котором он жил. Большой ключ – от нее. Маленький – от лавки. Остальные – от квартиры. Ключи надо вернуть.
Неприятно копаться в чужой квартире, оставленной хозяином на несколько часов только для того, чтобы отвезти в починку швейную машинку. Еще менее приятно не найти там то, что искал, а нужных мне картин в двухкомнатной квартире Каца не оказалось.
Йехезкель Кац жил экономно, но ни в коем случае не скромно, потому что в буфете стоял такой дорогой коньяк, что Кароль только крякнул и тут же прибрал обе бутылки в портфель.
– Для чиновников мэрии или налоговой инспекции, которые придут делать опись, – пояснил он, – это слишком жирно. Они даже не поймут, что пьют.
В ящиках комода обнаружилось не менее десяти колод карт, да еще было колод пять нераспечатанных. Кроме того, мы нашли две рулетки и несколько блокнотов с записями. Записи однозначно указывали на то, что Йехезкель Кац держал подпольное казино. Листы были поделены пополам – слева какие-то инициалы, справа – суммы проигрышей и выигрышей.
– Играли по-крупному, – кивнул самому себе Кароль.
Центр гостиной занимал огромный стол, окруженный крепкими дубовыми стульями. У стен были расставлены дополнительные стулья и кресла. Телевизора в комнате не было. Было несколько картин в позолоченных массивных рамах. Копии, к тому же небрежные. Художник не хотел даже скрывать, что они – подделки. Может, сам Кац все это и намалевал. Но ничего даже отдаленно похожего на картины Паньоля на стенах гостиной не было. Модерн сюда вообще не допускали. А сервант был забит хрусталем и мейсенским фарфором.
– В описи ничего этого не будет, – хмуро сказал Кароль, любовно оглаживая фарфоровые кружева мейсенской танцовщицы.
– Поставь на место, – холодно велела Мара. – Вот когда станешь мэром, потребуешь опись и накажешь виновных.
– Еще чего! – ухмыльнулся Кароль. – Мэрия заберет все это за долги, а я у нее перекуплю. Недорого встанет.
– Лучше бы ты этого не делал, – пробормотала Мара.
А я размышляла: что заставляло Каца жить экономно при таких-то ценностях в серванте? Обтерханные полотенца и старенький бритвенный прибор в ванной, серое и расползающееся от старости белье на неубранной кровати, в холодильнике: две баночки кефира, коробочка со слабительным и свечками от геморроя, пластиковый судок с остатками фаршированной рыбы, очевидно, подношение жалостливой соседки, и больше – ничего. А на кухонном столике, покрытом липкой клеенкой, в алюминиевой мисочке остатки тартуры, любимого блюда экономных холостяков и беременных женщин.
О, тартура! Как сладок был ее вид на кухонном столе тогда еще холостяка, моего бывшего супруга, когда я пришла к нему договариваться о разводе!
Вообще-то эта штука называется суп-тартар, и я, хоть и знаю, что «тартар» переводится как «мелкорубленое мясо по-татарски», а возможно, первоначально имелось в виду вообще «мелкорубленная татарскими кривыми ножами человечина», предпочитаю видеть перед собой татарского воина, вялившего конину под собственной задницей, то есть под седлом. Он видеть уже, очевидно, не мог это кишащее личинками насекомых бордовое мясо. И как только случай выводил его к стойбищу, юрте, дымку и куреню, он орал не «курки, млеко, яйки», а «кумыс!». Но соглашался и на простоквашу, если ничего другого не было.
В кумыс он крошил что ни попадя: лук, репчатый или зеленый, чеснок, огурец, укроп, все, чем удавалось разжиться. Солил, перчил и, если хватало терпения дожидаться, ставил миску на лед или в холодную ручьевую воду. Ах! – особенно в жару, особенно после горячки долгого перехода, когда натруженное тело умоляет: витаминов и прохлады!
Что же до холостяков – чего легче? Простокваша в холодильнике, огурцы и лук – в лавке. Соль и перец на столе. Но! Разборчивый холостяк положит в тартуру не только свежий огурец, но и маринованный. Добавит кунжутные зерна или кедровые орешки. Повозится со специями – кориандр в тартуре хорош, а имбирь еще лучше.
Йехезкель Кац ел зеленый огурец в простокваше, присыпанной зеленым луком. Без изысков. Но почему-то не доел. Видно, торопился. Или прозвучал телефонный звонок. Какой? О чем? О том, что ему необходимо собираться и ехать в Сараево, тьфу, на улицу Нахлат Биньямин?
Как бы то ни было, моих картин не было и на антресолях, где Кац держал сношенные ботинки и почему-то старые автомобильные покрышки.
– Золото он, что ли, в них прячет? – спросил себя Кароль и полоснул по покрышке ножом.
Покрышки были пусты.
– Дурак какой-то, – пожала плечами Мара.
– Жмот, скряга и дерьмо, – обозленно добавил Кароль. – Держит дорогой коньяк на виду, а в холодильнике – вонючую рыбу. И копит старые покрышки на антресолях. Голову даю на отрез, что носки у него дырявые.
– Он умер, – напомнила Мара.
– Туда ему и дорога! Терпеть не могу таких типов! Пошли в мастерскую.
Мастерская была устроена в подвале. Маленькая клетушка, набитая железками, старыми кистями, пустыми тюбиками из-под красок и разбитыми глиняными горшками. Что он там делал, в этой мастерской? Судя по толщине слоя пыли, ничего. И давно так. Когда-то он там чертил или рисовал. На столе лежала пыльная рейсшина. В углу стоял ветхий мольберт. Но картин не было и здесь. Никаких. На стене – карта обоих полушарий, наклеенная прямо на штукатурку. Вешалка с рваными полотенцами и запыленными серыми халатами, рабочая одежда. Грязная раковина с остатками кофе, присохшими к стенкам. И больше ничего. Ни-че-го.
– Осталась только лавка на автобусной станции, – вздохнула я.
– Минуточку! – попросил Кароль и вышел. Он измерял что-то снаружи, потом измерял внутри. Качал головой и снова считал плитки. – Не сходится! – объявил, наконец, торжественно. – Тут должна быть еще конура.
Кароль внимательно оглядел стены, приподнял халаты, потом принялся разглядывать карту. Разглядывал долго, хмыкнул и велел принести связку ключей. И пока мы с Марой искали проклятые ключи, потому что их куда-то бросил Кароль и, как всегда, не помнил, куда именно, наш следопыт не решался сдвинуть палец с желтого пятнышка, погруженного в синий океан.
– Мадагаскар, – усмехнулся Кароль. – Я там был. Красивая дыра!
Первый же ключ вошел в остров Мадагаскар, как родной. И провернулся без скрипа. А за дверью, заклеенной картой, открылась кладовка, набитая холстами.
Первое же вытащенное Марой из общего ряда небольшое полотно имело явное сходство с картиной Паньоля, которую я видела у тети Сони в Париже.
– Ладно, разбирайся тут с этим барахлом, – велел Кароль. – А мы поедем к теще и тестю.
Итак, что мы имели в этой каморке? Во-первых, значительно больше картин, чем оставил Паньоль, а они, как известно, не размножаются почкованием. Эрго: тут не только картины Паньоля.
Чьи же?
Очевидно, есть картины самого Каца. И, возможно, еще каких-то художников. Могу ли я определить с первого взгляда, какие картины принадлежат кисти Паньоля, какие – нет?
Ага! Это – не Паньоль. Грязные цвета, неумелый мазок, мрак и тоска. Кажется, это та самая опушка городского парка, которую я наблюдала со скамейки в Нес-Ционе. То же дерево и под ним – куст, а под кустом – подобие фонтана. Только домов вокруг еще нет. Или есть, но не те дома. Какие-то скалы, или это контуры домов, замазанные так, что кажется, будто это – скалы. В общем, бред. Мазня. Откладываем.
Еще одна мазня и еще две. А вот это… кто-то пытался делать абстракт. Подписано… подписано «П. Б.». Пинхас Брыля? Черт с ним, нам это не подходит.
А вот эта бабочка на носу у женщины-облака – это для нас. Радостная какая! Надо же – куст, бабочки и облако. Бабочки раскачиваются на ветке, смеются и, кажется, целуются. Цвета чистые, но не очень интенсивные. И – красиво! Вот что хотите делайте, красиво! Не холодный сюр кишками наружу, а этакая весенняя фантазия, легкая и экспрессивная. Хорош! Минуточку, она подписана. Еврейские буквы. Малах Шмерль! Значит, Паньоль именно так подписывал тогда свои работы. Черт же его дернул уподобляться Браку, Делони и Сутину! Дурак, какой дурак! Откладываем. И эту – портрет молодого человека с четырьмя лицами, каждое в иной цветовой гамме, тоже откладываем. Тоже подписана. И опять Малах Шмерль.
А эту мазню – вон! И эту тоже – вон! А это у нас кто? Паньоль малюет под Кандинского? Ну не подлинный же Кандинский тут валяется?! Вон! Жалко, конечно, работа неплохая. Ладно, поставим в угол, поглядим, сколько у нас чего наберется. А это кто на картине? Роз! Точно – Роз! И уже совсем немолодая. Работа, значит, не такая старая. Но какой кондовый расейский реализм! Школа плохая, провинциальная. Подписано – Хези Кац. Он что, подписывался по-русски?
За этой картинкой открылась целая серия холстов с лицом музы Малаха Шмерля. Какое лицо! То дьявольское, то ангельское, но везде прекрасное, озаренное светом изнутри, и где-то я это лицо уже видела. Где?
Среди картин была торчком встроена большая папка, а в ней – десятки листиков бумаги разной величины и назначения – от обложек старых книг до листов, вырванных из школьных тетрадок. И все изрисованы, испещрены какими-то схемами и набросками. В папке встречались и картинки маслом. Шмерль, вернее, Паньоль писал их прямо по холсту книжных обложек, порой специально позволяя некоторым буквам заголовков входить в картину. Буквы были немецкие. А на одном листике красовалась головка той самой музы и было по-немецки же написано: «Эстерке! Не ищи меня! Я обязательно найдусь!» И подпись: М.
Я поглядела на свет: виднелись две дырочки от кнопок – одна посередине наверху, другая – тоже посередине, но внизу. Надо думать, что Малах приколол эту картинку на дверь или на стенку, сообщая таким образом своей музе, что куда-то ушел или уехал, а может, запил.
Эстерке! Это облегчало дело. Песя должна знать, о какой Эстерке идет речь. Эстерке – ласкательное от Эстер, а Эстер – это Эсфирь, то есть Фира, Фирочка, Эткале, Этуш, Эська, Эсенька, Эти. Эстерке – сокращение не такое уж частое. Ну что ж! Ищем Эстерке.
Подписанных картин Малаха Шмерля набралось чуть больше тридцати. Тридцать две для точного счета. И еще пять под вопросом. Эти пять не были подписаны. На неподписанных танцевали хасиды и цадики. А что мы знаем о хасидских танцах? Ничего мы о них не знаем! Я их видела, эти танцы, когда болталась в Цфате. Попала там на свадьбу под открытым небом и глядела во все глаза. Вот пузатый ребе выкидывает ноги налево и направо, идет почти вприсядку, а руками вертит над головой, словно тянет небо за сосцы. И не говорите мне, знатоку алтайской наскальной росписи, что ребе просто напился горячительного и вертит-крутит ручонками и ножонками в полузабытье или исступлении. Этот танец – моление о дожде. И не просто о дожде – о ливне, трещине в сводах небесных, откуда и должна излиться требовательно вызываемая влага.
Ах, доит наш ребе небесную корову, тянет упрямую за сосцы, крутит колесо ног, колесо вселенной, пытается запутать ветер и облака, заговорить, заболтать, умолить пролить драгоценную влагу не там, где облака собирались это делать, а там, где в том нуждаются люди. Но прочти я тогда в Цфате хоть и тридцать лекций по символике шаманского жеста, никто бы мне не поверил. А на рисунке этого Шмерля ребе добыл-таки воду из сосцов небесной коровы! Вот она, вода, льется сверху, наш ребе вымок до нитки и пляшет в радости. Он заставил Небеса дать людям дождь!
Я подумала: «на рисунке Шмерля», а речь между тем шла об одной из пяти неподписанных картин. Шмерль ли их рисовал? Я была уверена, что он. Вернее, Паньоль. Но есть еще какой-то художник, подписывавший картины буквами «П. Б.». И эти картины отдаленно напоминают картины, подписанные буквой «М» или полным именем – Малах Шмерль. Допустим, что речь идет о разных периодах творчества Паньоля. Назовем это: период «П» и период «М».
Однако в разные периоды творчества могут измениться колорит, мазок, способ раскрытия формы, точка зрения на перспективу, но не сам художник. «П», судя по картинам, человек жесткий, насмешливый, даже желчный, нервный и, пожалуй, злой. А «М» и «Шмерль» – весельчак, легкая натура, увлеченная миром и собой. Он моложе «П», наивнее, нежнее. Совсем без житейской горечи, даже на самом донышке души. Я бы сказала – просветленный тип человека…
– Ты еще здесь! – воскликнула Мара. – Давай картинки, едем!
– Я еще не до конца разобралась.
– Тогда тебя отвезет Абка. А мы поехали. Я уже еле на ногах держусь.
Назад я ехала в маленьком автобусике в обнимку с картинами. Вернее, картины ехали сзади, а я – спереди, рядом с Абкой.
– Это картины Хези? – спросил Абка вроде бы безразличным тоном, но в голосе явно чувствовалось скрытое недовольство.
– Эти картины оставил Кацу мой дед. Твоя мама его помнит, она его цимесом кормила. За ними я и приезжала в Ришон. На день бы раньше… даже на час. Может, Кац и не поехал бы в Тель-Авив. Я собиралась расспросить его о деде и тех временах. Он должен был продать картины Паньоля, но зачем-то их сберег. Или их никто не купил. Дед просил меня забрать эти картины у Каца.
– Кому они нужны! – сказал Абка потеплевшим голосом. Я поняла, что подозрение в мародерстве с меня снято. – Твой дед стал знаменитым?
– В другом смысле. А художник из него получился средний.
– Средний – это тоже хорошо. А что ты собираешься делать с картинами? Развесишь по стенкам?
– Еще не придумала. Может, все же удастся продать. Если даже только по тысяче долларов, уже набирается на первый взнос за дом. А мне еще полагается особая ссуда на квартиру.
– Ну, это ты загнула! – рассмеялся Абка. – Кто даст тебе за эти картинки по тысяче долларов? У моей мамы одна такая висит, так она ее всем даром предлагает, никто не берет. Там голая тетка нарисована, но, слава богу, сзади.
– Я хочу посмотреть эту картину. Может, я ее куплю.
– Приезжай. Мать тебе будет рада. А картину она тебе, пожалуй, так отдаст. Или, знаешь что, привези ей куклу. Она собирает куклы в национальных костюмах. У нее их штук сто. Обменяетесь.
Я не спросила у Абки, как дела у Женьки. Абка хотел мне что-то сказать, но так и не решился.
6. Дом, построенный буквой «Б», и рождение Малаха Шмерля
Картинки Паньоля, вернее, Малаха Шмерля превратили меня в скупого рыцаря. Я без конца их перебирала, разглядывала, позволяла то одному, то другому полотну утянуть меня внутрь, а себе раствориться в нем, чтобы прочувствовать каждый штрих изнутри, так, словно это я держу кисть и должна сделать нужное движение, никакими логическими факторами не обоснованное. Здесь нужно зеленое… Почему? Так. Потому что зелено на душе, в окне, в зеркале, черт его знает где! Кстати, зеленого много. Что означал этот цвет для моего деда? Тоску по европейской зелени, радость оттого, что на дворе весна, а у плиты хлопочет Эстерке, или… или более сложную символику зеленого как знака обновления мира? И то, и это, и третье, очевидно.
Кароль моего восторга не разделял.
– Ты что, всерьез надеешься сделать из этого большие деньги?! – спросил с раздражением. – Лучше вспомни дом Каца. Это же не дом, а сокровищница! И таких домов много. Я уже договорился с полицией. Нам будут сообщать о смерти одиноких старичков. А тебе придется ездить и смотреть. В качестве эксперта. Поедешь, посмотришь, отложишь в сторону то, что нужно, и доложишь мне. И все! И больше никаких забот!
Только этого не хватало! Мародерство какое-то! А как откажешь?
– Так никто не делает! – попробовала я мягкую линию защиты.
– А мы будем первыми! Куда деваются вещи покойников, не имеющих наследников? Их забирает за долги мэрия. Или государство. А по дороге вещи пропадают. В лучшем случае оказываются в квартирке мелкого служащего или на Блошином рынке, в худшем – на помойке. А я не собираюсь эти вещи красть. Заплачу по сходной цене. И государству выгодно, потому что иначе оно никаких денег никогда не увидит. И нам полезно, потому что первый покупатель всегда выигрывает. Ну, как?
Он был очень доволен собой. Понимает, гад, что я не хочу этим заниматься, и радуется, что прижал к стенке.
– Ладно, – согласилась я. – Поеду и оценю. По приглашению полиции или мэрии. И составлю документ под копирку. В трех копиях, одна мне. Согласен? А за консультацию мне должны платить. Не ты, а они.
– Еще чего! Я с ними так не договаривался.
– А на других условиях я этого делать не буду. И тебе не советую. Ты же собрался в мэры.
– Пошла ты! – разозлился Кароль. – Я тебе предлагаю хороший бизнес, а ты кочевряжишься. Сиди тогда на своих булках с кефиром! Не будет тебе комиссионных! Дура ты!
– Может, и так. Только после того, как я напишу о Шмерле, обо мне заговорят. И я не хочу, чтобы за мной тянулись грязные истории.
– Заговорят, заговорят! Это еще бабушка надвое сказала! А тут – живые деньги. И не грязные, а очень даже законные! Ну, не хочешь, как хочешь. Я найду специалиста. Только тебе с этого – шиш с маслом.