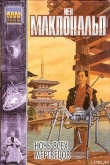Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
А я, честно говоря, не удивилась ни внезапной галантности нашего подполковника, ни его светским манерам. Кароль был человеком с тысячью лиц, мог вести себя и так и этак, потому его и побаивались. Какой он на самом деле, не знал никто. Чума тоже не удивилась.
– Знаешь, – сказала она задумчивым тоном, – Кароль… он из тех мужчин, с которыми хорошо попасть в беду. Я бы не испугалась, останься мы с ним вдвоем посреди пустыни и без воды… он бы что-нибудь придумал и спас нас обоих. Ни за что меня там одну не оставил бы. Но на необитаемый остров я бы с ним не хотела попасть. Один из нас должен был бы умереть.
Ах, какие шашлыки подал Кароль Гуэта будущей теще! Фея съела всего три кусочка, так что и нам перепало. А шабли вредная Марина мамаша поставила около себя, сама не пила и другим не дала. Потом долго пели. Оказалось, что Марина матушка была знаменитой болгарской эстрадной певицей, а в Израиле ей с трудом удалось организовать пару концертов. Кароль это, очевидно, знал и стал умолять бывшую диву спеть. Та долго не ломалась и спела несколько старых шлягеров. Овация публики была ей наградой. А затем она вступила в оживленный разговор с Каролем по поводу возможного возвращения на сцену. Спустя четверть часа Кароль был назначен импресарио тещи, которая расцеловала дочь и зятя и горячо их благословила прямо над потухшим костром.
Но публика хотела новых песен, и в круг вступила Луиз. Голосок у нее был небольшой, но приятный. Женька внимательно слушал.
– Нашел свою Прекрасную Даму? – спросила я с непонятным мне самой раздражением.
– Скажи одно слово, и она исчезнет с горизонта.
– Мне нечего сказать. Надеюсь, эта Андромеда не потребует от тебя подвига.
Женька почернел лицом, скрипнул зубами и исчез. А отец Мары спел песню на ладино, и дива ему подпевала. Потом… В общем, пели все, каждый свое. Даже я спела какое-то русское страдание из фольклорного репертуара нашей студенческой компании. Хлопали и мне, потом хором орали «Катюшу». А под конец, как водится, в ход пошел репертуар армейских ансамблей и израильский шансон.
Кароль успел за это время съездить за «Понтиаком», отвезти тещу с тестем, вернуть «понтиак» на место, приехать на наше стойбище на грузовичке и собрать в него все, что оставалось от пикника, включая меня и мой тюфяк. Потом дорулил вопреки запрещающему дорожному знаку до самого дома, затащил меня на средний этаж, устроил на одном из диванов, разгрузил и расставил по местам вещи, сварил кофе, налил его в термосы и повез туда, где, как я поняла из утреннего доклада счастливой Мары, пели до рассвета и даже с рассветом не хотели расходиться.
На этом рассказ о событиях, завершившихся пикником у моря, можно было бы и закончить. Но к нему прилежит история, случившаяся двумя неделями позже. Мне хотелось бы рассказать о ней здесь, потому что в последующем повествовании для нее вряд ли найдется место.
Чума продолжала хлопотать о присвоении дяде Саше Белоконю звания спасителя еврейского народа и добилась своего. Ее упорство меня заразило. И я решила заняться поиском друзей, родственников и знакомых моего родного отца.
Почему я не занялась этим раньше? Как-то не до того было, а кроме того, мама меня предупредила: никаких поисков родни! Мне еще в раннем детстве сказали правду: мой отец погиб. Звали его Ежи Беринский. И что бы кто бы о нем не сказал, я должна помнить: он был самым хорошим человеком на свете и очень любил маму и будущего ребенка, то есть меня.
Но у Чумы была своя точка зрения. Известно, что моего отца расстреляли за то, что он вынес свою любовницу, мою будущую маму, из гетто. Значит, какая-то сволочь донесла немцам. Так? Так. Эту сволочь неплохо бы опознать. Кроме того, родственники и друзья отца могут плохо относиться к женщине, из-за которой он погиб. То есть к моей маме. Так? Так и не иначе, незачем спорить! Мама об этом знает, поэтому велела к ним не соваться. Но я – родная дочь, единственная живая память об отце. А это – другое! Совсем другое! Его близкие могут очень мне обрадоваться. И оказаться прекрасными людьми. У них могут быть фотографии отца. Они могут много о нем рассказать. Значит, надо искать!
И мы объявили поиск.
Чума, регулярно навещавшая заведение «Яд вашем», нашла там сведения о моем отце, потом обнаружила адрес его выжившего и – надо же! – приехавшего именно в Израиль брата, который эти сведения и представил. Я поехала в Хайфу.
Я бы не хотела, чтобы мой отец выглядел как инженер Станислав-Шимон Беринский. Лысый, с вытянутым вперед лицом, напоминающим лисью морду, с тонкими губами и обиженным выражением лица. Судя по виду, неудачник, но: инженер при мэрии, большой человек по самоощущению. Как это совмещается? Да просто: не получилось из человека то, что он сам себе изначально назначил, а он не то чтобы удовлетворился меньшим, а пытается раздуть это малое в то большое, чего не было и, наверное, не могло быть. Поэтому обижен на судьбу, но пытается сделать вид, будто она, судьба, просто придавила его подарками из рога изобилия. История банальная и противная. Такие люди вызывают у меня физическую тошноту. Мишка, мой бывший муж, тоже из этих.
Возможно, это мое неприязненное отношение с первого взгляда и определило все, что на той встрече произошло. Сейчас в этом уже не разобраться.
Я пришла в мэрию, спросила, где могу найти Шимона Беринского. Меня даже не спросили, по какому поводу. Сказали: «Двести восемнадцать, второй этаж», и я стала подниматься по лестнице.
Судя по всему, инженер Беринский был не так уж и нужен хайфской мэрии. У других кабинетов толпился народ, а перед двести восемнадцатым было пусто. Я постучала и вошла. Инженер Беринский стоял спиной ко мне и глядел в окно. Рабочий стол был пуст, зато стены кабинета были густо завешаны фотографиями в одинаковых рамках. Под фотографиями красовались белые полоски целлулоида с выдавленными буквами – красными, синими и черными. Несколько надписей удалось прочесть за время, понадобившееся инженеру Беринскому на то, чтобы повернуться к посетителю передом, к окну задом. На одной – зелеными буквами – сообщалось, что перед нами – инженер Беринский в обществе заместителя председателя союза ветеранов. Красные буквы связывали инженера Беринского с главой какой-то фракции. Черные – с заместителем главы хайфской мэрии. Я решила разглядеть другие фотографии, чтобы понять, означает ли цвет букв общественную или иную градацию людей, которым инженер Беринский оказывает честь сняться рядом с собой, или же цвет зависит только от наличия тех или иных чернил в приспособлении для печатания надписей. Но инженер Беринский спросил: «Ну-с, чем могу быть полезен?» – и расследование пришлось прервать.
Первую фразу я заготовила заранее. «Расскажите мне о Ежи Беринском. Это – мой отец».
– И кто же сказал, что он твой отец? – насмешливо спросил инженер Беринский.
Такой немедленной и лобовой атаки я не ожидала. Можно было подумать, что инженер Беринский изнурен набегами неправомочных детей брата.
Я молча протянула письмо отца. Беринский пробежал его глазами, хмыкнул, подержал в руках и неохотно вернул листочек.
– Это ничего не значит! – сказал он, тряхнув головой. – Судя по всему, твою мать зовут Мирьям. Она спала с немецким офицером. Так что я еще не знаю, полагается ли тебе израильский паспорт.
Инженер Беринский был явно доволен собой. Он засунул руки в карманы и прошел от стола к окну фривольной походкой человека, получившего в карточном раскладе полный марьяж.
– Вы держали свечку? – спросила я, как мне казалось, спокойно. Унять дрожь, подступавшую к горлу, было непросто.
– Это знали все!
– Кроме моего отца?
– Ха! Так бывает со всеми рогоносцами.
– Видно, отец хорошо знал вашу пакостную натуру, поэтому и призвал меня не верить тому, что будут говорить вам подобные. Кстати, кто донес? Этот вопрос меня чрезвычайно интересует. Кто донес фрицам, что мой отец вынес мою маму в мешке с мусором?
Я сказала это, чтобы что-нибудь сказать. Надо было уходить, но у этого типа наверняка сохранились фотографии. Он мог многое рассказать. Ах, как все нехорошо получилось! За мыслями о том, можно ли поправить ситуацию, я не сразу заметила перемены, произошедшие с инженером Беринским. Его лицо вытянулось вперед еще больше. Юркие глазки носились туда и сюда, как шарик детского бильярда, не находящий лузу. Инженер Беринский присел, руки у него мелко тряслись.
– Ты ничего не сможешь доказать! – прошипел он натужно.
– Смогу, – сама не знаю, зачем и почему ответила я.
Инженер Беринский прыгнул ко мне, протянув руку к прощальному письму отца, которое я все еще держала в руках, но промахнулся.
– Почему! – крикнула я. – Почему ты это сделал?!
– Он украл все семейные драгоценности и отдал этой своей шмакодявке! Он оставил меня и свою мать без гроша.
– Его мать и моя бабушка сама отдала ему все эти цацки. Я их видела не раз. И – вот! – кольцо на мне. Мама не раз говорила, что это – подарок бабушки! Я сделаю все, чтобы Израиль узнал, кто такой Шимон Беринский! – мой охрипший до сдавленного шепота в конце фразы голос удивил меня самое. Я и не знала, что способна на такое.
– Я выкину тебя из Израиля! – заорал мне вслед озверевший голос убийцы моего отца.
Чума рассказала эту историю какому-то сочувственному дядечке в «Яд ва-Шем».
– Мы знаем, что там что-то нечисто, – вздохнул дядечка, – но про гетто и так ходит столько нехороших слухов. Не надо ворошить старую историю. Я сам оттуда. А этот Шимон Беринский… про него многое говорили. Зато сам Ежи был славным парнем. Люди его любили. Смелый и надежный. Я до сих пор не знаю, как он вынес свою Мирьям вместе с мусором. Такой щупленький был. Невероятная история! Скажи твоей приятельнице… впрочем, Ежи все сказал сам. Мирьям была красоткой. На нее многие заглядывались. Но шлюхой она не была. Совсем еще девчонка. Кстати, мне кажется, что ее отец, дед твоей подруги, живет в Париже. Он расстался с ее бабушкой еще до войны. Говорили, что это она рассталась с ним. Такой тип был, одно слово – художник! Приезжал как-то сюда с какой-то делегацией. Я с ним разговаривал. Сумасшедший старик, но занятный. Передай это твоей приятельнице. Адрес я достану.
Про деда, живущего в Париже, я знала и без него. И адрес лежал в сумке. Я даже писала по этому адресу, но ответа не получила. Тогда это меня нисколько не огорчило. Но сейчас стало настоятельно необходимо разыскать деда, пребывающего в бегах. Моя мать мне не звонила и не писала. Тетя Сима писала, но что толку? Приехать она никогда не сможет, потому что никакая она мне не тетя, да и не еврейка к тому же. Родной дядя меня не признал и грозил выгнать из Израиля. Мужа я оставила, любовник ушел к другой. У Кароля на худой случай есть мать, пусть и брошенная в кибуце, а у меня – никого! Все говорят, что от родственников, когда они есть, проку немного. Но когда их нет, в эту правду жизни трудно поверить.
4. Пирог из вчерашнего дня
Дед мой известен миру как Паньоль. Он – знаменитый французский концептуалист, что означает в нашем случае – скандалист, зачинщик всевозможных провокаций и создатель кошмарных инсталляций, сопровождаемых фейерверком трепотни.
Паньоль болтается по миру, правда, уже не лазит по стенам знаменитых зданий на специальных канатах, но все еще пирует в помойных ящиках и рассылает критикам свое дерьмо и прочие гадости, что, впрочем, есть плагиат. Однако он оспаривает первенство Дюшана в этом вопросе, и вполне возможно, он прав.
Быть внучкой Паньоля – это и почетно, и накладно, но в моей личной ситуации это в первую очередь неудобно. У Паньоля нет обязательств перед миром и людьми, он сам по себе, и если я хочу погреться в лучах его славы, мое дело, как я это устрою. А если мне не хочется соединять свое имя с Паньолевым, опять же – мое дело, как я смогу этого избежать.
Мама никогда не рассказывала мне о своем отце. В детстве я была уверена, что она родилась, как сиротка в сказке, из макового зерна и бабкиной слезы. Про родительский дом речи не было никогда, неизвестно было даже, где этот дом находился. Поэтому я долго не знала, что у меня есть живой дед.
Во времена моей юности в советских газетах и журналах проскальзывали сведения о безобразиях Паньоля, но безобразия причесывали, смазывали брильянтином и обливали духами, потому что тогда Паньоль еще был коммунистом. Это нам, компании молодых и принципиальных жриц и жрецов свободы, уверовавших в высокое назначение искусства, не нравилось. Коммуняк, да еще западных, мы не любили. Но выходки Паньоля одобряли. Наш парень!
Сообщение о том, что знаменитый Паньоль – мой родной дед, упало на мою голову как снег в июле, но мне предписали сохранять это невероятное приключение в тайне. Рассказала мне об этом Сима по поводу приезда Паньоля в СССР. Рассказала на всякий случай, если Паньоль вспомнит о дочери и внучке. Мама встречаться с ним не станет, объяснила, а мне, возможно, стоит встретиться. Но никто из моих друзей, включая ближайшую подругу Машу, не должен знать, что у меня возник дед и зовут его Паньоль. Потому что, если Паньоль о нас с мамой забыл, это лучше для нас обеих.
Я тут же смекнула, что если мой родной дед родился в Варшаве, как сообщают журналы, там должен был быть и мамин отчий дом. Естественно, об этом лучше не знать никому, даже подруге Маше. И лучше, если Паньоль не станет нас с мамой разыскивать. Все же эта позиция укрепилась в моем сознании не сразу. Поначалу жутко хотелось ткнуть пальцем в газетный лист или журнальную страницу и хвастливо сообщить: «Между прочим, Паньоль – мой дед. Какая сволочь!»
Первые такие позывы я погасила силой воли. А потом никакой воли уже не требовалось. Желание погасло. Приехав в Израиль, я поначалу и не вспомнила о Паньоле. Потом в порыве отчаяния написала ему, просила рекомендации к местным искусствоведам. Ответа не поступило, но к тому времени я уже поняла, что рекомендация Паньоля – штука опасная. Врагов у него много, особенно в моем цехе.
Я не стала продолжать поиски. Тут уж и Чумины уговоры не помогли. Не хотела я встречаться с дедом, который не хотел меня знать. Только Чумино упрямство не знает пределов. Она аккуратно переписала старый адрес деда в записную книжку и прищурилась. Этот прищур я знала. Он означал: ты, мол, как себе хочешь, а я, Чума, сдаваться не собираюсь. Пришлось пойти на шантаж. Я страшилась встречи с дедом, но и у Чумы был свой страх. Она тогда еще не знала, что дядя Саша Белоконь умер, и боялась, что он узнает о ее существовании как-нибудь не так.
– Пока он обо мне ничего не знает, у меня есть отец, – бубнила Чума. – И я не хочу его потерять.
Вот и пришлось пригрозить: если Чума разыщет Паньоля, я сообщу дяде Саше, что в Израиле у него объявилась дочь. Ну а потом мы вместе оплакали дядю Сашу Белоконя. А спустя некоторое время случилась проклятая выставка. Когда Чума исчезла, я оказалась круглой сиротой. Иногда изливала душу Маре, но облегчения это не приносило. Чума была повернута ко мне всей полостью своей души, а Мара разве что форточку приоткрывала. И то сказать: Чумина душа – ночь со всей ее чуткой осторожной глубиной. Может испугать до смерти, но может и убаюкать, приласкать, открыть тайну, заворожить. А Марина душа – грозовые сумерки, так и слышишь, как пролетают бесчисленные разряды. И что бы Мара ни говорила, о ком бы ни рассказывала, все у нее о себе. Нет там места, в этой душе, ни для чего и ни для кого другого. Слушает внимательно, но слышит вряд ли. В пустыне и с ней не страшно, а вот оказаться вдвоем с Марой на необитаемом острове… нет, такого я бы себе не пожелала.
Но если продолжать рассказ дальше в порядке поступления событий, у этих записей не будет конца. Поэтому начну дальнейшее повествование так: «Это было давным-давно, когда израильские старики с гордостью рассказывали, что ни разу не покидали насиженного места, а молодые, слушая их, покорно вздыхали. Молодых всегда куда-нибудь тянет, а зачем, спрашивается, человеку болтаться по миру, когда вокруг столько несделанных дел? Старикам тогда редко перечили, и автобусы ходили редко. Людей в Израиле было вполовину меньше, чем сегодня, и расстояние еще было расстоянием: два часа от Тель-Авива до Ришона – это же не рядом! А мне нужно было найти одну шляпную мастерскую».
Нет, конечно, если бы мне действительно вдруг пришло в голову тащиться в Ришон за шляпкой, сюжет оказался бы прост и незатейлив. Ну, слетела-таки баба с колес, и всех делов. Разошлась с нормальным работящим мужиком, кандидатом наук, связалась с браконьерами и аферистами и в этом сбрендившем состоянии поперлась из Тель-Авива в Ришон за шляпкой.
Рассказывать эту историю надо было бы в таком случае в назидание неразумным женам. Но я-то считала себя как раз очень разумной. Да и жизнь моя тогдашняя, которая сегодня вспоминается в виде пилы, разномастные зубья которой впивались в тело со всех сторон, виделась норовистым конем, скачущим напролом, туда и сюда, не зная дороги. И такая жизнь мне нравилась. Может, я и сорвалась с цепи, но сидеть на цепи мне так опостылело, что скакать с гиканьем на неоседланном коне было не в пример веселее.
Только в Ришон я поехала вовсе не за шляпкой. Поехала я за долгом. Задолжали не мне, а Паньолю. И не сейчас, а сорок лет назад. Более того, получить деньги по этому долгу, пусть даже с процентами и привязкой к индексу, я не только не надеялась, но и не хотела. А суть дела такова: уезжая из Израиля в 1935 году, Паньоль оставил человеку по имени Йехезкель Кац тридцать своих картин. И полагал, что Кац картины продал, а деньги присвоил. Так он сказал своей сестре и маминой тете Соне, живущей с давних пор в Париже, узнав от нее, что я приехала в Израиль. Оказывается, до этого разговора он вообще не имел представления о моем существовании. И письма моего, выходит, не получал. Возможно, адрес был старый, или выпало оно из его почтового ящика. Или выпало из его суматошного сознания. А вероятнее всего, просто не хотело в этом сознании оставаться.
Что до Сони, тут положение было еще более сложным. До ее первого письма о существовании этой родственницы я вообще никогда не слышала. И вдруг – получаю от нее письмо. Откуда она узнала о моем существовании – представления не имею. Подозреваю, что сообщила ей обо мне вездесущая Чума, но та отказывается. Получается, что адрес Бенджи, на который было отправлено письмо, тете Соне приснился.
Однако конверт был настоящий, из хорошей бумаги с обратным адресом мадам Сони Сомон: «Париж, улица Сент-Оноре, дом и, бельэтаж». А внутри лежало коротенькое письмецо, написанное по-польски детским почерком. Тетя Соня была бы счастлива увидеть дочку маленькой Мирьям, которую она считала погибшей, так пусть я скорее приеду. А «пуки цо» мой дед Паньоль отдает мне свои картины. Дальше следовала приписка уже по-французски и графически отработанным почерком. Мой дед Паньоль сообщал этими строками мне и Йехезкелю Кацу, живущему в Ришоне и имеющему пуговичную мастерскую на городской автобусной станции, что оставленные им, Паньолем, названному Кацу картины принадлежат теперь мне. Я должна эти картины забрать и продать, но не под именем Паньоля, а под тем именем, каким они подписаны. В случае если картины были проданы, полученные за них деньги должны быть переданы мне для последующей передачи Паньолю.
Под сухим, деловым и строгим распоряжением Паньоля разбросала во все стороны уже французские буквы тети Сонина приписка. Мадам Сомон стыдливо сомневалась в том, что картины сохранились, но получить с Каца деньги все же стоит попробовать. Когда-то Кац с Паньолем были друзьями. Я же понадеялась как раз на то, что этот Кац сложил картины на антресолях и забыл об их существовании, а потому картинки как лежали, так и лежат. Объясню, для чего они мне были нужны.
Напомню, что я остро нуждалась в жилье. А в Яффе тогда было много домов, принадлежавших убежавшим или пропавшим без вести арабам. Дома эти мэрия присвоила (а что с ними делать, если налог взимать не с кого?) и продавала за сравнительно небольшие деньги художникам и прочей творческой интеллигенции. А в официальных бумагах Министерства абсорбции было написано черным по белому, что творческой интеллигенцией являюсь именно я.
Эта запись произвела должное впечатление на работников мэрии, с которыми по поводу ковров и по моему поводу общался Бенджи. В результате мне предложили найти подходящую развалюху и внести за нее первый взнос. Развалюху я нашла. Она стояла в старом саду за высоким и вполне еще крепким деревянным забором. И начиналась с крыльца, к которому вели каменные ступени, выложенные расписанной вручную плиткой. Однако подниматься по этим ступеням было небезопасно. Они покачивались под ногой и при каждом шаге что-то там, под исподом, осыпалось. Но само крыльцо было великолепно – фактически не крыльцо, а терраса. Правда, с выломанными боками. Зато – прекрасных пропорций, с выщербленными, но в целом неплохо сохранившимися колоннами и двумя нишами, а в них – с остатками каменных ваз, в которых некогда, очевидно, выращивали петунию и душистый горошек. Иначе – откуда было взяться там чахлым росткам именно этих растений? А вход в дом украшала огромная резная дверь, замка на которой не было.
Через эту дверь вы попадали в залу гигантского размера и неописуемой красоты. В настоящую залу с венецианским окном от потолка до пола, в котором еще торчали остатки витражного стекла, и с резным и расписным деревянным потолком, в котором роились летучие мыши.
В таких залах с выбитыми стеклами и летучими мышами должны пировать призраки, и они пировали. На выщербленных, но тоже вручную расписанных плитках пола валялись использованные шприцы, банки, бутылки, остатки трапезы и бумага: оберточная, газетная, туалетная и непонятного назначения. А углы залы служили призракам уборной. Призраки произвели немалое количество дерьма, что означает: бездомные питались в Яффе вполне прилично.
По определенным причинам, которые прояснятся дальше, не могу описать великолепие остальных комнат, над которыми сверкало небо. Крыша над ними то ли улетела, то ли распалась, то ли была содрана реставраторами соседних домов. Но можете мне поверить: и в таком разгромленном виде неприметное с улицы здание представляло собой настоящий дворец, который требовал срочного и большого ремонта.
С ремонтом я надеялась справиться собственными силами, изредка прибегая к посторонней помощи. Класть кирпичи и штукатурить я умела. Наш дом на улице Каляева в Ленинграде имел тенденцию к саморазрушению, и мы с Симой противостояли этой тенденции достаточно успешно. Ремонт не прекращался ни на день. И производился он нашими женскими руками. Поэтому дыры в стенах, шаткие ступени и штукатурка, осыпающаяся при неосторожном дыхании, меня не пугали.
С крышей было хуже. Я представления не имела, как подступиться к этой задаче, но понадеялась на помощь башибузуков Бенджи. Вокруг Бенджи вертелась целая армия бездельников, несколько часов в день таскавших кули, коробки, мешки и ковры, а все остальное время пивших кофе и придумывавших повод для ссоры друг с другом или с окружающим миром. Я предполагала, что Бенджи с удовольствием отправит парочку этих бандитов на починку моей крыши, лишь бы не вертелись весь день перед глазами. А я уж сумею заставить башибузуков заняться производительным трудом. Вот только надо было внести мэрии первый взнос за дом, а денег у меня не было. Вернее, были. Те, которые мы заработали вместе с Женькой продажей амфор и монет. Но трогать этот клад я не хотела.
Деньги можно было одолжить у Кароля, но тогда я попадала к нему в прямую долговую зависимость, а внутренний голос советовал мне этого не делать, и Бенджи этот совет одобрил. Я пыталась указать внутреннему голосу на то, что рядом с Каролем теперь находится Мара, которая в случае чего придет мне на помощь, но он, голос, своей точки зрения не менял и продолжал бубнить. А бубнил он о том, что Кароль не позволит мне привести комиссионные в соответствие с выплатами по долгу, долг будет расти, а комиссионные – нет. Доказать ничего нельзя будет, и я превращусь в вечного и безответного должника.
Бенджи вздыхал вместе со мной по поводу того, что вот, нашелся такой дом и пропадет втуне, но денег не предлагал. Беспроцентную ссуду предложил, к моему удивлению, старец Яаков. Просто так предложил. Спросил, сколько нужно, и велел открыть средний ящик невзрачного комодика. Я отсчитала нужную мне сумму и протянула Яакову для проверки. Он махнул рукой. Ящик был набит купюрами. И хотя сумма, которую я себе отсчитала, была немаленькой, ящик оставался полным.
Но после того как я отдала деньги кассирше в мэрии и расписалась на десятке бланков, пришлось экономить даже на автобусе. Денег, которые платил мне Кароль, хватало только на ежемесячные выплаты старцу Яакову, на муниципальный налог, оплату членства в больничной кассе и две булки с тремя баночками кефира. Овощи и фрукты почти насильно впихивала в меня заботливая Мара, перешедшая к тому времени в вегетарианство. А шашлыки и паленые куриные крылышки, которыми изобиловали пикники у моря, у Кароля на крыше и у Бенджи на рынке покрывали изъяны рациона.
Мне были обещаны хорошие комиссионные, и слово свое Кароль держал, но в его галерее не было вещей, продажа которых принесла бы приличную сумму этих самых комиссионных. Так я оказалась в положении хуже губернаторского. Жить в моей развалюхе было нельзя, ремонтировать ее было не на что, снимать квартиру – тоже. Жила я все в том же чулане при галерее, а свободное время проводила в собственном саду, где благоухали одичавшие розы, томно пахло туей и буйствовали лопухи.
Старую грушу надо было спилить, она прогнила до основания, но весной на ней вдруг распустился пустоцвет. А две сливы были вполне живые и все еще порождали сочные и сладкие плоды, что говорило о силе породы и жизнестойкости натуры этих плодовых деревьев, которые вот уже тридцать лет никто не окучивал, не белил, не удобрял и не поливал.
Я потихоньку чинила крыльцо и штукатурила стены, хотя и знала, что первый же дождь зальет эту мою штукатурку и ее разрушит. Дом не может выстоять без крыши, а башибузукам Бенджи надо было платить, и желательно не отходя от места. К моему счастью и несчастью нормальных владельцев садов и огородов, зима выдалась почти без дождей.
Короче, деньги нужны были срочно, и голова гудела от всяческих идей, как и где можно эти деньги заработать. Но что бы я ни придумывала, все оказывалось хуже, чем давняя фантазия: найти или выдумать неизвестного миру великого еврейского художника, раскрутить его, то есть прославить, и объявить себя единственным душеприказчиком этого небывшего персонажа. А уж потом – продать картины, окончательно расплатиться со старцем Яаковом, отремонтировать дом силами профессиональных тружеников и на этом успокоиться.
Осуществить этот потрясающий по красоте и эффективности план мешало одно: никак не попадался незаслуженно похеренный, волей судеб забытый или по собственной вине не открывшийся миру художник, которому мой эффективный пиар помог бы подняться во весь рост из полного небытия.
Я облазила все израильские музеи и галереи, обошла владельцев коллекций, перерыла массу архивных материалов, и все впустую. Многих художников я бы с легкостью вывела из-под ореола незаслуженной славы, но возложить венец на чью-то непризнанную голову не могла. Не оказалось такой головы. И тут пришло письмо от тети Сони.
У меня не было сомнения в том, что до того как Паньоль стал известным авангардистом, он писал в традиционной манере. Все авангардисты одним миром мазаны. Поэтому я нисколько не удивилась, обнаружив в старых палестинских журналах несколько репродукций его ранних картин. Долго разглядывала серые журнальные оттиски и решила: подходит! Дед был очень недурным живописцем, но эти свои работы теперь не выставлял и не разрешал публиковать. Авангардисту они не подходили. И все же получить его согласие на мистификацию надо, иначе может выйти гнусный скандал, а уж в таком случае Паньоль точно побеспокоится о собственной выгоде больше, чем о репутации внучки. Зато если удастся с дедом договориться, можно считать, что я нашла своего неизвестного художника!
Биографию можно было списать с деда. Она была хоть куда: Палестина, Испания, поиски, скитания, французское Сопротивление, да еще и коммуняка! Тут и исправлять ничего не надо. Погиб в гестапо, как еврей и коммунист. Под другим, разумеется, именем. Хорошо бы Паньоль сам подтвердил, что был такой художник. Был и пропал в застенках вместе с семейным архивом! А картины случайно сохранились.
Нет, положительно все сходилось и требовалось выпить, но пить стало не с кем. Кароль и Мара снова болтались по свету. Бенджи молодая жена запретила не то чтобы пить, смотреть на спиртное. Не будь она беременна, он бы рюмочку пропустил, а так – боялся расстроить супругу. Ждали сына и внука. Старец Яаков следил за Бенджи строго. Приказал во всем жене потакать и ежедневно дарить подарки, чтобы она смеялась, потому что наследника акций Электрокомпании следовало назвать Ицхак. У Падизадов всех первенцев называли только так. А Ицхак, «тот, кто будет смеяться», как он будет смеяться, если его к этому не приучили еще в утробе матери?!
И тут мадам Сомон сообщила в очередном письме, что очень хочет меня видеть и что Паньоль в Париже и обещал заглянуть на часок, если я появлюсь. Познакомиться, так сказать. Если бы к этому письму был приложен билет, дело бы решалось просто. Но билета не было. Помогла Мара. Сказала, что человек без семьи – это ничто и никто, а заботиться о работниках – прямая обязанность хозяина. Деньги на билет и гостиницу были выписаны мне в качестве вознаграждения за усердный труд и еще в качестве праздничного подарка. О каком празднике речь, я и спрашивать не стала. Мало ли их уже прошло, а сколько еще будет! Кароль сам заказал билет и гостиницу, а Мара добавила от себя триста долларов на расходы и наказала питаться в хороших ресторанах.
– Твоя тетушка будет кормить тебя фаршированными голубями, а это – жуткая гадость, – доверительно сообщила она. – Я этих старых эмигранток знаю, у меня там тоже есть такая тетушка. А понять Францию можно только через французскую кухню. У них любой мусор идет в пищу, но прежде его превращают в конфетку. Научиться этому – значит научиться жить.
Тетя Соня, родная сестра Паньоля, названного при рождении Пинхасом Брылей, и не менее родная тетка моей мамы, оказалась моложавой дамой. Ноги еще держали ее крепко. Стряпню она ненавидела, а фаршированных голубей терпеть не могла. Жила тетя Соня в небольшой уютной квартирке. Квартира и деньги в банке остались ей от мужа, а от безвременно умершей дочери осталась кровать под кружевной накидкой, на которой мне было велено располагаться.