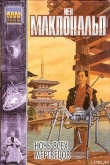Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
А мы поможем им появиться на свет, для чего мне предстоит провести очень много времени в польской книжной лавке и в салоне «Старе място»; одна комнатка с крошечной прихожей, старый протертый диван, покрытый белоснежной накрахмаленной простыней, пять потертых стульев, прикрытых вязаными салфетками, коллекция старых польских открыток и кафешантанных плакатов на стене.
Из рассказов изысканных полек с испорченными тяжелой работой руками, из их воспоминаний и фантазий обязательно всплывет школа какого-нибудь провинциального мастера, а уж мне предстоит отдать ему в ученье нашего Шмерля. Ах, каких только рассказов я не наслушалась в салоне пани Стефы, истово боровшейся с моими веснушками!
Фантастические вещи, скажу я вам, творились до войны в маленьких еврейско-польских городках; потрясающие события, ничуть не похожие на привычные россказни о еврейских местечках с их глупыми раввинами и хитрыми ешиботниками, происходили там. В рассказах клиенток пани Стефы вообще не было ни ешиботников, ни раввинов. В них томились, страдали и веселились очаровательные барышни, прекрасно игравшие на фортепиано и сходившие с ума от Ницше. Барышням соответствовали талантливые студенты, приезжавшие на каникулы и крутившие с этими барышнями необязательные романы.
Ах, эти провинциальные еврейские мальчики, мечтавшие завоевать Варшаву, Берлин и Париж! Какие стихи они сочиняли! Какую музыку писали! Как тонко разбирались в живописи и как изысканно шутили! Как горячо они рассуждали о мировой политике, всеобщей справедливости, о закате старой Европы и восходе новой культуры! И какую же готовность они проявляли к тому, чтобы стать создателями этой культуры! Если бы не Гитлер, – вздыхали изысканные польки, – наши мальчики стали бы духовной силой мира, их имена были бы на устах у всего человечества.
Вот тут я и должна вступить с предложением вспомнить замечательного молодого живописца Малаха Шмерля. Учился поначалу в какой-то провинциальной мастерской, но у хорошего учителя. Старого неудачника, в сердцах покинувшего негостеприимный Берлин.
Берлин? Именно Берлин. В работах Шмерля угадывалась берлинская школа. Как и у Паньоля, впрочем.
А в косметическом салоне «Старе място» мне тут же подскажут имя этого неудачника и название провинциального городка, в котором тот поселился, да и Шмерля, разумеется, вспомнят. Одна скажет, что он был высоким блондином, другая – плотным брюнетом, в рассказе одной он будет прихрамывать, по памяти другой – заикаться. И не стоит называть моих дам милыми лгуньями, они не лгут, а реставрируют порванное варварами в клочья бесценное полотно. Если неизвестно, что находилось в правом нижнем углу картины, поскольку ни точных описаний этой картины, ни ее копий и снимков не осталось, что делает реставратор? Пририсовывает то, что могло, должно было там находиться с большой вероятностью, основанной на детальном знании нравов эпохи, ее стиля и смысловых акцентов. Вот и эти польки… Ну был же на самом деле Пинхас Брыля, и были похожие на него молодые художники, отвечающие условиям моего запроса! Как же не подставить их в прореху, вернуть к жизни, заполнить ими место, которое принадлежит им по праву!
И мы запишем эти рассказы слово в слово. Оставим и брюнета, и блондина, и хромоножку, и заику. Мистификация это позволяет. Да и картины Шмерля, на которых дважды появляется молодое мужское лицо, напоминающее Паньоля на его юношеских фотографиях из Сониного альбома, не заставят остановиться на определенном варианте. Юноша на картинах, скорее всего являющихся автопортретами, то серьезен, хмур и мудр, как высокий блондин-заика, то беспечен, весел и беспутен, как плотный брюнет-хромоножка.
Мне еще предстоит материализовать этого типа из сумбурных рассказов Песи и бывших сдобных барышень, ныне матрон, о тех, давних временах. Обнаружится и старый забулдыга, готовый поклясться, что пил с Малахом плохое вино в далеком тридцать пятом году. Да что там! Рассказы о Малахе Шмерле, записанные в Нес-Ционе, превзойдут по красочности деталей то, что мне предстоит услышать в салоне пани Стефы! Не раз приходилось в прежней советской жизни собирать сведения у местных жителей о полузабытых провинциальных художниках. Что только мне о них не рассказывали! Спорить с этими псевдоочевидцами и якобы собутыльниками смысла не было. Они готовы были на кресте присягнуть, что ни словом против правды не погрешили, хотя правды в их рассказах и на грош не обнаруживалось.
Дорога к Песе оказалась долгой. Из Тель-Авива я поехала в Нес-Циону и там выяснила, что в Яд-Манья, небольшой кибуц, расположенный между Нес-Ционой и Реховотом, нет прямого автобуса. Ехать туда нужно на попутках, но можно дождаться и кибуцного грузовичка, приезжающего в Нес-Циону несколько раз в день. Грузовичок пришел. Его прислала за мной Песя. Этот факт не избавил меня от расспросов: кем я ей прихожусь, зачем приехала, на сколько и когда точно уезжаю.
Песин домик утопал в зелени. Он был двухэтажный, две комнатушки внизу, одна – наверху, и веранда с кухонькой. Очень похож на дачу, которую мы снимали на Рижском взморье. Только заборов в кибуце не было, цветники возле домов были не индивидуальные, а общественные, и все, что из земли росло, даже деревья, требовало полива. Песин муж Гершон как раз пошел в ихний сельсовет, или как он там называется, обсуждать судьбу старой разлапистой смоковницы у него во дворе. Много воды пьет, гадина, а плодов уже второй год нет. Срубить или оставить?
На сей раз Песя не испускала дым и не изрыгала серу. Она сидела в стареньком кресле-качалке на сверкающей чистотой террасе и мелко трясла головой.
– Теперь они привязались к моей фиге, – бубнила Песя, едва ответив на мое приветствие. – Теперь им фига мешает. Она давала прекрасные плоды, эта фига, красные и сладкие. Весь кибуц ходил под это дерево собирать фиги. А теперь она состарилась. Так ее надо срубить, я тебя спрашиваю? Боже мой, Боже мой, чего они хотят от меня и моего единственного ребенка? С тех пор как этот Пазя ушел из кибуца в гараж к Абке… Боже мой, они решили нас извести! И опять Абка виноват, это он якобы подговорил Пазю уйти. А если эти их порядки встали детям поперек горла?! Я тебе скажу… – Песя снова оглянулась по сторонам и понизила голос до шепота, – вся эта выдумка с кибуцем… она для ненормальных. Человек должен иметь свой дом и сам решать свою судьбу. Это неправильно, чтобы все за тебя решали другие! Хочу поить бесплодную фигу – и пою! Не хочу – срубаю, и грех лежит на мне. Но что ты будешь делать, если Гершон хочет именно такой жизни? Что ты будешь делать, я тебя спрашиваю? – Тут она снова подняла голос и даже повысила его. – А я сказала Гершону вот сейчас, когда провожала его на это собрание… я ему сказала: если фигу срубят, я уйду к Абке. Мне надоело. Я хочу жить по-человечески. Пусть оставят в покое меня и мою фигу! Если ты этого не добьешься, можешь оставаться в своем кибуце, но без меня! Посмотрим, что они ответят на это! – добавила она опять шепотом.
– Песя, – спросила я осторожно. – Разве у тебя не было детей, кроме Абки?
– Были или не были, кого это касается и интересует? У меня есть один сын, и я, как всякая нормальная мать, хочу, чтобы он был счастлив. Разве я прошу так много?
Песя откинулась на спинку кресла и стала рассматривать меня в упор.
– Что случилось? – не выдержала я.
– Абка тобой интересуется. Хорошо, я не против. Ты очень худая, и я не знаю, что у тебя в голове, а главное – тут, – Песя положила руку на левую грудь, – но Абка сам знает, где его судьба.
Только этого мне не хватало! Впрочем, я имела дело с душевно ущербным человеком. Скорее всего, Песя все это выдумала. Решила найти Абке жену. Бог с ней, возражать не стоит. И я перешла к разговору о Паньоле. Вернее, о Пинхасе Брыле.
– Что ты хочешь о нем знать? Говоришь, он твой дед? – невнимательно спросила Песя, все еще витавшая в мыслях об угрозе, нависшей над ее смоковницей.
– Да. Абка сказал, что у тебя есть его картина. Я хочу ее купить.
– А кто тебе сказал, что она продается? Эта картинка стоила мне больших цорес. Весь кибуц считал, что на ней изображена я. Хорошо, что Гершон знает, как выглядит мой зад и как выглядит не мой зад. А я знаю, чья это задница висит над моим диваном, и мне не нравится то, что именно она над ним висит.
– Я привезла тебе несколько кукол в национальных платьях на случай, если ты захочешь обменять на них картину. Если не захочешь, пусть остаются у тебя. Я их купила на Блошином рынке.
– Покажи! – велела Песя.
Она внимательно разглядывала кукол, дула им под юбки, совсем как виленские еврейки дуют курам в зад, чтобы решить, несет ли эта кура добрые яйца.
– Это тиролка, а это – мексиканка, а это – сторож английской королевы, такой у меня есть. А кто это?
– Таиландка. Каро, то есть Кароль, привез ее оттуда.
– Таиландка… Ладно, бери эту краснозадую Тю-тю и будьте вместе счастливы.
– Кто такая Тю-тю?
– Та задница, о которой ты говоришь. Ее звали Тю-тю, потому что она и была тю-тю.
– Что такое «тю-тю»?
– А ты не знаешь? Курва. И не просто курва, а с придурью. Она не была кибуцницей. Тогда многие приходили из города. И эта пришла. Кушать-то в городе было нечего. Она быстро отъела у нас зад, а потом стала им вилять. Ой, что это была за курва! Никого не пропускала. Мой Гершон кипел, как кофе в финджане, когда ему рассказали, что Пиня нарисовал меня голой. И побежал в Пинин сарай, схватил эту картину и вынес на свет. Вгляделся и расхохотался. Расхохотался и закричал: «Так это же Тю-тю!» Ты понимаешь? Он узнал ее задницу! Значит, она и моего Гершона не обошла своим вниманием! А Гершон принес картинку домой и сказал: «Пусть висит на видном месте мне в назидание!» С тех пор она и висит.
– А что сталось с этой Тю-тю? И как ее звали на самом деле?
– Как звали – не помню. Спроси у Роз, та должна знать. Тю-тю сначала ей помогала шляпки делать. Потом Роз ее прогнала. Из-за чего, не помню. А что с ней сталось… Не знаю. Она пропала. Ушла вечером гулять за эвкалипты и не вернулась. Искали всю ночь, потом искали днем. Не нашли. Боялись, что обнаружим труп, тогда тут было не так спокойно, как сейчас. Ничего не нашли. Решили, что она просто ушла. Как пришла, так ушла.
– А что у нее было с моим дедом?
– Наверное, все. Но у нее со всеми было все и ничего. Твой дед путался с дурой Роз.
– А ты говорила, он любил только твой цимес!
– «Путался» не означает «любил». А он сначала выяснял, собираюсь ли я делать цимес, и только потом назначал Роз свидание.
– А с кем еще дружил мой дед и что он тут у вас делал?
– Что он делал? Ты думаешь, я знаю, что каждый из нас тут делал? Одни искали свое счастье, другие думали, что они его уже нашли, а третьи приезжали сюда потому, что их выгнали из другого места, и оставались потому, что больше их никто и нигде не принимал. А! Что тут было? Голод, жара, война. Но тогда голод и война были всюду. Так что… кто его знает? Он ходил с криком внутри, твой дед. Есть такие люди: торчит в глотке крик, и выкрикнуть его так, чтобы стало спокойно на душе, никак не удается. Он бегал тут, агитировал, кричал. Его так и прозвали – «Пиня-крикун». Но к нему липла молодежь. Ему уже тогда было под тридцать, не мальчик. Они собирались в сарае на окраине. Пили, пели, рисовали, читали стихи и тискали кибуцных дур. У меня на такие развлечения не было времени, у меня было двое маленьких на руках…
Тут Песя запнулась и замолкла.
– А кто с ним дружил? Ты их знаешь?
– Нет уже никого. Хези был последним. Мотке погиб в Шестидневную. Готлиб умер от удара. Лошадь его пришибла копытом. Потому что тот, кто не умеет подковывать лошадь, пусть лучше не пробует это сделать. Ну! Кто еще? Я же тебе говорю: тут много народа крутилось. Давали поесть, вот они и приходили из города. Потом уходили. Ладно, не дури мне больше голову. Пойдем, я накормлю тебя и езжай в город. Я бы пригласила тебя переночевать, но день сегодня плохой. Если они решили срубить мою фигу, я буду орать и злиться. И не забудь забрать эту задницу! Гершон уже согласился снять ее со стенки. Она стоит за кухонным шкафчиком.
Картину я рассмотрела дома. Вечером она показалась мне прелестной, а дневной свет эту прелесть убил. И не смотрелась она на фоне остальных картин. Рука – похожа, мазок – тоже, а глаз и человек, в котором этот глаз торчит, хоть убей, другой! Скептический глаз, оценивающий. Желчный, я бы сказала. С кислинкой. Правда, эта Тю-тю могла в тот момент Шмерлю насолить. Может, его воротило от нее в тот день, может, он ее с кем-нибудь поймал… Не знаю. И еще я заметила вот что. В нескольких местах картина словно оживала. Появлялся трепет, что ли… краски веселели, мазки ложились задорнее. Слой краски в этих местах был толще. Рука художника явно прошлась по ним лишний раз. Та же рука? А чья же еще? И чем так обидели или разозлили Паньоля сионисты, что с того самого тридцать пятого года он ни разу сюда не приезжал? Это предстоит выяснить. А пока необходимо встретиться со знатоком израильской живописи тридцатых годов и выяснить, что он знает о Паньоле и о Шмерле.
7. Найти и потерять
Поиск специалиста, способного произнести авторитетное суждение, – штука непростая. Не случайно отцы наши, а более того, деды и прадеды не упускали возможности выяснить: кто сказал то, что сказал; что это был за человек, у кого он учился и узнал то, что передал дальше, и кто был учителем того, кто наставлял этого мудреца о вещах, задуманных в начале всех начал.
В столь бережном и разборчивом отношении к источнику знания есть глубокий смысл. Мало ли кто может сказать нечто – а когда он это сказал, зачем и по какой причине? Ведь одно дело, если я спрошу совета по поводу нес-ционских художников тридцатых годов у старого Вайса, уже забывшего, с кем он воевал в этом самом тридцать пятом году, кого хотел возвысить, а кого втаптывал в грязь, – и совсем другое дело советоваться с Шевахом Моско, человеком сравнительно молодым и все еще делающим карьеру на возвышении и втаптывании.
Вайс постарается всех обелить, всем отдать должное и никого не забыть, а Моско – тот, наоборот, такого нарасскажет о каждом, что волосы дыбом встанут.
Однако и Моско не может себе позволить сказать даже полсловечка втуне, потому что заботится о собственной репутации. Суровый и даже несправедливый критик – это еще не болтун. Он обязан подвести под каждое уничтожающее слово платформу, под каждую гневную тираду – мощный фундамент. А платформа похвалы должна быть еще шире и выше платформы хулы, фундамент – крепче и глубже. Хвале верят меньше, чем хуле.
Но на мнении одного Шеваха Моско строить предположение нельзя. Необходимо посоветоваться и с Николь Парецки. Что бы ни сказал Шевах Моско, Николь скажет ровно обратное. И тоже подведет под сказанное мощную платформу, а уж фундамент выстроит такой, что здание будет стоять, какие бы тараны против него ни выставил Моско. Так что надо бы опросить всех трех специалистов и составить мнение самостоятельно – только где же взять на это время и силы?
Кароль считал мои сомнения, метания и искания пустым делом. Он полагал, что любой дурак может объявить себя знатоком израильского искусства. Для этого не требуется университетского диплома. Хватит справки о рождении в Израиле или Палестине. И все потому, что укоренилось твердое мнение: только рожденный в Биньямине может понять, почему и зачем малевал или малюет то или это некто, рожденный в Кирьят-Гате. А рожденному, например, в Питере проникнуть в эту тайну никак не удастся. И непонятно: потому ли, что тайна эта велика есть или, напротив, потому что она настолько мала, что постороннему глазу трудно догадаться о ее существовании.
Кароль-то родился как раз в Биньямине, но несмотря на это, а может, и именно поэтому, в грош не ставил местных художников, а местных критиков презирал. Меня же он считал великим знатоком живописи только на том основании, что израильские искусствоведы знают то, что известно и неискусствоведам, тогда как про алтайскую наскальную живопись никто, кроме меня, здесь и в любом другом месте ни черта не понимает. Основание не то чтобы солидное, а я бы даже сказала пугающе дурацкое, но меня оно устраивало. Уважение непосредственного начальства не много весит, но дорогого стоит.
Кроме того, в своих путешествиях по свету Кароль захаживал во многие галереи, даже завел знакомства со знаменитостями и убедился: с русскими художниками и критиками там считаются, некоторых знают по именам и даже в лицо. Но! – тут Кароль ставил указательный палец вертикально и повышал голос – ему ни разу не пришлось слышать, чтобы кто-нибудь в Милане, Цюрихе, Париже или Нью-Йорке цитировал Шеваха Моско или Николь Парецки! И будь я старше, умнее и опытнее, путь мой лежал бы не в Яффу, а в Европу или США, где я бы давала советы Моско и Николь, а не наоборот.
Тут Кароль немедленно объявляет, что ценит мой сионистский порыв, и добавляет, что жизнь я себе все-таки испортила, поехав именно в Израиль. Такой поступок превращает порыв в подвиг, за который надо бы повысить мне зарплату, но, хотя дела в галерее идут лучше, чем раньше, они все еще недостаточно хороши. Вот выйдем в свет с нашим Малахом Шмерлем, тогда и наступит розовое завтра.
Если этот разговор происходил при людях, Кароль превращал последние слова в тост, а ежели присутствовали только мы с Марой, восторженно шлепал меня по плечу или по заднице. Обижаться на Кароля глупо, а спорить с ним – напрасный труд. И по поводу зарплаты, и относительно профессионализма израильских специалистов. Я иного мнения об израильских знатоках. Есть, конечно, невежды, но те не монографии пишут, а по клубам лекции читают. Для старичков и любознательных домохозяек. А есть толковые люди, и они, как в любой стране, наперечет. Вот взять старика Вайса. Он был знаком со всеми, кто хоть чего-нибудь стоил в местной живопишущей лоханке. Всех и все видел, всех и все слышал, а главное, помнил, что кто про что и про кого говорил.
Кароль убеждал меня, что Вайс не столько помнит, сколько выдумывает, и не столько знает, сколько врет, но я с этим не соглашусь. Старый Вайс смотрел в корень и говорил дело. Только он уже с год как уехал к внучке в Швецию, где прохлада и тишина хорошо действуют на его уставшие от жары и беспокойства почки. А кто же остался в нашей конторе?
Николь Парецки была из компании Шмулика, которого мы с моей русской компанией знатоков уничтожили за то, что Шмулик и его компания уничтожили Чуму. Она еще наверняка помнит эту историю и вряд ли примет меня с распростертыми объятиями. А Шевах Моско уехал в Японию и собирался вернуться не раньше октября. Меж тем стоял знойный август. И поскольку отпуск мне не полагался, осталось сосредоточиться на рынке и оставить Шмерля на осень.
Блошиный рынок тоже страдал от жары и жаловался на отсутствие покупателей, хотя лето – время для него неплохое. Туристы-сионисты в массе своей почему-то тащатся в Израиль именно летом, несмотря на жару. Еще они любят приезжать на праздники, но это уж рынку без разницы. Еврейские праздники рынок соблюдает. Торговцы – люди семейные, перед Песахом они заняты приготовлениями к праздничному столу, за который полагается посадить как можно больше народу, в Дни покаяния – спасением души, вымолить которое у Небес непросто. А торговля в эти дни идет так, как идет. Даже лучше, если идет плохо. Считается, что на Небесах это засчитывается в плюс.
Так что только лето и остается. В тот год лето в Европе выдалось особо холодное и дождливое, а в Израиле оно было настолько горячее и влажное, что даже арабы приутихли, взрывали мало и стреляли редко. Для рынка такое положение дел весьма благоприятно. Но рынок все равно лихорадило. Цены то взлетали, то падали, не имея на то ни основания, ни оправдания. Я пыталась понять, в чем дело.
Жара здесь дело привычное, чего на нее жаловаться? И стоны по поводу плохой посещаемости рынка туристами – всего лишь амулет от сглаза. А вот чтобы цены играли, как дурак на бирже, такое бывает редко. Пришлось идти за разъяснениями к старцу Яакову.
– Война! – сказал старец и вздохнул. – Большая война, и победителей в ней не будет.
Партизанская разведчица Сима научила меня, что во время любой войны, настоящей или пусть даже детской, главное – рекогносцировка. Сначала следует разобраться, кто с кем, кто против кого, почему и зачем. И только потом можно с толком квасить носы и подкладывать мины с далеко идущими последствиями. Исходя из этой стратегической установки, я оставила старца Яакова колдовать над монетами и поплелась к Бенджи.
Мы выпили целый кофейник кофе, таким сложным было положение вещей. После пятой чашечки бодрящего напитка сердце стало прыгать через веревочку, но кругозор мой расширился неимоверно. Знать, что происходит с рынком, было жизненно необходимо.
Амфор и монет, поднятых с морского дна, больше не было, да и Кароль с появлением Мары перестал болтаться по свету и покупать незнамо что, так что рынок превратился в единственный источник моего дохода. Я могла заработать, только перепродавая то, что удавалось купить по дешевке на рынке. А на рынке действительно шла война. За место под жарким средиземноморским солнцем воевали персы, «салоника», старьевщики, грузины и торговцы европейским антиквариатом.
Начать подобает с персов. Персы, вернее, евреи, потомки знаменитого Мордехая, победившего злобного Амана, издавна владели караванными путями, ведущими к рынку с юга и востока. Они владели этими путями более надежно, когда сидели и в Тегеране, и в Яффе, но исход из страны Ахашвероша, слава Господу, не заблокировал ни караванные пути, ни доступ к ним.
По этим путям тек на рынок и перетекал дальше поток нефритовых будд, лотосов и четок; слоновой кости в браслетах, амулетах, нецке и прочих поделках; старинной монеты, то ли поднятой со дна Индийского океана, из трюмов затонувших в древности кораблей, то ли изготовленной в Бангкоке или еще где-нибудь в Азии, а то и в Африке; кораллов, настоящих и рукодельных; китайских ваз и персидской керамической плитки, как выковырянной из допотопных стен, так и слепленной-размалеванной прямо сейчас в лавчонках, расположенных под этими самыми стенами. А еще сокровища разграбленных пирамид и очищенных от излишеств храмов, все, что не попало в костры хунвейбинской инквизиции: настоящий жемчуг и дорогие камни, и, разумеется, ковры – шерстяные и шелковые, исфаганские, турецкие и китайские, настоящие и поддельные. И многое другое, о чем даже у завсегдатая рынка ни малейшего понятия не было, поскольку на прилавках эти предметы не появлялись. Персы торговали ими в глубокой рыночной тени, передавая дорогостоящий товар из рук в руки настоящим коллекционерам и крупным перекупщикам.
Бенджи был из персов и держал их сторону, но он был человеком широких взглядов и понимал позицию тель-авивских старьевщиков. Эти старикашки, выползшие из трещин в стенах местечковых лавок Восточной Европы, пережившие гетто и концлагеря, должны были чем-то кормиться. И они кормились древним еврейским ремеслом: скупали у людей старье и поставляли его на рынок.
Приобрести лавку им было не на что, да они и не пытались. А если отрывали свое дело, то не на рынке, а в городе, в узких улочках, прилежавших к городским базарам. Так бы оно и шло дальше, но новый тель-авивский мэр выпустил запрет на передвижение лошадей и возов старьевщиков по центральным улицам города. Пришлось сменить лошадей на старенькие грузовички, а они – большой расход. Чтобы покрыть расходы, старьевщики организовали на территории Блошиного рынка свой рынок под открытым небом. Ставили машину на одной из улочек и торговали прямо с нее или с раскладного столика, поставленного у грузовичка. А самые бедные, у которых и старого грузовичка не было, просто вертелись среди покупателей с картонными коробками в руках.
Если бы они продавали все эти бабкины сервизы и теткины вышитые подушки по рыночным ценам, Бенджи бы не возражал и отстоял бы право несчастных старикашек на кусок хлеба. Но старьевщики сбивали цены, гнали свой товар совсем по дешевке, а это уже смерть рынку.
Справиться со старичками для людей рынка сложности не представляло, но против этого восстал старейшина Блошиной рати, слепой Яаков, отец Бенджи, призвавший оставить в покое несчастных барахольщиков, недобитых Гитлером. Это – правильно и справедливо, но только с одной стороны, потому что рынок и не объявлял старикашкам войну. Войну объявили рынку сыновья старьевщиков, дети израильских предместий, выходцы из боевых подразделений ЦАХАЛа, которые и управляли грузовичками. Они не только не собирались давать отцов в обиду, но не хотели считаться с претензиями персов на верховенство. А это – война, в которой пленных не берут. Вмешательство Яакова тут неуместно и несвоевременно. На рынке стали поговаривать о том, что старца пора отправить на покой.
Бенджи этого боялся, потому и предложил организовать специальный открытый рынок, где старьевщики смогут реализовать свое барахло. Со временем их жадные детки сойдутся с рынком во взгляде на цены, поднимут их, и проблема решится сама собой.
И она бы решилась, но в драку полезла «салоника», представленная веселыми и статно-кучерявыми разбойниками, которые надумали стать рынку крышей. Где это видано, чтобы овечка просто запутывалась в золотом руне, а стричь его было некому? И где это видано, чтобы гордые персы подчинились какой-то «салонике»?
Впрочем, «салоника» – это только так говорится. Были когда-то бедовые парни родом из Салоник, да давно все вышли. «Салоникой» Бенджи называл и быстрых на удар ножа марокканцев, которых считал не евреями, а берберами, дикарями, спустившимися с Атласских гор и зачем-то принявшими иудаизм, и яффских арабов, и другой веселый народ, в котором играла сила и горела страсть. Вся Яффа, по словам Бенджи, ходила сейчас стенка на стенку и играла ножами.
Ах, Яффа, Яффа, не зря Бенджи научил меня и Женьку называть этот город его женским именем – не Яффо, а Яффа. Как еще можно именовать город-страсть, смуглую красавицу, равнодушно глядящую на потасовки своих кавалеров и посверкивание их ножей! Она достанется самому удачливому, она только его и захочет взять себе, возвысив до звания короля ее темных переулков. Пусть себе режут друг друга, сколько влезет, ей-то какое дело?!
Но ни мне, ни Бенджи не нравилось, что за власть в темных переулках нашего полуразрушенного города бились горы Атласа с Аравийской пустыней. Уж слишком кровавыми стали эти переулки, слишком дурная слава поползла оттуда и доползла до редакций тель-авивских газет. Пугливый покупатель, у которого водились деньги и имелся интерес к старым вещам, стал бояться ходить не только на рынок, но и к нам, в бутафорную туристскую Яффу.
Бенджи держал рынок в кулаке. В переулках рынка было тихо и днем, и ночью. Но поход в Яффу совершался любителями старины и приключений не только и не столько ради одноразовой покупки чайника, ковра или занятной вещицы. Аттракция была комплексной: сначала шли на рынок, потом ели хороший шашлык или настоящую балканскую мусаку в забегаловке на прилежащих к рынку улицах, затем отправлялись на прогулку в отреставрированный старый Яффо. Побродить по галереям, выпить чашечку кофе на открытом воздухе, послушать игру уличных музыкантов, а там и, махнув рукой на экономию, выпить стаканчик вина, а за ним еще один в недорогом баре. А после этого уже сам черт не брат. Можно сходить и на представление со стриптизом, танцами живота и битьем тарелок, а можно приземлиться в дорогом ресторане.
Теперь же ни дешевая забегаловка, ни дорогой ресторан, ни даже простая прогулка по тенистым улочкам не сулили покоя, и прожигатели жизни искали другие места для развлечений. Война кланов нарушила тонкий механизм жизни в Яффе. И с этим необходимо было что-то делать.
С помощью комиссара яффской полиции, некогда служившего с ним в одном полку, Бенджи справился бы с бешенством крови марокканских банд и арабских хамул, но на овладение рынком нацелились еще и приехавшие из СССР грузины. А эти, по словам Бенджи, были ничем не лучше марокканцев, ножами владели так же умело, да еще казались более сплоченными.
Бенджи говорил «твои грузины», поскольку мы – я и они – приехали из той же страны в одно и то же время. Я пыталась объяснить, что, живя в Питере, ни сном ни духом не знала о существовании грузинских евреев и даже представить себе не могла, что небритые типы в кепках-аэродромах с огромными козырьками, продающие мимозу в переходах метро и мандарины на рынке, являются гражданами одной со мной национальности. Бенджи моим заверениям не верил. Еврей должен узнавать еврея издалека. А уж относительно грузин ошибаться было просто непростительно.
Что касается грузин, то, как случае с марокканцами и арабами, старец Яаков был непреклонен и лаконичен: убрать! А Бенджи был обязан выполнить приказ старца и надеялся на мою помощь в решении грузинской проблемы. Надо поговорить с грузинами и выяснить их намерения.
– Это – твоя доля, – строго и экономно объяснил мне Бенджи.
Оказалось, что грузины на власть в городе вовсе не претендуют. Они выбрали себе Ашдод и Ор-Йегуду, там и шла главная война за место под израильским солнцем. Но торговля антиквариатом и камушками, вывезенными из СССР, требовала пространства и своей доли рынка. Отказаться от этой доли грузины не желали.
– Если так, – кивнул головой Бенджи, – мы с ними справимся. В камушках они понимают плохо, в антиквариате совсем не разбираются. Да и поставки у них не налажены. Продадут, что привезли, и все. Амба. Глухо. А наши ходы для них закрыты.
Казалось бы, Бенджи, как какой-нибудь американский шериф, сможет успокоить рынок. Все уже на мази. Но не тут-то было! В Израиле появились не торговцы старыми вещами, а антиквары.
Они понаехали из Европы и Америки. И если раньше эти знатоки старины только оттягивали антикварные потоки из Яффы за море или за океан, то теперь они стали наводнять рынок своим товаром. Появились и доморощенные антиквары. Эти желали поставить дело на широкую ногу по европейскому образцу, а потому скупали вскладчину в провинциальной Европе целые дворцы, заваливая рынок товаром и сбивая персам цены.
Антикварные магазины с шикарными витринами расположились поначалу на улице Алленби, потом расползлись по городу, и не было дня, чтобы где-нибудь не разливали по хрустальным бокалам шампанское, отмечая открытие новой торговой точки.
Правда, антиквары хотели ввозить в основном мебель и картины. Они были готовы покупать у рынка камни, слоновую кость, ковры и контрабанду. С антикварами можно было договориться, но персидские кланы, владевшие караванными путями и имевшие долю в господстве над рынком, а их было не меньше трех, воевали друг с другом с незапамятных времен. И сейчас, вместо того чтобы сплотиться и отстаивать общее персидское превосходство, каждый клан пытался возглавить шаткую коалицию старьевщиков, «салоники» и антикваров, выступая против двух других кланов.