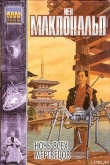Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
В том, что Малах Шмерль был замечательным художником, я не сомневалась. Это подтвердил мне и искусствовед Шевах Моско, вернувшийся из Японии, но не в сентябре, а в январе.
Январь – месяц не туристический. Море злится, ветер носится по узким улочкам Яффы, как злобный хулиган. Стены старых домов пропускают сквозь трещины влагу, куда ни войдешь – на стенах пятна сырости, капает с потолков и тошнит от запаха плесени. А главное – холодно, до костей пробирает.
Мой дом не течет, я все щели законопатила и стены оштукатурила на совесть. Но помещение с потолками на высоте почти пяти метров прогреть невозможно. Посреди шикарного пола дымит керосиновая печка, и жизнь вертится вокруг этого воняющего и коптящего источника тепла. Кресла жмутся к печке-вонялке, столик перебрался к ней поближе, радио соскочило с привычного места и устроилось рядом. А чуть поодаль и прямо на полу выстроилась батарея чашек с присохшей к стенкам и донышку кофейной гущей. Вода в моем доме нагревается солнцем, подключать воду к электричеству дорого. Солнца нет, эрго: горячей воды тоже нет. А мыть посуду в ледяной воде – это уж извините!
Сама я купалась в душе при галерее, там и мелкой постирушкой занималась, чашек же, разномастных, но великолепных, рыночные торговцы мне не жалели. За так отдавали. Я брала. Пила кофе и отставляла очередную чашку до лучших времен и солнечных дней.
Если ожидались гости, я кипятила воду в кастрюле и устраивала чашкам банный день. Но в гости давно никто не приходил. А тут явился Моско.
Ради столь почетного гостя я бы снесла в гостиную все печки-вонялки в доме, даже одолжила бы у Кароля дорогой электрический обогреватель. И чашки бы убрала, и кресла вернула на место. Но Моско появился неожиданно, навещал кого-то поблизости и зашел, поскольку я его когда-то разыскивала. Неловко получилось.
Моско огляделся, хмыкнул и устроился поближе к печке. Правда, до этого, подпрыгивая, как озябший воробей, обошел гостиную по периметру, вглядываясь в картинки Шмерля, которые я – все до единой, включая акварельки, – вывесила на стены. Из-за картин я и возилась столько со штукатуркой, предварительно выспросив у лучших яффских мастеров этого дела секреты их мастерства. Стены, на которых висят картины, должны оставаться сухими. А сухой холод маслу не помеха. Жара мешает ему больше.
– Странно, что мне никогда не встречались эти картины, – сказал Моско и потер руки. – Странно. Этого Шмерля нет нигде. Ни в музейных запасниках, ни в коллекциях, ни в старых каталогах не встречал. Как же он проскочил мимо? Но пейзажи узнаваемые, вид краски соответствует времени, похоже, мы раскопали клад. Значит так, я с этими картинами поработаю, буду брать домой по две-три, опишу их, попробую разобраться с кое-какими вещами…
– Работать с ними я буду сама. И из дома ни одной картины не выпущу.
Огорошенный Моско поглядел на меня так, словно с чистого неба на него посыпалась щебенка.
– Как это ты? А кто ты такая?
– Дипломированный искусствовед. Кстати, какой у тебя диплом? Бецалелевский или каких-нибудь курсов?
Моско сглотнул, затравленно огляделся и промолчал.
Я знала, что диплома у него вообще нет. То есть имеется диплом об окончании сельскохозяйственной школы «Микве Исраэль», где обучают всему, кроме искусствоведения, а главное, заводят нужные связи, но предъявлять этот диплом в данной ситуации было бы глупо. Однако, в противоположность Каролю, я вовсе не считала, что толковому знатоку живописи требуется университетский диплом. Моско терся среди художников с детства, много ездил, много видел и неплохо разбирался в предмете. А уж израильскую живопишущую лоханку знал назубок.
Но снять с него первый слой профессиональной фанаберии было просто необходимо. Со вторым слоем придется повозиться: блеснуть чем-нибудь оригинальным или малоизвестным, проставить нужные имена рядом с заковыристыми терминами и так далее. Только после этого пойдет нормальный рабочий разговор. Если Моско до этого не сбежит, разумеется.
– Мне нужен консультант, знающий местную специфику. За консультации я готова платить, если они будут дельные. И вот первый вопрос: попадалось ли тебе имя Малаха Шмерля? В разговорах, воспоминаниях, письмах, статьях?
Моско обиженно шмыгнул носом, но скоренько успокоился и задумался.
– Нет! – сказал наконец решительно. – Нет! Я никогда ничего не слышал о Малахе Шмерле.
– А о Паньоле?
– Кто о нем не слышал? Он тут был году в тридцать седьмом. Или раньше. Но не позже.
– В тридцать четвертом – тридцать пятом. В тридцать седьмом он уже был в Испании. А могут эти картины принадлежать его кисти?
Моско расхохотался, даже не дав себе труда задуматься.
– Картины Паньоля могут быть похожи на что угодно, в том числе и на картины этого Шмерля, но для этого надо, чтобы сначала был Шмерль. И знаешь, если Шмерль умер молодым или пробыл тут недолго и уехал, его могли и не заметить. Времена такие были, не до гениальных художников. Это потом то одного, то другого стали объявлять великими. А тогда на них никто внимания не обращал. Нет, такую находку нельзя пропустить! И одной тебе не справиться. Искусствовед ты, может, и неплохой, но страны не знаешь, истории нашего искусства тоже. Без меня тебе не обойтись.
– А я и не собираюсь. Только отодвинуть себя за рампу не позволю. Эти картины нашла я. Я и буду первой. Вот и все.
– Наглая ты, – нахмурился Шевах Моско. – Все вы, русские, наглые и самоуверенные. Вот я завтра же напишу статью об этом Шмерле. И ее напечатают в любой газете. А ты – пиши, не пиши, кто тебя станет печатать?
– И не надо. Пусть не печатают. До поры до времени. Но картин Шмерля я тебе не дам, иллюстрировать статью будет нечем. Никаких данных о художнике у тебя тоже нет. И не будет. А у меня кое-что есть. Так что – выбирай. Либо ты будешь моим консультантом, либо консультантом станет Николь.
Услыхав имя соперницы, Моско присмирел. Обещал перерыть всю прессу за тридцатые годы и ушел расстроенный.
Это отступление касается Шмерля напрямую. А то, как я стала владелицей галереи в Яффе, его вообще не касается. Но не случись этой истории, не было бы истории Шмерля, потому что я уехала бы в Париж. Стала бы компаньонкой Чумы, а может, открыла бы вместе с Симой свое дело по продаже картин и антиквариата. Такие планы вертелись в моей голове, когда Кароль пригласил меня для серьезного разговора.
Я-то думала, что разговор будет о другом, и заранее раскипятилась. А дело вышло вот как: потеряв Женьку и обретя торричеллиеву пустоту в душе и на банковском счету, я решила распродать большую часть галерейного барахла, а также обессмертить имя нашей галереи, и устроила целый фестиваль. Сначала – вечер бронзовых поделок. Потом – и без какой бы то не было связи с ними – выставку картин отдельных мастеров из разных стран, то есть всего того, что Кароль накупил в своих поездках. Выставки я подготовила по всем правилам: атрибутировала все предметы, выпустила каталоги, обозначила концепцию. Кароль выделил на эту затею совсем немного денег, а идея выставить отдельные картины отдельных зарубежных художников была бредовой с точки зрения искусствоведения, музееведения и галерейного дела, но получилось все неплохо.
Бронзовый хлам вызвал просто бурю восторгов. Местные искусствоведы взволнованно трепались, газетчики строчили в блокноты, меценаты толпились в очереди за облюбованными предметами и отзывали меня в сторонку, чтобы закрепить покупку за собой. Даже телевидение подключилось.
А спустя два месяца открылась выставка зарубежников. Более скромная, конечно, чем первая. И обреченная заранее на провал, если бы мне не удалось получить несколько видеофильмов о выставляемых художниках. Один фильм прислали из Сингапура, другой – из Софии. А не пожалей Кароль денег на билет и гостиницу, из Софии бы и сам художник притащился. Концепция спорная, не стану отрицать: «Что производит современный мир в живописи на периферии критического зрения?» Иначе говоря: что и как рисуют там, куда не попадают нью-йоркские, а за ними и израильские критики?
Под эту сурдинку я вставила в список и двух молодых и непризнанных, но обещающих израильских художников. Несколько картин купили, что уже хорошо. А о двух израильских незнаменитостях и о галерее заговорили всерьез, что еще лучше. И тут появилась статья Шеваха Моско. Что, мол, все перепутано, что зарубежные художники не имеют никакого отношения к бронзовым поделкам, да и подлинность этих поделок сомнительна, откуда они вдруг появились в таком небывалом количестве?
Статья повторяла то, что они проделали с Чумой во время ее выставки. Ушаты вранья с подоплекой. Фактов, разумеется, никаких, зато сколько грязи! Разве я связывала бронзу с живописцами многих стран и народов, которых обнаружил Кароль? И на чем Моско основывает заключение, что бронза поддельная? К ней же приложены свидетельства двух преподавателей из того же «Бецалеля», да еще эскизы? И с чего это кто-то станет подделывать то, что до сих пор лежит мертвым грузом в лавках старьевщиков?
Я понимала, что Моско решил таким образом понизить мне цену, рассчитывая, что я прибегу к нему на поклон с картинами Шмерля в зубах. Но я решила дать бой.
К счастью, Николь давно забыла про Шмулика и выставку Чумы и очень мне обрадовалась. Мы обсудили, как поставить Моско на место. Решили, что я дам интервью в центральную газету, а Николь независимо от этого напишет статью о моем собрании бронзовой дребедени. Пришлось подарить этой Николь свою любимую находку – медную пластину, на которой изображены крестьяне Милле, но в фесках и при пейсах-локонах, судя по всему – салют «Бецалеля» йеменским евреям. Но комплот против Моско стоил дороже.
Я была уверена, что об этом разгорающемся скандале Кароль и хотел со мной поговорить. Ему сейчас любой скандал мог помешать, он же полез в мэры! А мне этот скандал был необходим. И пусть поступится своими политическими интересами, раз это пойдет на пользу его же галерее.
Но, к моему удивлению, Кароль был благодушен, я бы даже сказала заискивающе-благодушен. Скандал – в чем, кстати, его суть? – ему, конечно, мешает. Кандидат в мэры должен быть чист, как стеклышко, а врагов много. Но мешать мне он не хочет, поскольку понимает, насколько важно то, что я задумала. В таком случае, не соглашусь ли я переписать галерею на себя?
Вот так финт! Как это – переписать? Превратиться в зиц-председателя, что ли? И тут же мелькнуло – ни за что!
Скандал с Моско выборам не помеха. Помеха им – тайна запертой комнаты, от которой Кароль так и не дал мне ключа. С первого дня моего появления в его галерее об этой комнате лучше не говорить и не спрашивать. «Тебя это не касается!» – один раз отбрил меня Кароль таким тоном, что больше мы на эту тему не разговаривали. Но там точно хранится нечто незаконное, и эту грязь я на себя брать не собираюсь. То есть никто не сказал, что там хранится маковый сап. Может, эта комната вообще пуста. Но, переписав на себя галерею, я окажусь за нее в ответе. Если придут с проверкой и что-нибудь найдут, Кароль без угрызений совести скинет это на меня. Тогда – конец. Это вам не амфорки с монетками. Это – серьезно. Из такой истории мне никогда не выкопаться.
– Продай мне галерею по-настоящему, – предложила я Каролю и сама удивилась произведенным мною звукам. – Я за тебя в тюрьму все равно не пойду. И если потянется какой-то след, защищать буду себя, а не тебя. А так – галерея не твоя, и что тут было раньше – я не знаю. А чего не знаю я, не знают и другие.
– И чем ты собираешься платить?
– Первый взнос организую прямо сейчас, – обещала я. – Остальное выплачу частями. Крайний срок – три года, но надеюсь, что справлюсь значительно раньше. С «Андромедой» справились за полгода, но мы были вдвоем. Помножь полгода на два и прибавь еще шесть месяцев. Но учти, я плачу только за помещение. А наличный товар – на паях. Что продам – тебе половина.
Кароль задумался.
– Ладно, – сказал устало. – Пусть будет по-твоему. Но ты должна мне помочь. В Ришоне много ваших, русских. Мне нужны их голоса. Возьмешь на себя?
Теперь задумалась я. Бегать по Ришону, собирать избирателей – потеря времени. Кароль назначил вполне божескую цену за галерею, но выплатить такую сумму – дело нешуточное. Двадцати часов в сутки не хватит, чтобы заработать, придется занимать у четырех часов, отведенных на сон. Какой еще Ришон! Но и отказать нельзя. Никто мне за эти деньги, да еще в рассрочку, такое шикарное помещение не продаст. И Кароль не продаст, если не получит свою выгоду.
Решение пришло неожиданно и было единственно правильным.
– Я дам тебе человека. Обещай ему место в совете мэрии. Получишь все русские голоса в одной кошелке.
Имела же я в виду вот что: мой бывший муженек Мишка со своей новой кралей перебрались аккурат в Ришон. Поближе к всемирно известному Институту имени Вейцмана в Реховоте, куда Мишка все еще мечтал попасть. А уж он своего не упустит! И место в мэрии – трамплинчик. Да и просто снова стать борцом за что-нибудь для Мишки счастье. А уж в том, что он враз станет предводителем русских ришонских команчей, я не сомневалась на основе ленинградского опыта. Мишка был, как тут говорят, прирожденным лидером с ярко выраженной харизмой.
– Хорошо, – согласился Кароль. – А что тебе нужно для того, чтобы поставить на место этого Моско?
– Дать интервью центральной газете. Помоги мне сделать так, чтобы это интервью взяли.
– Обратись к моему помощнику по печати.
Надо же! А я и не знала, что у него уже есть помощник по печати! Споро они с Марой работают!
Так я стала хозяйкой галереи, у которой до сих пор не было названия. Галерея Кароля, вот и все. Переименовывать ее в галерею Ляли было бы глупо. И я заказала вывеску «Тайны Яффы». И тут же назначила срок для первой выставки картин Шмерля – через полгода.
Я люблю, когда сроки подгоняют. Это не дает расслабиться. Не пропала и надежда за это время найти папку Йехезкеля Каца. Под полом его пуговичной лавки никакой папки не обнаружилось. Но Кароль не зря приобрел эту развалюху. Его тесть был счастлив. Что до папки, закономерно было бы спросить: какая связь между ней и Шмерлем? Этого я не знала, но нутром чувствовала, что связь есть. И мне предстояло ее разгадать, распутать, показать и доказать. Чувство номер шесть подводит меня редко. А оно, это чувство, требовало продолжить поиск папки. И я опять поехала в Нес-Циону устраивать дела Кароля и продвигать свои.
Мишка, конечно, пришел в восторг от того, что его наконец призвали на общественную арену. И тут же стал строить громадье планов и двигать пласты идей. Его близорукая Лора чувствовала себя в моем присутствии ужасно, одергивала платье, рассматривала ногти, кидалась поправлять салфетки и оправлять скатерки, обрушивая при этом то стул, то мою сумку. Потом долго извинялась и чуть не плакала.
– Планы изложишь руководству предвыборного штаба, – я придвинула к Мишке листок с телефонами. – Но лично я советую тебе так: о планах помолчи, обещай победу, и все! Взамен потребуй место в мэрии после выборов и бюджет на предвыборную борьбу. Деньги – двигатель прогресса должны быть у тебя в руках до того, как ты устроишь первую встречу Кароля с его восторженными русскими почитателями. Не устраивай показательное выступление за так, тебя неправильно поймут. За то, что можно получить даром, они и копейки потом не заплатят. А если Кароль не даст тебе отдельный бюджет, его мальчики будут считать тебя пешкой и отодвинут на обочину. И еще: заставь Кароля подписать бумажку насчет будущего места в списке, а комплименты пропускай мимо ушей.
Выпалив все это, я собралась уходить. Наблюдать мучения Лоры было невыносимо.
– Стой! – придержал меня Мишка. – Дай-ка на тебя взглянуть. И откуда ты у нас стала такая умная и такая… стервозная? Этого в тебе не было.
– Жизнь научила, – усмехнулась я и решительно прошла к выходу.
Мой бывший супруг понравился мне еще меньше, чем когда я его оставила. И почему я не решилась ему сообщить, что он – неслабое звено того учебного процесса, который сделал меня умной и стервозной? Почему я всегда забываю сказать главное? И зачем я вообще поперлась в этот дом? Можно же было вызвать Мишку в ближайшее кафе. Но я этого не сделала, потому что боялась чрезмерной интимности. Думала, что встреча при новой жене будет более спокойной. А встреча была нервной. В любом случае, была бы нервной. В любом.
По дороге в кибуц Яд-Манья я решила навестить Роз и еще раз поглядеть на ее шляпки. Я понимала, что она знает о Паньоле и Шмерле гораздо больше, чем говорит, но секреты мне враз не раскроет. А в разговорах о шляпках, кибуцницах и смысле жизни что-то важное может и мелькнуть, если вести разговор правильно. И Роз не должна даже подозревать, что я что-то знаю. Тут, как при торговле на Блошином рынке, следует сыграть идиотку, интересующуюся не папками, а шляпками.
Роз мне обрадовалась, что уже было странно.
– У меня новая коллекция, – объявила она торжественно, – а показать ее некому.
Новая коллекция или новое настроение Роз вели уже не в Париж, а в тоску по далекой, недостижимой и прекрасной стране. Розовая дымка, сиреневый туман, лиловый вздох, ах! Роз переживала декаданс.
Ее кресло было покрыто нежной тканью в цветочек, подушки отливали пастельными оттенками весеннего букета, а сама Роз превратилась в клумбу, засеянную белой вербеной и розовым маком. Ее личико выглядывало из-под лохматой шляпки «а-ля пейзан» и напоминало косточку от абрикоса. Даже александритовые глаза изменились. Теперь они казались болотно-оливковыми и были недобрыми, как у лешихи.
– Знаешь, – сказала Роз, осенившись хитрой усмешечкой, – я работала для тебя. Надень, – она показала сухонькой ладошкой на нечто сенокосно-огородное, украшенное пучками соломы, в которой запутались лютики, смородина, паучки и бабочки.
Я надела это невесть что на голову и обалдела: оно действительно было создано для меня! Мое лицо должно выглядывать из такого вот хаоса, тогда в нем все становится на место: нос не мешает глазам, а скулы – рту и подбородку.
Мои родители были очень растеряны, когда они меня создавали. Они предавались греху, убегали от страха и пытались преодолеть смерть. Я думаю, их акт был скорее актом решимости, чем актом нежности или страсти. И все это передалось их произведению, то есть мне.
Я довольна своей внешностью. Многие считают меня даже красивой. Но на моем лице не просто написана отчаянная решимость, она высечена в линиях носа и скул, в прорисовке глаз, во всем моем облике. Бывало, пионервожатая в пионерлагере оглядит всех новеньких на линейке и тут же ткнет пальцем в меня: «Ты! Запомни! У нас дисциплина! Чтоб никаких фокусов!» А я что? Я и не собиралась.
Но копна соломы на голове со всеми этими цветочками и бабочками превратила меня в озорную девчонку, не более того. Озорная, но славная, веселая и смешная. О такой можно водиться, она своя. Спасибо, Роз! И каким таким нюхом ты все это поняла и прочувствовала? Талант, однако.
– Говорят, ты своровала картины Каца, – сказала Роз скрежещущим голосом.
– Своровала – у кого?
– У Каца.
– У Каца я не могла своровать. Он умер. Но эти картины Кацу и не принадлежали. Он их только хранил.
– Кому же они принадлежали?
– Моему деду. Паньолю.
– Паньолю? Ах, да! Паньолю. Он, значит, твой дед? Сволочь этот твой дед.
– Может быть. Но в прошлый раз ты сказала, что его не знаешь.
– Сказала. Не знаю и знать не хочу! Он тоже своровал эти картины!
– У кого?
– У всех. Он приехал сюда и создал артель. Собрал художников, и они рисовали вывески. Но не только вывески. А Паньоль сказал, что все картины принадлежат ему, потому что он – учитель, и он покупает холсты и краски. Но Кац не отдал ему свою папку.
– Какую папку?
– У Каца была папка. Она стоит целое состояние. И он ее спрятал.
– Допустим. Но картины, которые я забрала, написаны одной рукой. Ты хочешь сказать, что их написал Кац?
– Кац говорил, что в папке есть разгадка. Там есть разгадка всему. А что ты собираешься делать с этими картинами?
– Еще не знаю. А кто такой Шмерль?
– Шмерль? – Роз замерла, ее личико пошло багровыми пятнами. – Я не знаю никакого Шмерля.
– Но картины подписаны его именем. Малах Шмерль.
– A-а. Может быть, Кац так подписывался. У него не все было в порядке с головой.
– Роз, если это картины Каца, я сделаю все, чтобы об этом узнал весь мир. Чтобы Кац стал большим художником, пускай после смерти. Скажи, у тебя есть какие-нибудь картины Каца, подписанные его настоящим именем?
– Нет. Мы все смеялись над ним, потому что никто не верил, что он художник. Я много раз говорила: «Если ты художник, нарисуй меня». Он обещал, но ему вечно что-нибудь мешало. То слишком много света, то слишком мало, то нет настроения.
– Это неправда, Роз. Я видела твой портрет среди картин Каца. Эти картины я не взяла. Ищи свой портрет в чуланах мэрии. Кац – очень плохой художник. Но он – художник, и ты это знала. В его мастерской было много картин, которые рисовали разные люди, это правда. Все они никуда не годятся. Хороши только картины Шмерля. Паньоль утверждает, что он и есть Шмерль, а я в этом сомневаюсь. Но уверена, что картины Шмерля почему-то стали собственностью Паньоля. У меня есть письмо от него к Кацу, написанное задолго до того, как Кац поехал чинить швейную машинку. В этом письме Паньоль велит Кацу отдать мне картины Шмерля, которые он, Паньоль, оставил Кацу на хранение. Почему ты мне врешь и чего ты от меня хочешь?
– Никому не нравится, когда приходит посторонняя девчонка и обворовывает мертвецов.
– Я ничего не своровала. Меня послал к Кацу Паньоль. И я не виновата, что Кац погиб в тот самый день, когда я поехала к нему за своими картинами.
– Это знак. Он не хотел отдавать тебе картины.
– Возможно. Но если бы я не забрала картины Шмерля, мэрия выбросила бы их на помойку.
– Они сволочи! – оживилась Роз. – Они все забирают. Мои шляпки они тоже заберут. И выбросят на помойку.
– Роз, кто входил в артель Паньоля? Ты помнишь этих людей?
– Артель! Ты называешь это артелью?
– Это ты сказала, что Паньоль создал артель.
– Это я сказала?
Роз вздохнула и прикрыла глаза. Когда она их открыла, глаза снова засветились оттенками лилового и зеленого. В них уже не было болотной жижи, да и лешачье злобное упрямство куда-то исчезло.
– Я была неправа, – хмуро созналась Роз. – Не было никакой артели. Паньоль писал вывески и портреты местных дам. И он взял несколько парней себе в помощь. Они готовили холсты, а за это он учил их писать вывески. За вывески платили, а денег тогда ни у кого не было. Брались за любую работу. Кто были эти парни, я не знаю. Они приходили и уходили. Потом приехал Кац. Он хвастал, что учился живописи и набивался к Паньолю в компаньоны. Но Паньоль над ним смеялся. Называл его мазилой. А потом изменил точку зрения и назначил Каца своим агентом. Хези торговался с хозяевами, которые заказывали вывески, принимал заказы и выступал на собраниях. Паньоль говорил мне, что у Каца неплохая рука, он может работать, но он лентяй.
– Значит, ты все-таки была знакома с Паньолем.
– Он бросил меня, как какую-нибудь подзаборную девку! – каркнула Роз и стала на полметра выше. – Он обещал жениться и вдруг исчез. Исчез и не оставил ничего, даже записки! Он сволочь и подлец, я ничего не хочу о нем знать!
Она снова сократилась до своих прежних птичьих размеров. Но внутри у нее все еще клокотала давняя обида. Клекот перерабатывался в сердитое сопение, от которого тряслись лиловые кудельки под сиреневой вуалькой.
– У тебя есть картины Паньоля того периода? – спросила я осторожно.
– Нет! Я порезала эти его картины на мелкие кусочки.
– А что на них было нарисовано?
– Я!
– Он подписывался «Шмерль»?
– Нет. Он писал Пэ, тире, Бе. Латинскими буквами.
– Кто же такой этот Шмерль?
– Понятия не имею! Паньоль ругал всех художников, ему никто не нравился. И называл Палестину «сионистским болотом». Он обещал увезти меня в Париж.
– Разве ты не из Парижа приехала?
– Ха! Я приехала из деревни под Варшавой.
– И ты никогда не была в Париже?
– Никогда! – У старушки задрожали губы. Она собиралась расплакаться, но сумела взять себя в руки. В маленькие крепкие, чудо какие талантливые ручки. – Я была любовницей, понимаешь? Нет, ты ничего не понимаешь! В маленьком городке это – кошмар. Он меня обесчестил. Паньоль. Потом я уже не могла выйти замуж.
– Тебя не брали замуж потому, что ты когда-то была любовницей Паньоля?
– Нет. Не поэтому, а потому что потом я уже не могла идти замуж за кого угодно. Паньоль меня выдумал. Это он выдумал, что я приехала из Парижа. И он помог мне открыть ателье. И рисовал для меня модели. И придумывал такие замечательные показы, что на них приезжали дамы из Тель-Авива и из Хайфы. Рассказывали, что сама Зина Дизенгоф приезжала, хотя известно, что к тому времени она уже лежала под могильной плитой. Но кто еще из тогдашних светских дам был так известен всему ишуву[8], как Зина Дизенгоф, которую сейчас обозначают непонятным именем «Цинна»?! А потом он исчез. Уехал в Тель-Авив по делам и никогда больше не возвращался.
– Но ты продолжала делать шляпки.
– Да. А что еще мне оставалось делать?
– Ну, это не так плохо. Я думаю, такой модистки, как ты, нет и в Париже.
– В этом все дело! – сказала Роз жестко, и по ее щечкам покатились крупные слезы.
– Роз! Мне необходимо найти разгадку. Я должна знать, кто этот Шмерль.
– Спроси у Паньоля. Ты же говоришь, что он твой дед.
– Паньоль говорит, что это его картины. И не хочет ничего больше рассказать.
– Он – такой, – кивнула Роз. – Он не может жить без своих хитростей. Он здоров?
– Не жалуется.
– Женат?
– Нет.
– А, ну я все равно не хотела бы с ним встретиться. Я была красоткой, знаешь? Я устала, – сказала Роз неожиданно жалобно, и по ее лицу было видно, что на сей раз речь не идет об уловке. – Я очень устала. Забирай свою шляпку и уходи. Приходи через неделю. Или две. Когда-то я вела дневник. Я его найду. Может быть, я не все помню. Может быть, я смогу тебе помочь.
– Ухожу. Только скажи мне, кто знал Паньоля в этом городе. Или вокруг. С кем имеет смысл поговорить?
– Его знали все, кто жил тут тогда. Но его никто не знал. И не знает. У Паньоля тысяча лиц. А как зовут твою мать?
– Мирьям. Муся.
– A-а! Это от жены, которую он бросил в Варшаве? Ну да… Он ее любил.
– Кого?
– Твою бабушку. И знаешь, по-моему, это она его выгнала. Да! – оживилась старушка, – Да, да! Я всегда так думала. Когда он говорил о жене и дочке, создавалось впечатление, что его туда не пускают! Как смешно! Приходи через неделю, – велела она ворчливым, но уже совсем домашним тоном.
– Постой! – крикнула я неизвестно кому уже в такси и зажала себе рот.
Мне вдруг стало страшно. Я представила себе, как приду к магазину Роз, а на окне будет висеть фотография в траурной рамке. Ой! Я же нашла конец нити, куда я еду?! Надо размотать клубок, пока не поздно. Я готова была вернуться в Ришон, но время подбегало к пяти. Песя ждала меня на автобусной остановке кибуца с четырех. А Роз уже, скорее всего, закрыла свой магазин.
Господи, как прожить эту никому не нужную неделю? Все так просто: пойти к Роз домой, поглядеть, что она там прячет. Тоже та еще врунья! Небось не порезала картины Паньоля, они наверняка висят в ее гостиной. Но у старушек есть принципы! Сказала – через неделю, значит, через неделю. Только бы не потащилась чинить машинку «Зингер» и не полезла под автобус! Храни ее, мой добрый ангел, от удара, сердечного приступа, расслоения аорты. От гриппа и ангины тоже храни. От злых людей хранить не надо, эта старушка умеет за себя постоять.
– О! Смотрите! – завопила Песя. – Смотрите! У нее много денег, она приехала на такси! И что это у тебя на голове? Хорошо, что я не держу коз! Сними эту шляпу, не смеши людей! Что ты тащишь в этом мешке? Постель? Мы не спим на досках! Что же ты тогда притащила? Весь свой шкаф? Ты думаешь, у нас ходят на променад показывать наряды? Что? Мясорубка и кофе из цикория? Ой, моя светлая головка, живи до ста двадцати лет и все безбедно! Она запомнила, что я хочу кофе из цикория! Она притащила мне мясорубку! Она таки достала мясорубку! Дай мне этот мешок! Нет, дай! Он тяжелый! Малка! Это моя гостья, внучка Паньоля! Ты не помнишь Паньоля?! Так может, ты помнишь Пиню Брылю? Тоже нет?! Что ты тогда помнишь? Представляешь, она приехала ко мне на такси! И привезла мясорубку. Настоящую мясорубку с винтом и ручкой, а не этот электрический дрэк! Ай! Сегодня вечером ты уже можешь прийти на блинчики с мясом. Маня, Соня, знакомьтесь, это внучка Паньоля, Пини Брыли. Вы должны помнить Пиню. Это художник, тот, который нарисовал задницу Тю-тю! Какой Тю-тю? Ну, знаешь, если ты не помнишь Тю-тю, ты уже сама «тю-тю»! Ну да, ее задница висела в моей гостиной! Что стало с Тю-тю? Откуда я знаю, что стало с Тю-тю?! Ты видела Тю-тю в Ришоне? Манька, она видела Тю-тю! Так почему ты молчишь? А почему это не должно меня интересовать? Какая история с задницей? При чем тут задница? Соня, не суй мне палец в рот, я могу откусить! И что она сейчас делает? Ну хорошо, ее звали Эстерка, а не Тю-тю, но что она делает?
Покупала сливы и бананы? Хорошо! Я рада, что ей живется хорошо. Откуда я знаю, что ей живется хорошо? Потому что она покупала сливы и бананы, а не веревку, чтобы повеситься! Очень хорошо, что она так выглядит! Нет, она не моложе нас! Она не может быть моложе нас, мы были тогда совсем девчонки, а она уже носила бюстгальтер пятого размера! Сколько же лет прошло? Ой, сколько лет прошло! Но я помню эту Тю-тю так, как будто это было вчера. Сонька, ты опять про задницу? Ты хочешь поссориться? На! Я с тобой не разговариваю! Хорошо, так мой Гершон любовался на две задницы – на мою и на задницу Тю-тю, а твой Моня всю жизнь сидел на диете и, кроме твоей задницы, ничего не видел! Твоя задница самая красивая? Так это по-твоему, а я спрошу у Мони. У него может быть другая точка зрения. Маня, ты можешь прийти вечером на блинчики с мясом. А Сонька пусть не приходит! Я не хочу ее видеть! Маня, девочка привезла мне настоящую мясорубку. Русские привозят их из России. Там есть все, там есть даже кофе из цикория. Ты помнишь вкус кофе из цикория? А я не могу забыть! Голодное время, но какое веселое! Так приходи вечером, она привезла мне этот кофе тоже. Нет, – сказала она Соне, но не глядя в ее сторону, – я же сказала, что не хочу тебя видеть! Зачем ты суешь мне под нос эту задницу? Нет, меня это не раздражает. Но от лучшей подруги я не должна это слышать! Хорошо, приходи, но держи язык на привязи!
Итак, пройдя всего пятьсот метров от автобусной остановки, мы уже опросили примерно тридцать процентов кибуцниц, знавших Паньоля, и выяснили, что Тю-тю по имени Эстер живет в Ришоне или хотя бы покупает там сливы и бананы. Из старой гвардии в кибуце осталось всего двенадцать семей, но одна семья сейчас находится в сионистской командировке в Перу, а с двумя Песя не разговаривает и не общается. Придется искать покровительство у Мани и Сони. Соня интереснее. Сплетницы живут дольше и знают больше.