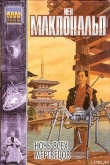Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– А она говорит, что Сулиман был красавец, и трость у него была с лошадиной головой из чистого золота.
– У этого биндюжника, таскавшего мешки в пекарне?
– Она мне показывала набалдашник. С пробой. Сулиман сломал трость в ярости, когда увидел Тову в кафе с Исой-беем. Сломал о колено и бросил наземь. Товина тетка набалдашник подняла, а отдать Сулиману забыла. Он не хотел с ней разговаривать. Ну, в общем, не знаю. Проба сомнительная, конечно. Что-то написано, а что – не разберешь. Но Иса-бей был обходительней Сулимана и держал бричку со складным верхом. Однажды Тове удалось покататься с ним на этой бричке. Тетка тоже полезла было в бричку, но места там не осталось. А Иса-бей крикнул кучеру: «Пошел!» И они ехали по кольцу, и солнце сверкало в спицах, и ветер щекотал лопатки, и все глядели им вслед.
– Какие дела! – изумилась Чума. – Хочешь бурекас? Я сбегаю на угол. Мигом.
– Мне надо идти. А почему тебя назвали Чумой? Это же не имя, а ругательство.
– Мало кто знает, что оно означает. Так звала меня Берта. А вообще-то меня зовут Иледи. Представляешь, назвать ребенка «Чтоб ты не появлялся на свет»! Это же все равно что проклясть! Так я и осталась проклятая со дня своего рождения. Думала поменять имя. Но ни одно имя ко мне не прилипло. Я уже была и Илана, и Авиталь, и Мирьям. А осталась Чумой. Прежде чем уйдешь, скажи: ты раньше слышала про Яффу? До того, как сюда приехала?
– Да. К Новому году в нашем городе появлялись апельсины с красной мякотью, на которые была наклеена этикетка с одним словом: «Яффо». И все евреи стояли в очереди, чтобы купить еще и еще этих апельсинов. А из книг я узнала, что тут спаслась Андромеда и заразился холерой Наполеон.
– Про меня в книгах еще не пишут. Но будут писать, – спокойно ответила Чума.
Потом мы встречались с ней часто. Она ждала меня на пляже, напротив того места, куда выходит своей задней стороной базар Кармель. Этот базар не похож на Блошиный рынок. Нет в нем внутреннего порядка. И таинственности Блошиного рынка с его неожиданными находками тоже нет. Обыкновенное крикливое место, толчея и вонь, кишки и кошки, туши на крюках и помидоры в картонных ящиках. Все по дешевке, поэтому именно от стоимости помидоров на этом рынке зависит индекс прибавки к зарплате. А от цен на Блошином рынке не зависит ничего. Это потому, что цену помидоров можно рассчитать, а цену на старый секретер – нельзя. Он может достаться по дешевке и оказаться бесценным, если в потайном ящичке найдется забытое письмо, а человек, писавший или получивший его, успел вырасти в цене за годы, прошедшие со времени написания письма. А время это просчитать нельзя никак. Иногда оно назначает новую цену за человека, который при его жизни не стоил ничего. Так бывает.
Я пыталась объяснить это Чуме под рокот прибоя, но Чума хотела, чтобы цена на нее повысилась немедленно. Ее не интересовала посмертная слава. Она хотела получить из славы немедленную выгоду в виде ордера на разрушенный дом. А слава Чуме полагалась. Она писала маслом и акварелью, сангиной и фломастерами, и всегда одно и то же. Если судить о содержании Чуминой головы по тому, что выплескивалось из нее на холст, картон и бумагу, в этой голове жило одно только женское лицо, нисколько не похожее на лицо Чумы. Оно было то молодым, то старым, а иногда и молодым и старым одновременно. В нем были страх и наглость, мудрость и безумие. Оно бывало нежным и задумчивым, а порой скалило страшную беззубую пасть. У этого лица не было постоянных черт. Глаза могли быть и большими и маленькими, губы и тонкими и пухлыми, нос – то курносым, то прямым. Иногда на подбородке была ямочка, а иногда ее не было. Но оно везде было узнаваемым, это лицо. Не возникало сомнения, что это всегда один и тот же человек.
– Кто это? – спросила я, и Чума пожала плечами.
Я поняла, что речь идет о лице, черты которого не запечатлела ни одна фотография, потому что Берта считала каждого фотографа доносчиком, который отнесет ее портрет в гестапо.
– Это безумие, – сказала я.
Чума опять пожала плечами. Она была талантлива как черт. И она была одержима дьяволом.
– Напиши что-нибудь с натуры. Яблоко, вилку, кошачий хвост, неважно. Что-нибудь живое, что-нибудь, принадлежащее этому миру, – попросила я.
– Зачем? – не поняла Чума.
– Иначе ты не станешь художником.
– Хорошо, – сказала Чума и принялась писать все что под руку попадалось: цветы, яйца, кастрюли, башмаки и шашлычницы с шашлыками. Хорошо писала, крепко, необычно.
Как-то мы гуляли по улочкам арабского квартала. Здесь Чуму знали и, судя по косым взглядам, побаивались.
– Купи у меня курицу, – обратилась к ней большая толстая арабка, застрявшая в крошечной калитке, встроенной в высокий забор.
– Она несет коричневые яйца? – с подозрением спросила Чума.
– Она еще молодая. Но очень бойкая.
– Давай.
Курица была черная и блестящая, как деготь. У нее был ярко-красный гребень и несколько рыжих перьев на груди, напоминавших запекшуюся кровь.
– Если яйца будут белые, принесу обратно, – пригрозила Чума.
– Я тебе отдала ее по дешевке. Если яйца будут белые, свари из нее суп.
– Ладно, – буркнула Чума.
– Для чего тебе коричневые яйца? – не выдержала я.
– Берта кормила меня свежими яйцами. Поэтому я такая толстая. Берта кормила меня с утра до вечера, а иногда будила ночью, чтобы засунуть что-нибудь в рот. Больше всего на свете она боялась, что я останусь голодной. А яйца должны быть коричневые, потому что в других нет всех нужных витаминов.
Теперь я поняла, зачем Чуме клетка с курами. Но сколько же яиц в день сжирает эта сумасшедшая Пантагрюэльша? Тремя днями позже Чума сообщила мне, что черная курица орет петухом.
– Шмулик в штаны наделал, когда она впервые заорала, – веселилась Чума. – Сейчас живет в страхе. Орет, что зарежет курицу и меня. А сам трясется. Даже деревянная чурка напугала его меньше. Клянусь куриным богом!
– Что это за бог такой?
– Берта собирала желтые цветочки и кидала их курам. Говорила: «Курина шлепота куркиному бугу, од сглазу рончка, от вшисткего подмуга».
Чума произнесла эту фразу по-польски, правильно проставляя акценты и верно выговаривая шипящие.
Мы повернули к Чуминому дому. У входа стоял Шмулик в майке и старом бархатном берете. Морда у него была веселая. Я ничего подозрительного не увидала, а Чума незамедлительно ухватила глазом причину веселья Шмулика и заорала благим матом:
– Неси идолицу на место! Иначе я сама отнесу, но тогда тебе не жить!
– Она убила черную нечисть, – расхихикался Шмулик. – Видно, одного поля ягода!
В клетке с отвинченным верхом стояла деревянная мадонна. Куры испуганно жались по углам, а у ног мадонны лежала черная курица, некогда кричавшая петухом. Сейчас она была мертва, и ветер ерошил ее потускневшие перья.
– Тьфу! – разозлилась Чума. – Паскудство. Бери идолицу и неси в дом! А курицу я похороню. Если не поставишь идолицу на место, сварю из этой дохлятины суп и силком в тебя волью.
Шмулик вытащил мадонну из клетки и, не переставая хихикать, понес ее в дом.
– Какая сволочь эта Фатма, – потемнела лицом Чума, – продала мне больную курицу. Как бы она мне других кур не заразила! А я эту куриную дьяволицу не дорисовала. Пойдем, покажу.
На холсте черная курица расположилась на красном пунктирном кресте. А вокруг нее теснились лица Берты. Все, какие были на других картинах Чумы. Все вместе. Одно крыло курицы осталось незаконченным. Чума подумала и дорисовала его красной краской.
– Финита! – объявила громогласно и отправилась копать курице могилу.
Познакомившись со Шмуликом, я перестала понимать Чуму. Я-то думала, что речь идет о здоровом мужике, а этого Рафаэля в берете можно было просто сдунуть. Так я и сказала Бенджи.
– Чума велела оставить его в покое, – грустно ответил Бенджи. – Моя бы воля, его бы в Средиземном море с водолазами искали.
– Ты же не хочешь ссориться с законом.
– Ради такого дела стоит и поссориться, – пробормотал Бенджи.
Я постановила, что картины с курицей достаточно для небольшой выставки. В окружении всех Берт она выглядела совершенно законченной экспозицией. К ней надо было добавить несколько эскизов и все акварели с видами Яффы. Чума и не догадывалась о существовании Утрилло, но писала ненамного хуже. Выставку назначили на конец сентября в галерее «Три с полтиной». Славная такая галерейка, и хозяин, хоть и полный чушка во всем, что касается живописи, но человек приятный. Обещал привести журналистов. Я в этом помочь Чуме не могла. Если бы выставка происходила на ленинградской или московской квартире, тогда конечно! И Чума бы вписалась там в пейзаж. А тут в пейзаж не вписывалась я, и с этим пока ничего нельзя было поделать.
Мы готовили выставку недолго, но тщательно. Даже каталог выпустили. У Бенджи были знакомые в типографии. Правда, денег хватило всего на тридцать экземпляров. Бенджи заказал бы сотню, но Чума ни за что не соглашалась у него одалживаться.
Поначалу все шло прекрасно. Было несколько журналистов, а одна – из центральной газеты. Она ходила за Чумой, за мной и за тремя бородатыми недомерками в потных майках и записывала все, что мы говорили. Чума запретила рассказывать про Берту. Это осложняло дело. Пришлось писать про навязчивый образ, и все такое прочее. Как мне сказали, я навертела в статье для каталога слишком много философской бредятины. А по-моему, статья хорошая. Недомерки из местной живопишущей братии остались мной довольны. Черная курица с красным крылом их даже, можно сказать, потрясла. Я не помню, символом чего она им показалась, но была уверена, что их трепотни, изложенной журналисткой в центральной газете, должно хватить для ордера на Чумину развалюху.
И тут ввалилась шумная компания во главе со Шмуликом. Мужиков штук пять и баб с полдюжины. Все поддатые, как полагается. Рассыпались по помещению – и давай перекрикиваться и гоготать. Мазня, бред, жульничество, детский лепет, ерунда, дешевые поделки. Девочке надо поучиться в художественной школе, впрочем, таланта нет, жалко бумагу марать. И «хи!», и «ха!», и «Боже мой!». Недомерки растерялись и исчезли. За ними бочком-бочком смылась журналистка. А эти твари стали лакать вино, жрать испеченный Чумой торт, а потом кидать тортом в картины.
Я бы вмешалась и поставила этих сволочей на место, но мне не хватило слов на иврите. Одно дело трепаться с Бенджи и Чумой, спорить с Каролем и нести чушь случайным покупателям в нашей лавке, другое – дать авторитетный отпор. Мы с Чумой и мою статью-то дня три переводили со словарем.
Я не заметила, как Чума исчезла. Стала ее искать, а хозяин галереи сказал, что она давно ушла. Когда я добежала до Чуминого дома, его уже не было. Она обрубила тросы, на которых держались обломки стен, облила пол бензином, подожгла и с мрачным восторгом следила за вспыхивающими огненными фонтанами.
– Идиотка, – орала я, заглатывая сопли, слезы и вонючий дым, – кретинка, дура, сумасшедшая, психопатка!
Чума сосредоточенно кивала.
– Тебя арестуют!
– Не найдут, – спокойно ответила Чума. – И ты убирайся отсюда.
– Я хотела привести завтра компанию русских художников. Они бы поняли…
– Прощай, – обрубила Чума, – спасибо за все.
3. Ошибка Персея
Не было у меня лучше подруги, чем Чума, и сейчас нет. Но развела нас судьба руками Луиз. А знай Чума, сколько бед приключится из-за этой Луиз, она бы ни за что не притащила ее на наш пикник в честь Дня независимости. Только зря Чума себя виноватит. Это у нее из-за Берты. Все свое детство Чума трудилась за покойников. Ела манную кашу за дядю Мотеле, который, кстати, манную кашу не любил. Убили его неполных шести лет за то, что воровал хлеб в гетто. Еще Чума не имела права ходить босиком, потому что кузина Фейгл этим запретом пренебрегала, вот черти и схватили ее за босые лапки. Схватили и утащили в печь. В крематорий то есть. Чума даже музыке училась за других и в долг. За дядю Зундла и тетю Рейзл, которые точно стали бы великими музыкантами, если бы их не расстреляли.
И хоть Чума постоянно бунтовала против материнских причуд, с чувством ответственности у нее до сих пор проблема. Любой датчик зашкалит. Вот и эту историю с Луиз Чума себе, пожалуй, до сих пор не простила, хотя из той вонючей истории получился толк и родился Малах Шмерль, но попробую рассказать по порядку.
Мы с Женькой в то время наслаждались друг другом и обрушившимся на нас любовным шквалом. Спасал ли Женька себя, меня или просто вибрировал в любовном поле, не особо отдавая отчет, что заставляет его это делать, но вибрировал он классно. Жил для меня, мной дышал и при этом себя не обижал. Говорил, что впервые в жизни собой доволен. А когда твой мужчина доволен собой – это почти орден. И не ему, а тебе. Но видно, мы с Женькой заигрались, как дельфины в тихой заводи, и потеряли бдительность, потому что удар застал нас врасплох. Случилось это из-за моего муженька, про которого мы оба совершенно забыли.
Нам с Чумой настоятельно потребовалось забрать вещички из дома в Щели Надежды. Не тряпки, они к местному климату и вкусу все равно не подходили, а кое-какие документы, альбомы с фотографиями, книги и безделушки. Женька предупреждал: «Брось!», а я не послушалась. А послушайся я, все бы сложилось иначе. Муженек успел бы найти мне замену и как миленький принес бы в зубах все это добро в обмен на развод. Что и сделал года два спустя со всем багажом, который набрала для меня перед нашим отъездом Сима. Но нам с Чумой вдруг оказались позарез нужны старые фотоальбомы, потому что из разговоров выяснилось такое… в общем, оказалось, что мы сестры. Не по крови, а по бумагам.
И опять придется рассказывать все по порядку. Моя девичья фамилия – Белоконь. Лала Александровна Белоконь, белоруска. Никакая я не Александровна, не Белоконь и не белоруска, но для того чтобы понять, кто я есть и почему так, вам придется выслушать еще одну невероятную историю.
Сидим мы как-то с Чумой у нее дома. Это еще до выставки и пожара, годом раньше примерно. А жара такая, что даже трепаться лень. На столике передо мной – Чумины ключи и документы. Я взяла ее водительские права и читаю: «Иледи Александр Белокон».
– Кто этот Белокон, – спрашиваю, – кем он тебе приходится? Ты же говорила, что не знаешь, кто твой папаша.
– А я и не знаю, – отвечает Чума лениво. – Разве Берте можно верить? Она меня в матке сюда привезла. Откуда – черт ее знает. А на все вопросы отвечала, будто урок вызубрила: «Отец ребенка – партизанский генерал Александр Белокон». И так – кто бы ни спросил, я или социальная работница. Глаза вытаращит, живот втянет, плечи расправит, руку поднесет к уху, словно салютует, и: «Отец ребенка… Белокон».
– Белоконь, – поправила я осторожно. – Александр Евсеевич Белоконь.
– Ты откуда знаешь? – спросила Чума подозрительно.
– У меня так в паспорте написано: отец – Белоконь Александр Евсеевич.
Мы словно в дурном сне глядели друг на друга, не решаясь расправить мышцы или двинуть хотя бы одной из них.
– Ты… мне… сестра? – спросила наконец Чума и вдохнула-выдохнула с шумом и всхлипом.
– Нет, – очнулась и я. – Этот Белоконь… он то ли действительно всех своих партизанок трахал, то ли их младенцев своим именем покрывал. Из благородства. Замечательный человек! Но насчет себя я уверена – дядя Саша мне не отец.
– Значит, ты его знала?
– Знала. Только он жив. Поначалу мне говорили, что мой отец, герой-партизан, погиб смертью храбрых. И фотография на столе стояла. Сейчас я думаю… ты на него похожа. Огромный мужик, голубоглазый, красивый, все в нем большое, но ладное. А я, когда стала пионерской следопыткой, додумалась его искать. Могилу то есть и документы.
Мы все этим занимались, искали защитников Родины. Пришла… уже не помню куда… штаб какой-то был этих… юных следопытов. Ну, которые следы ищут. Какая разница, что это такое! Оно тебе нужно? Что-то вроде ваших «цофим», или как их там. Да не правые и не левые! Не было в СССР правых и левых! Пошли дальше! В общем, подаю дядечке бумажку с именем отца, говорю: «Хочу заняться поиском могилы и родственников». А он прочитал и засмеялся. «Почему – могилы? Какой еще могилы? Саша Белоконь в соседнем кабинете сидит. Сейчас проверю, свободен ли». И звонит по телефону: «Юная следопытка пришла по твою душу, могилку твою искать собралась».
Мне так стыдно стало! Я бы убежала, но дяденька меня взял за плечо и повел в соседний кабинет. А Белоконь уже встал из-за стола, сам к нам шел. Один к одному, как на портрете. Я ему этот портрет протянула, он у меня в кармане лежал. Белоконь перевернул карточку, прочел надпись, нахмурился и попросил моего провожатого оставить нас одних. «Ты, значит, дочка Маруси? Вот ты какая?!»
Маруся – это моя мама, а вообще-то ее зовут Муся. Полное имя – Мирьям. А у героя-партизана глаза были такие теплые, что я чуть не крикнула: «Папочка!»
– А почему ты не крикнула? – спросила Чума и посмотрела на меня… глазами дяди Саши Белоконя, чего уж тут! И как ей объяснишь, что у советских детей было основополагающее знание, что можно говорить и делать, а что нет! Ну как это им, этим здешним, объяснить? Мама мне сто раз говорила: «Отец погиб. И лучше без нужды это ни с кем не обсуждать». А у нее был разный тон при разных «нет». Порой мамино «нет» даже подталкивало сделать наоборот. А были такие «нет!», за которыми пушки палили. Это «нет!» было как раз из таких.
– Почему? Почему? Почему ты не сказала: «Папа!»? – теребила меня Чума.
– Не знаю. Я только попросила разрешения приходить. Он не просто разрешил, а даже приказал. И мы гуляли. Он меня в зоопарк водил. И в кино. И все время рассказывал про маму, какая она замечательная. И расспрашивал. И рассказывал.
– А ты не пробовала свести их с мамой?
– Нет, конечно. Мама тогда была с одним… У нее за это время разные были.
– А я бы попробовала! – произнесла Чума торжественно и мрачно. – А что было потом? Почему ты мне не сестра, если так?
– А потому что, когда мама серьезно заболела… ее отвезли в больницу, оперировали даже… она меня позвала и вручила сверток. Велела раскрыть дома. И сказала, что там все правда, даже если кто-нибудь скажет иначе.
– И что там было? – Чума подалась вперед, ее щеки пылали, и дышала она со свистом.
– Фотография субтильного мужчины в серой фетровой шляпе. И письмо, желтый листочек, датированный 1943 годом. Написано незадолго до разгрома Варшавского гетто. Мужчина – мой отец. А письмо короткое: «Дорогой сын (или дочь). Если мы никогда не встретимся, знай, что я бы тебя очень любил. Любил так, как люблю твою маму. Будь большим, сильным и никого не бойся. Будь счастливым. Или счастливой. И делай только то, что считаешь необходимым. Заботься о маме. Твой отец: Ежи Беринский».
– И все?
– И все.
– Почему же у тебя в паспорте была другая фамилия?
– Потому что отец сумел отослать мою беременную маму к партизанам. Вынес ее из гетто в мешке со строительным мусором. А я была внутри мамы. Мама попала в отряд к Белоконю. А в СССР не любили тех, кто бежал с Запада, даже из Польши. Даже из Варшавского гетто. Белоконь предложил маме записать ребенка на свое имя. И ее тоже. Он привез ее в Ленинград, какое-то время они, кажется, даже жили вместе. Я уже тогда родилась, но ничего этого не помню. Потом Белоконь вернулся к жене, а мама принялась искать себе мужа. У нее это хорошо получалось, только каждый раз продолжалось недолго. Она была очень красивая. И сейчас еще красивая.
– Значит, мы не сестры, – вздохнула Чума.
– Значит, нет, – ответила я и тоже вздохнула.
И вот Чуме срочно потребовались все фотографии Белоконя, сколько их у меня было. А дядя Саша подарил мне еще три фотографии, кроме той, что стояла на этажерке в моей комнате. И все они были в альбоме, а альбом – в моей старой квартире. И, согласитесь, что бы ни говорил Женька, а вручить дочери фотографии никогда ею не виденного отца – это срочно.
Между тем за прошедшие месяцы я привыкла жить так, как живут местные люди, а они, когда еще молодые и не в конец измочаленные жизнью, ездить в пригороды на автобусах не умеют. Из города в город, например, из Яффы в Тель-Авив – это запросто. Из Тель-Авива в Хайфу – с гримасой, но без проблем. А уж в Эйлат – это из любого места и с энтузиазмом, пусть даже на попутке. Но в Шаарию, пригород Щели Надежды, куда мы по прихоти Мишки завалились, как монетки в пыльный угол подкладки, местные ездили только на «прайвете», в смысле на частной машине. То ли из желания установить некую дистанцию между собой и тамошней голытьбой, то ли потому, что прямого маршрута и удобного автобуса туда не было, да и сейчас, скорее всего, нет. Отвечать за эти слова я, однако, не могу: давно никуда на автобусах не путешествую.
Чума хотела везти нас на своей старой таратайке, но что-то у нее не сложилось. Думаю, боялась не удержаться, знала, что попросит показать фотографию Белоконя тут же на месте. А делить с чужими людьми свое переживание она не умела. Бенджи вызвался меня отвезти, но Женька рассудил, что это негоже. Не та физиономия за рулем.
Сам Женька на права еще не сдал, но отпускать меня одну он не собирался. А за рулем нужен был кто-нибудь представительный. Нет сомнения, что мой муженек выглянет из окна, чтобы знать, с кем я приехала, вернее, к кому от него ушла. И видеть Бенджи, даже принаряженного, ему совсем ни к чему. Обязательно решит, что кто меня на машине возит, тот и всем прочим обеспечивает.
И тут нежданно вернулся из заморского круиза Кароль. Вернулся возбужденный. Подтянулся. Стал щеголять в брюках. Даже дома не надевал привычные свои шорты, из которых сверху вылезал пуп, снизу – шерсть, сзади – по четверти ягодицы с каждой стороны, а спереди при неосторожной посадке еще и то, что не рекомендуется выносить на люди ни в коем случае. Брюки он выбрал черные и купил их за границей в оптовом количестве. Еще купил дюжину дорогих рубашек – шелковых кремовых с большими накладными карманами, парижский шик под названием «сафари».
Мы не сразу разгадали, что это с ним произошло, но он денек-другой потомился, потом пригласил на шашлыки и все рассказал. И этот рассказ придется тоже рассказывать по порядку, а мы еще не дошли до Шаарии, тогда как сюжет подгоняет нас к пикнику в День независимости. Когда же мы туда дошлепаем?!
Дело в том, что события налетали на нас тогда со всех сторон, потому что мы были молоды и жили весело. А с Каролем случилось вот что: он влюбился еще в конце Войны Судного дня, но не знал в кого. Вернее, он знал, что его любовь зовут Марой, что она болгарка и врач. Еще он знал, что Мара пересекала на плоту Атлантику и что она прыгает с мостов с канатом за спиной, каковое прыганье называется «банджи». А даже бывшие «коммандос» боятся прыгать «банджи», так что эта баба – танк, и лучше ее в мире нет.
Все это он рассказывал нам с Женькой за шашлыками, когда Бандеранайка еще жила при нем, плясала, орала и кидала травы в этот свой тандури. И однажды даже признался, что Бандеранайка оказалась плохой заменой его платонической любви. У Мары и волос чернее, и голос более зычный, и походка стремительнее, и жаром она пышет, как духовка в праздник, тогда как купленная за горсть алмазов цейлонская баба страсть только симулирует.
Я решила, что подполковник знает о предмете своей платонической любви очень даже много, но он справедливо утверждал, что не знает главного: где эта Мара живет и с кем, где работает, как ее фамилия, сколько ей лет и что ей в жизни нужно. Женька согласился с Каролем – Мара остается инкогнито.
Познакомились же они вот как: Кароль лежал в ортопедическом отделении со сломанной ногой и желтухой. Нога срасталась, а желтуха была какой-то не такой, и никто не знал, как ее лечить. Но в тот вечер дело было вовсе не в Кароле, а в его соседе, у которого рука вылетела из плечевого сустава, когда он пытался потянуть к себе через голову коробку с виноградом. Вообще же этот сосед переломал себе ребра, упав с грузовика где-то в Синае, потому и прохлаждался в ортопедии. С поломанным ребром лежат дома, но у этого сверхсрочника армейских грузовиков дома как такового не было. Кроме того, шла война. И его оставили в больнице. И вот: сосед орет, в отделении только стажер, который не знает, что с ним делать, дежурный ортопед оперирует, а старший дежурный ортопед куда-то смылся и не оставил телефона. Одним словом, бардак!
– Зови кого угодно! – велел стажеру Кароль. – Не то я позвоню директору этого чертова заведения! Со мной лучше не шутить!
А его к тому времени представили к высшей награде за храбрость и должны были дать ему звание подполковника. Угроза такого человека не шутка. Стажер кинулся куда-то звонить. Звонил туда, звонил сюда – отовсюду его посылали нехорошими словами. Больница была переполнена, врачей не хватало, война никак не кончалась, дежурить за себя и за мобилизованных коллег всем надоело и тащиться в чужое отделение вправлять вывихнутую руку ни одному дежурному доктору не хотелось. И вдруг морда стажера залоснилась, он стал важный и хмурый.
– Сейчас придет Мара, – сказал он, положив телефонную трубку. – Она умеет все. Ее взяли врачом на плот того норвежца, который пересек Атлантику. И она прыгает «банджи».
Кароль, тогда еще только майор, не знал, что это такое – прыгать «банджи». Стажер ему объяснил, и Кароль решил обязательно попробовать, если, конечно, выживет. Стажер покачал головой. По его мнению, у этого пациента было мало шансов выжить. А если он и переживет свою атипичную желтуху, то все равно останется инвалидом и «банджи» прыгать не сможет.
– Буду прыгать! – хмуро заверил стажера орденоносный майор и отвернулся к стене.
Но тут железная кровать под ним заплясала, и тяжелые жалюзи, намертво закрепленные над оконной рамой, грохнулись на пол. Тут же вбежала санитарка и запричитала. Унесла жалюзи и смела осыпавшуюся штукатурку в фартук. Потом влетела ленивая медсестра Ирис, оглядела помещение, схватила одной рукой утку, полную мочи, а другой рукой – тяжелый поднос с тарелками, не убранными еще с обеда. Вышла, танцуя, словно это для нее – ежедневная гимнастика. А попроси ее в обычный день вынести утку или поднос – «Не могу, спина болит!»
Но не успела Ирис скрыться за дверью, как вбежал растрепанный стажер и стал рыскать глазами по палате, выискивая непорядок. А вскоре пахнуло жаром, как из печи, в которой скворчит мясо и поднимается сдоба. И вошла она. Дальше Кароль помнил плохо. Мара одним махом вправила соседу руку, тот и ойкнуть не успел. Потом повернулась к Каролю, подняла ему веко, заглянула в глаз и деловито запустила жесткую ладошку под печень.
– Лептоспироз, – сказала стажеру, – пошли кровь и мочу в Петах-Тикву к Якову Шамушке.
– Кто это? – удивился стажер.
– Старый микробиолог из Черновиц. Только он во всем этом сраном государстве еще помнит, что такое микробиология.
– А ты откуда про это знаешь? – почтительно справился стажер.
– В Болгарии нас учили медицине, а вас тут учат черт знает чему! Ты, – она ткнула пальцем в сторону Кароля, – жрал уток с Черных озер?
– Гусей, – виновато ответил тот.
– Ну и дурак! – постановила Мара и вышла вон.
У Кароля оказался этот самый лептоспироз. А признание в том, что он ел гусей с Черных озер, расположенных в земле Гошен, что на подступах к Египту, чуть не стоило ему звания, потому что солдатам было строго запрещено охотиться там на диких свиней и диких птиц. А уж офицеру нарушать строгий приказ было и вовсе нельзя. Но звание Каролю все же присвоили. Очень он перед тем отличился. И он, теперь уже подполковник, не держал зла на Мару. Она его спасла тем, что поставила диагноз. И потом вовсе не она, а дурак-стажер рассказал другим врачам про гусей. Но драма была в другом: пока Кароль проваландался с этой гусиной желтухой, Мара исчезла из больницы. И никто не мог сказать, куда она девалась.
Одни говорили, что уехала лечить какие-то жуткие болезни в Южную Америку, другие – что отправилась налаживать прививки в Африке, а третьи утверждали, что она еще раньше вышла замуж за миллиардера и живет в Штатах, а в Израиль приезжала только на время войны. Война кончилась, и Мара уехала назад, а адреса не оставила.
Кароль дошел до самого главврача, но и тот ничего толком ему не рассказал.
– Поверь мне, парень, – пробормотал, – от этого тайфуна нам всем лучше держаться подальше.
И вот, представьте себе, стоит наш подполковник в очереди на посадку в аэропорту Орли, это в Париже, чтобы лететь в Камерун, и вдруг видит: мимо него идет – кто бы вы думали? Да, Мара!
Кароль вышел из очереди и пошел за ней. Выяснил, куда она летит, переплатил, но взял-таки билет на тот же самолет, а самолет летел в Гренландию. Каролю же было все равно, куда лететь – в Гренландию или в Камерун, лишь бы вместе с Марой. Он сел в самолете рядом с ней, отправив какого-то шибздика-француза на свое место. И такой вид был у нашего подполковника, когда он просил французика пересесть, что тот и не подумал спорить, хотя предлагаемое место было в самом хвосте самолета.
А уж пристроившись рядом с Марой, Кароль не отходил от нее до тех пор, пока не оказался вместе с ней в гостиничном номере паршивой гостиницы, которая в Гренландии считается самой хорошей. Но ему было наплевать на недостатки гостиничного сервиса в Гренландии, потому что Мара подарила ему такое счастье, о котором он даже не смел мечтать.
И в День независимости они решили отпраздновать помолвку.
Замуж за Кароля Мара пока не шла, но согласилась пожить вместе, чтобы присмотреться. «Ты пока дерьмо, – объяснила она возлюбленному, – но мне кажется, из тебя еще можно сделать человека». И от этих слов подполковник вознесся на седьмое небо, где и продолжал находиться.
Может быть, по этой причине, а может, по другой он немедленно согласился везти нас в Шаарию на своем серебристом «понтиаке», что должно было убедить моего бывшего мужа в моей, а не его правоте. А что муж – бывший, в этом я не сомневалась. С тех пор как я ушла от него, жизнь стала нормальной. Сумасшедшей, конечно, но нормальной, без вечного страха за завтрашний день и без нытья. Нормальная жизнь, крепкая, как наваристый бульон. Жизнь, в которой я себе и ей, этой жизни, полная хозяйка. И никогда больше не будет иначе.
Если бы все это происходило в Питере, за спиной вился бы шепоток: «Она – дочь своей матери!» Да и вился наверняка! Уж Мишкина мать точно не преминула употребить это восклицание, когда получила от сына письмо с сообщением о моем непорядочном поведении. Ну что ж! Не такая уж плохая у меня мать. Красавица. И умница. Переводит с четырех языков и все еще держится молодцом, хотя ей уже под пятьдесят. Берет себе тех мужиков, какие ее устраивают. И делает то, что хочет. Как покойный отец мне завещал. А я, дура, старалась жить по линеечке, чтобы все как у людей, чтобы ни ниточки за прошвочку не вылезло. Так что – бывший муж, совсем бывший. И никаких шансов на примирение. Кроме того, Женька ему дает фору по всем параметрам.