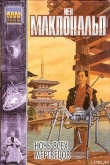Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Приехали мы в Шаарию в седьмом часу вечера. В окнах моей бывшей квартиры – во всех разом – горел свет. Мне бы задуматься: с чего это? Эмигрантская жизнь, она осторожная, экономная. По телефону долго не болтать, свет без нужды не жечь, чтобы перебиться и выжить. А уж в деле экономии на Мишку можно было положиться. Он из дому и не звонил никогда. Привязывал ниточку к телефонному жетону, звонил из телефонной будки, потом свой жетончик назад выуживал. А тут – свет везде! Понять надо было, что не в себе человек!
Но я к тому времени про экономию вовсе забыла. Может, потому мне жизнь и стала казаться нормальной. Женька экономить не любил. «Я на свои нужды всегда заработаю!» И Кароль экономию не признавал, утверждал, что она – путь к бедности. Нормальный человек должен не экономить, а обеспечивать себя и своих близких всем необходимым и особенно лишним. Мы и в галерее оставляли электричество включенным на целые сутки.
Да ладно! Какая теперь разница! Я же удивилась тогда, что свет всюду горит. Удивилась и пропустила мимо. Не до того мне было.
Женька вышел со мной из машины и проводил до входной двери. А полковник закурил и открыл дверцу – выпускать дым и шугать местных пацанов, для которых появление «понтиака» – праздник. А если этим мальчишкам удастся еще и отвинтить фирменный знак, тогда уж не просто праздник, а, можно сказать, пир духа. Все просто, все нормально. Я шла к подъезду, смеясь.
А на лестнице силы меня оставили, ноги налились тяжестью, а голова, напротив, закружилась от непереносимой легкости. Все мысли из нее выдуло. Поднималась я на третий этаж, а казалось, что на Эверест. Или – по гороховому стеблю – в небо. Или по винтовой лестнице в башню с привидениями. Или… Звонок тявкнул и затих. И хорошо. И пусть его не будет дома. Открою своим ключом. А где этот ключ? Со мной? Потерян? Упал в пропасть?
Мысль о ключе вдруг стала непереносимо важной. Куда он мог деться? Я отчаянно шарила в сумке вспотевшей ладонью и даже не расслышала шагов за дверью и не сразу поняла, что дверь открылась. А когда поняла, что-то обожгло щеку, обрушилось на голову, сумка вылетела из рук, голова шмякнулась о притолоку, воротник впился в шею. И снова о притолоку, и волоком по коридору, плечом об стену.
Я пыталась понять, что это, но боль вспыхивала то с одной стороны, то с другой. Свет потух в правом глазу, что-то горячее полилось из носа… все стихло на короткое время, но ноги не держали. Я стала сползать по стенке на пол, и тогда в поле зрения попало лезвие ножа. Оно надвигалось, отодвигалось, танцевало в смутном свете… а вокруг грохало и валилось… что? Что происходит? Что?!
Боль в левом плече была оглушительной, и у нее оказался знакомый запах. Мишкин запах. Он словно разбудил меня. Я принялась толкать и лупить то, от чего этот запах исходил. А еще – визжать и брыкаться. Почувствовала, что держусь за дверь, протиснулась за нее и захлопнула дверь изо всех сил, преодолев чье-то сопротивление. Сползла на пол, уткнулась во что-то и не сразу уразумела, что это моя сумка. Вытащила впившуюся в ногу железку и не то чтобы увидела, а поняла, что это – ключ, который я искала. Пошарила в темноте руками по полу, сложила предметы сначала в кучку, потом переложила их в сумку. Помню, что долго пыталась понять, портмоне ли то, что держу в руке, или записная книжка. Терять нельзя было ни то, ни это. Пошарила еще, нашла книжку. Поднялась, попыталась нащупать ногой ступеньку, не удержалась и съехала на спине по всему лестничному пролету, два этажа с четвертью.
Голова ударяла о ступени с медным гулом. Словно вдалеке били в колокол. Бам-бам-бам. Потом все выключилось. Потом включилось, не знаю что, но включилось. Я поднялась и медленно, стараясь не давить на горячую и непослушную правую лодыжку, сползла, спустилась, сошла в вестибюль, а оттуда во двор. Куда идти дальше, я не знала. Был ли свет на улице или нет, тоже не могла понять. В левом глазу света осталось совсем чуть-чуть, а правый давно закрылся. И все-таки я шла – куда, бог меня знает. Женька догнал меня у выхода на улицу. «Под автобус…» Я слышала, как он это сказал, а потом все снова исчезло, и очнулась я в машине. Надо мной хлопотал Кароль, обтирал мне щеки платком, смоченным «Кока-колой». Лицо у него было нечеткое, но казалось озабоченным. Или заботливым. Поди разбери, если раньше ничего похожего это лицо никогда не выражало.
– Очнулась, – сказал он ворчливо. – Ну слава богу! Если бы ты сказала, что он – сумасшедший, мы бы тебя одну не пустили. Зачем ты жила с таким сумасшедшим? Зачем?
Я не жила с сумасшедшим. Мишка был вполне нормальным занудой. А поначалу даже занудой не был. Такой… Гитара, турпоходы, рубайаты и сонеты. Йога головой вниз, чтобы наполнять мозг кислородом. И еще это… кирпичи ладонью рубить… как это у них называется… карате, вот! На случай самообороны и чтобы выручать мамзелей из дистресса. А меня выручать не надо, я сама кого хочешь вгоню в этот… в дистресс.
Голова гудела так, что ток по временам выключался. На секунду. Потом включался снова. Когда включался, я бежала по пылающему гонгу, и пятки выбивали из меди гулкий звук. А когда выключался, гонг погасал, но я все равно бежала по нему, только в полной тишине, и это было еще страшнее. Бам-бам-бам. Ш-ш-ш… Ш-ш-ш… Ш-ш…
– Только полная сволочь или законченный псих может так избить женщину! – кричал Кароль.
И тут я вдруг поняла, что со мной случилось. А поняв, потеряла сознание. Оно вскоре вернулось вместе с тошнотой. И я услыхала чей-то голос, тупо повторяющий две фразы: «Он посмел поднять руку на моего ребенка! Он ударил сироту!»
Слова были мамины. А голос – нет. Может быть, это был мой голос, но я не была в этом уверена.
– Что ты сказала? Что это? – Кароль почему-то кричал, а чего сейчас кричать? А, это потому, что голос говорит по-русски, а Каакуа не понимает, что он говорит. Значит, это мой голос. Какой странный. Губы, поняла я, губы опухли. – Мы едем в больницу! – орал Кароль. – Я хотел подняться к нему и раскрошить этому уроду зубы. Но Женья сказал, что это его мужское дело. Так правильно, но я не хочу больше ждать. Мы едем в больницу. А потом я пришлю сюда полицию.
– Не надо… Нет…
– Идите оба к черту! Вы, русские, все сумасшедшие. Мы едем в больницу! Все! Все! Это не твое дело! Я сам вызову полицию! Он должен сидеть за решеткой, как опасный бабуин! Как зверь, который почуял кровь! Держись! Я сажусь за руль.
– Надо… посмотреть, что с Женей…
– Не надо! Женья сам справится. Он мужчина.
– Надо… Мишка чемпион в тяжелом весе… и он… он… он не в себе. Он может убить!
– Кто? Женья?
Я помотала головой, отчего ток снова выключился. Откуда-то издалека услыхала: «Хорошо! Я пойду, но ты держись!», и с усилием кивнула. Кароль захлопнул дверцу машины, и хлопок гулко прозвучал в моей голове. Потом я опять услыхала: «Он ударил сироту! Он бил моего ребенка!» Но теперь это был мамин голос.
Маму бил гестаповец. Он бил ее прикладом. Я была внутри, но такая мелкая, что у меня не хватило сил даже на то, чтобы произвести выкидыш. И, наверное, даже не испугалась. Трехмесячные зародыши не умеют бояться. А когда мама очнулась и пришла в себя, папа вынес ее из гетто в мешке со строительным мусором. Он был субтильный, мой папа. Узкокостный и очень элегантный. У него были узкие ладони и длинные пальцы. Он играл на кларнете и любил английских поэтов. Но он нанялся выносить строительный мусор. И носил тяжелые мешки так, словно только этим всю жизнь и занимался. А один мешок был особо тяжелым. И он нес его очень осторожно. Мама была тогда совсем худая. Не было еды, и еще ее все время тошнило. И когда я родилась, подросла и начала вредить, мама никогда меня не била.
Но как-то, когда у нее завелся новый муж, или кем он ей там приходился… я не жила тогда с ними… случилось так, что меня забрали в милицию, потому что мы бросали патроны в костер… а Сима, мамина подруга, у которой я жила, иногда дралась, и за патроны могла побить по-настоящему. Обычно она дралась не больно, шлепала по попе или давала щелбана. Но наказывала сурово. Могла не разрешить месяц выходить во двор. Ну вот… я не хотела. чтобы милиция отвезла меня к Симе, и дала мамин адрес. А этого ее тогдашнего мужа я плохо помню. Он был большой и лохматый. Кажется, его звали Фимой. И он снял ремень… Я не кричала. Мама вошла случайно. И как она размахнулась табуреткой! А потом крикнула так, словно выдрала этот крик из собственного живота: «Пошел вон! Вон! Вон!» И потом сидела на том же табурете и повторяла без выражения: «Он ударил моего ребенка! Он поднял руку на сироту!» Кому она это говорила? Симе? Да, пожалуй. Потому что я помню Симин голос: «Мало ли. Он хотел ей добра».
Дверца машины опять хлопнула.
– Садись! – крикнул Кароль. – Садись, я отвезу вас к вашей яхте и больше не хочу видеть! Никого! Вы – ненормальные!
Над спинкой правого переднего сиденья показалась голова Женьки, а в машине запахло перегаром.
– Они пили! – крикнул подполковник еще громче. – Они сидели вдвоем на кухне и пили!
– Я вошел, а он сидел на полу и плакал, – сказал Женька глухим безразличным голосом. – Я разбил его жизнь.
– Заткнись, – велел Кароль. – Заткнись, не то я размозжу тебе челюсть. Вы, русские, вы все – опасные сумасшедшие. Вас всех надо держать за решеткой.
Машина то неслась плавно, то дергалась и прыгала, причиняя каждым скачком многократную боль: сначала стукало в голове, потом било в плечо, разносило зубы, ударяло под дых, отдавалось в спине и взрывалось в лодыжке.
– Кароль, – не выдержала я, – Кароль… Тише… пожалуйста…
Справа и спереди доносилось тяжелое Женькино сопение. Иногда он бормотал что-то, но мне не удавалось разобрать слова.
– Убирайся! – вдруг завопил Кароль. Машина дернулась и затихла. – Иди! Отсюда дойдешь ногами. Заодно протрезвеешь. Ее я отвезу к себе. Если Мара дома, она сама решит, нужно ли ехать в больницу. Ну! Я кому сказал! Ты мне мешаешь вести машину. Пошел отсюда!
Я поняла, что Кароль все же выгнал Женьку из машины, и снова потеряла мир из виду. Очнулась я уже в постели. Надо мной висело незнакомое сосредоточенное женское лицо с усами и очень большими и очень черными глазами.
– Очнулась? Значит, ничего. Попей! – велел хриплый, сильный, но приятный голос. – Лодыжку я тебе вправила. Рану зашила. Грудную клетку стянула бинтами. Остальное заживет. А сотрясение мозга – с этим делать нечего. Это надо вылежать. А почему ты не хочешь ехать в больницу? На тебе что-нибудь висит? Ты пырнула его ножом?
Я не помнила, что не хотела ехать в больницу. Не помнила, что говорила такое.
– Я никого не пыряла. Он мой муж… бывший.
– A-а! Может, ты и права. Зачем выносить сор из избы? Ножевая ранка, но неглубокая, многочисленные ушибы, сломанное ребро и сотрясение мозга. Записать все это надо. Развод тогда проще. Кароль, возьми большую машину, положим ее на заднее сиденье. До приемного покоя и назад. В больнице ей делать нечего. Я уже все, что нужно, сделала. Заберем домой. В полицию пока жаловаться не пойдем. Но какая же ты тряпка! Я бы его так отделала! Он бы у меня блевал кровью в туалетное очко!
– Все случилось сразу… я не ожидала.
– Надо бить головой в живот. Изо всех сил. Или – по яйцам! А потом, когда согнется от боли, рукой в челюсть… снизу… вот так! – Смуглый и не такой уж большой кулак врубился в парчовую подушку, и подушка взлетела к самому потолку. – Когда очухаешься, я тебя научу. Это просто.
– Пошел он к черту! – сказала я своим голосом, что было странно. Я ощупала губы. Они сильно уменьшились в размере. Стали почти такими, какими были прежде.
– Рот не пострадал, – успокоил меня голос, принадлежавший, очевидно, легендарной Маре, которая переплыла Атлантику на плоту и прыгала «банджи». – Зубы целы, челюсть тоже. А опухлость я сняла. Но рентген все же сделать придется.
– А рана, откуда она?
– На ножик напоролась.
Ножик? Мишка действительно хотел меня убить?! А Женька, зная это, с ним пил? Или Мишка возился на кухне и просто вышел с ножом в руке, а я на этот нож напоролась? Что же там было на самом деле? Все с ума посходили?
– Не плачь, – ласково, но твердо сказала Мара. – Выплюнь, выбрось, забудь. Не вздумай разбираться. У таких историй нет одной правды.
Так началась моя дружба с Марой. И закончилась счастливая любовь с Женькой. Никаких взаимных претензий не осталось. Просто растаяло все, что между нами было, словно его никогда и не было. Какая из меня Андромеда? Я же своя, со мной все просто, потому что понятно. Мишка плакал. Женька отнял у него любимую женщину. Что им оставалось? Убить друг друга или чокнуться и запить проблему. Хорошо, что выбрали второе. А Персей ничего про чудище не знал. И не понимал, что у того на душе. Не мог вникнуть в его проблему, иначе Персею этому никак бы не удалось совершить подвиг. Чудище должно быть потусторонним и совершенно непонятным, иначе получится совсем другая история. Что-то вроде того, что случилось у Красавицы со Зверем, у Иванушки с лягушкой и у Машеньки с медведями.
Наконец я поняла, почему Андромеду притащили сюда аж из Эфиопии для того, чтобы посадить на камушек напротив ресторана «Алладин» в Яффе. И почему Персей и все прочие ланселоты перлись за три моря выручать из беды Прекрасных Дамзелей. Это – для остранения. Чтобы чудище оставалось чудищем, дрянью заморской. Чтобы убивать его было легко. А кроме того, я поняла, что, описывая мою тогдашнюю жизнь, нужно оставить на потом все другие, приключившиеся за это время истории, иначе мы никогда не доберемся до пикника на берегу моря в честь Дня независимости и помолвки Кароля и Мары.
Впрочем, личный праздник был не только у Кароля и Мары. Бенджи прощался с холостой жизнью, потому что старец Яаков нашел ему жену раньше назначенного срока. Персиянка была большой и сильной с огромными бархатными глазами. Бенджи решил принять этот дар судьбы, но прежде потребовал от Чумы окончательного ответа. И Чума снова сказала решительное «нет!».
На пикнике Бенджи должен был представить свою Шахерезаду обществу. Шахерезаду звали Рахель. Была она из хорошего рода правильного племени, и прийти могла только в сопровождении брата, которого Бенджи уже ненавидел, как полагается ненавидеть такого родственника.
Чума тоже праздновала целых три события: освобождение от назойливой страсти Бенджи, приближение своей выставки, приобретавшей конкретные формы, и что-то еще, о чем говорить она пока не хотела.
– Я приду не одна, – предупредила Чума. – Со мной будет арабка Луиз.
– Это еще зачем? – взвился подполковник, которого Мара назвала Каро, что на ладино и прочих похожих языках означает «драгоценный».
Мара была сефардкой, Кароль, во всяком случае по матери, тоже был с Балкан, а там почти все евреи – сефарды. Так что им теперь пристало переговариваться разве что на ладино, которого ни один из них не знал. Но как бы там ни было, «Каро» звучит лучше, чем «Каакуа».
– А что? – напряглась Чума. – Тебе-то что? Она – моя гостья, кто ее тронет или заденет, будет иметь дело со мной!
Надо сказать, что Кароль, по его собственному признанию, готов был смотреть на арабов только через прицел ружья. Но к Чуме он относился уважительно. Что там между ними было, не знаю, но они были знакомы давно и без особой причины друг друга не задевали.
– А то, – нахмурился Кароль, – что это День независимости. Твоей Луиз и самой не поздоровится, если другие арабы узнают, что она была с нами. И нам праздник испортит, и себе навредит.
– Уже навредила, – усмехнулась Чума. – Она чокнутая. Хочет быть с евреями. Говорит, они ей больше нравятся. Кроме того, она христианка.
– Час от часу не легче, – буркнул Кароль. – Из яффских, что ли? Как бы она нам на хвосте драку не принесла. Неохота с этим пачкаться в праздник.
– Все будет нормально, – успокоила его Чума. – Ее папаша держит таксопарк.
– Саид, что ли?
Чума кивнула. Кароль тоже кивнул, и больше они об этом не разговаривали.
Еще собирались прийти армейские друзья Кароля. Чума позвала и Женьку, хотя Кароль после того случая его и видеть не хотел. Но Женька, как истинный мазохист, только к нам и таскался. Когда пришел в первый раз, я еще была сильно нехороша. Рана нагноилась, головные боли не отступали, синяки только начали линять. Он потоптался у постели, присел на корточки и спросил с тоской в голосе: «Ты меня ненавидишь?» Говорить мне не хотелось, и я только помотала головой.
– Почему? – не согласился Женька. – Ты должна меня ненавидеть! Я сам себя ненавижу. Но – представь себе: я захожу, а там здоровенный мужик сидит на полу и ревет. Что я должен был делать? Бить ногой?
Я снова помотала головой.
– Должен был! – не согласился Женька. – Надо было его поднять, а потом – врезать. Но я это только потом сообразил. А тут – сел за стол, налил себе рюмку… дурацкая ситуация… а он вдруг подполз и рядом сел… Я прощения не прошу. А что я мог сделать?
Я прикрыла глаза. И правда – что? Альбомы искать? Так любовнику не полагается шастать по квартире и шарить по полкам! Но говорить на эту тему мне не хотелось, думать – тоже. Я заснула, а когда проснулась, Женька так и сидел на полу возле кровати. С места не сдвинулся. Кароль его несколько раз из дома выкидывал, а он снова приползал. На него махнули рукой. Ходил за нами, как побитая собака, сам себе наливал кофе из финджана после того, как Мара всем остальным разлила.
Наверно, я должна была его простить. Любовь зла, но она и отходчива. А меня словно заморозили. Такое со мной бывало, когда случалось что-то очень нехорошее. Хожу, гляжу, делаю то, что требуется, говорю то, что полагается, но вся словно замороженный зуб. И поди пойми – есть он или на его месте дыра. Женька мучился, я это видела, но не реагировала. Не могла. Что с этим сделаешь?
Итак, на пикник собиралось человек двадцать. Кароль и Чума считали, что еще человек десять подойдет, так что надо покупать целого барана. За бараном Кароль поехал к своим друзам в горы. Они под его началом воевали. А Чума с Марой покатили на базар. Привезли гору продуктов и снова поехали. Три раза ездили, потом быстренько овощи почистили, что замариновали, что потушили, что-то чем-то нафаршировали. Коробки с едой не влезали в холодильник, и Кароль, недолго думая, поехал в магазин за вторым холодильником. Судя по всему, семейная жизнь представлялась ему непрекращающимся застольем, потому что, посоветовавшись с Марой, Кароль решил купить огромный американский холодильник на две двери.
– Старый поставим на крыше, – кивнула Мара. – Там можно держать напитки.
– И мясо для шашлыков, – тут же добавил ее Каро.
Они были необычайно согласованными во всех движениях и проявлениях. Создавалось впечатление, что им не только хочется одного и того же, но что это совместное желание даже просыпается в обоих в одну и ту же единицу времени. Вот Мара только направилась к тяжелому вазону с деревцем, чтобы переставить его в другой угол террасы, а Кароль уже несет этот вазон в направлении ее взгляда и ставит его, очевидно, точно туда, куда сама Мара предполагала поставить, потому что она лишь согласно кивает головой. Или Кароль только собирается куда-то идти, по глазам видно, что он еще даже не решил, идти ли, а Мара уже спускается по лестнице из спальни и несет вниз его кожаный пиджак. Каролю остается согласно кивнуть, чмокнуть ее в щечку и отправиться туда, куда собрался. Но ее-то в комнате вообще не было, когда Кароль встал и отправился за пиджаком!
Вот и сейчас они двигались по пляжу в согласованном ритме, молча, но так, словно неведомый хореограф заранее расписал каждый их шаг. Кароль несет тюфяк, привезенный для меня, в тень под дерево, а Мара уже выходит с другой стороны этого дерева с одеялом и подушкой. Мара несет шашлычницу и оглядывается, куда бы ее поставить. Приносит на выбранное место, а там уже лежат стопкой кирпичи, которые необходимо под шашлычницу подоткнуть. Говорят, семейные люди приходят к такому безмолвному пониманию желаний и намерений друг друга после долгих лет совместной жизни, но эта пара только собиралась стартовать в семейном забеге, и мне казалось, что стартовать из позиции, уготовленной для финиша, опасно.
Мара то и дело подходила ко мне справиться, удобно ли лежать, не достает ли прохладный ветер, не нужно ли мне чего. Я потянула ее за рукав, приглашая сесть.
– Почему ты решила выйти за него замуж? – спросила я неожиданно для самой себя. И тут же поправилась, объяснилась: – Мужики, когда добьются своего, они это… становятся другими.
Мара опустила голову. Я видела только ее жесткие, как стружка, смоляные кудряшки, по которым уже бежала обильная седина.
– Ты думаешь, на свете есть много мужчин, которые прощают нам прыжки с моста? Или пересеченную на плоте Атлантику? Я его выправлю! – сказала она решительно, подняла голову и рассмеялась громким гортанным смехом. – Он у меня станет человеком! И мы будем жить вместе долго и счастливо. – Потом снова опустила голову и сказала тихо, почти шепотом: – Я ездила к его матери.
– Говорят, кошмар…
– Моя тоже не сахар, – задумчиво ответила Мара. – Но, может, оно и хорошо. Мужчина выбирает жену наподобие собственной мамаши или полную ее противоположность.
– И что оказалось?
– Не знаю, – вздохнула Мара. – Ее подобрали с суденышка, которое перевозило нелегальных иммигрантов. Ни отца, ни матери. Своего дома никогда не было, своей жизни тоже. В пятнадцать лет родила ребенка. От кого – не знает. Их много было. Не насиловали даже, а брали за кусок хлеба. Хлеб бросали на расстеленный рядом старый платок. Платок был в клетку. А внешне… внешне мы, пожалуй, похожи. Я пыталась узнать, откуда прибыло суденышко. Вроде как из наших краев.
Мы посидели с Марой молча, и тут на тюфяк рядом со мной плюхнулась большая картонная коробка.
– Забирай! – сказала Чума. – Тут твои вещи. Не все, еще я привезла два чемодана, но они у меня дома.
– Ты ездила… туда?
– Ездила. Твой муженек пытался трепыхаться. Пришлось пригрозить. А теперь покажи мне моего папашу.
Ее глаза победно сверкали. Я решила, что это и был Чумин сюрприз, о котором она не хотела говорить. Все в ней горело, фотография Белоконя была нужна ей позарез. Но оказалось, что дело не только в Чумином горении, вернее, не в нем одном. Она успела съездить в музей «Яд ва-Шем» и потребовать признать Белоконя спасителем евреев. Есть, оказывается, такая должность. Звание. И теперь она собирала свидетельства. Нашла еще трех человек, бежавших из гетто, которым дядя Саша помог.
– Это ему и Берте, – произнесла Чума торжественным голосом. – Как жаль, что он не дожил! И она тоже.
Так я узнала, что дяди Саши уже нет в живых. Интересно, как узнала об этом Чума?
Получив все фотографии Александра Белоконя, Чума удалилась. Мара поглядела ей вслед, передернула плечами, словно озябла, и произнесла:
– Сколько же тут сирот, Господи помилуй!
Вскочила и отправилась навстречу обеспокоенно глядевшему в нашу сторону Каролю, а на ходу бросила:
– Скажу Каро, пусть съездит за моими стариками. Что-то я по ним соскучилась.
Не поверите, но Кароль уже играл ключами от машины. Мара шепнула ему что-то на ухо, и он тут же собрался в путь. На сей раз не на шикарной американской птице-тройке, а на стареньком грузовичке. Мой тюфяк, корзины с едой, углем и шашлычницами в «понтиак» бы не поместились. Вот Кароль и взял эту колымагу, она в углу двора стояла.
Мара торопливо выгружала из кузова то, что еще в нем оставалось, а Кароль принимал у нее корзины и шашлычницы. Работали они так споро, что и десяти минут не прошло, как грузовичок запылил по песку и скрылся за прибрежной скалой.
И тут я увидала Луиз. Она, видно, пришла с Чумой, но остановилась шагов за десять до моего тюфяка. Там и осталась стоять. И, боже мой, разве не так должна была выглядеть Андромеда?
Ветер пытался сорвать с нее хламиду, длинную и легкую. Ткань прилипала к стройному телу, обтягивала его, морщилась на груди и трепетала по бокам. Луиз ее оттягивала, оправляла, беспокойно покусывала нижнюю губу, но не вертелась и лишних движений не производила. Просто беспокоилась о пристойности, как и полагается испуганной девственнице. Она явно была очень напряжена, незнакомые люди ее пугали, но в круглых черных глазах светилось любопытство. Длинные черные волосы спадали до пояса. Ветер и их не пропустил, подхватывал прядь за прядью, вертел в невидимых пальцах, швырял в разные стороны, как нервический куафер, поймавший вдохновение, но еще не решивший, под каким углом пустить в ход ножницы. Я поманила арабку пальцем. Она подошла легкой бесшумной походкой. Подошла, как и должны ходить – по воздуху! – прекрасные принцессы, предназначенные в жертву морским чудищам.
– Луиз, – представилась тихим голоском и протянула ладошку.
Я потянулась навстречу и ойкнула.
– Извини! – пробормотала Луиз, быстро и ловко забралась на мой тюфяк, поджала ноги и удобно устроилась на крошечном пространстве. – Ты – Ляля?
У нее были тонкие черты лица, пухлые губы и совсем еще детская шея, со складочками даже.
– Чума сказала, что тебя избил муж. Я думала, у вас этого не бывает. А у нас – сколько угодно! Мой отец не бьет мать. Но у всех знакомых такое случалось. А я думаю: если меня кто-нибудь ударит, я, наверное, умру.
– Не умрешь.
– Умру! Я лучше умру! А хочешь, я принесу тебе питу с чем-нибудь? Мы с Чумой принесли совсем горячие питы. С чем тебе, с салатом или с сыром? Мясо еще не начали жарить, только сейчас выкладывают на огонь.
Откуда эта тараторка знает, что выкладывают на огонь метров за триста от нашего тюфяка? Луиз двинула ноздрями разок-другой, они, очевидно, и служили ей источником информации.
– С сыром и с овощами.
Она поднялась так легко, словно ветер смахнул ее с тюфяка и снес к корзинам. И тут на горизонте, то есть на невысокой прибрежной дюне, появился Женька. И спикировал оттуда навстречу своей судьбе.
А вообще-то я сейчас занимаюсь сочинительством, потому что ничего такого андромедного в этой Луиз при первом ее появлении не было. Ветер был, платье на ней он обжимал, волосы трепал, как и на всех остальных, но – ничего особого. Милая такая тараторка. Услужливая до невозможности. С любопытством в глазах и затаенным страхом в походке. Говорила на иврите с легким акцентом. Женька обратил на нее внимание только к концу пикника, но Кароль что-то ему сказал тихо и твердо. Женька отпрянул. А потом его как магнитом потянуло к этой девчушке. Они ушли гулять вдоль берега. Долго гуляли. Вернулись, возбужденные ветром и разговором. И разошлись. Луиз ушла с Чумой, предварительно хорошенько поработав на сборе мусора. И коронкой вечера была вовсе не она, а Марина мамаша.
Кароль привез их, мамашу и папашу, довольно поздно. Шашлыки уже съели. Песни спели, костер потушили. Как раз выковыривали картошку из-под углей. Никому она уже не была нужна, эта картошка, но какой без нее пикник у моря? И тут на дюне появился знакомый грузовичок. А до того Мара места себе не находила. Металась туда и сюда, сюда и туда. И все время взглядывала на дюну, ждала. Ну и дождалась!
Я думала, из кабины вылезет нечто громадное, усатое, громомечущее и молниеобразующее. А оттуда, как из зеркал версальского пассажа, выпорхнуло крохотное изящное создание в длинном платье с кружевами. Лицо срисовано с Греты Гарбо, а походка – меленькая, с упором на носок, заимствована у героинь мелодрам. Вот сейчас заломит руки и пойдет причитать, благословляя и проклиная непослушную дочь одновременно. Но нет. Досеменила до спуска к морю и оглянулась. Не растерянно, а властно. И с обеих сторон к ней немедленно побежали с протянутыми руками Кароль и крупный пожилой мужчина в элегантном костюме и при фетровой шляпе. Кароль оказался прытче. Ему и повезло снести фею по песчаному склону и поднести ее к самому костру.
Вообще-то ему надо было не спускать ее осторожно на землю, словно драгоценную китайскую вазу эпохи Тан, а бросить прямо в костер. И повалил бы дым, черный и вонючий.
Мара бросилась к матушке, та потрепала ее по щеке и нахмурилась. Фее явно не понравился наряд дочери, майка и брюки. А майка-то, между прочим, была фирменная, и брюки тоже.
– Ну и зачем нас привезли на эту… на этот потухший костер? – спросила фея так холодно, что у всех присутствовавших мороз по коже прошел.
– Я думала… – пробормотала Мара, опустив голову, – я думала… – Она подняла голову и посмотрела на мать так же, как та смотрела на нее. В воздухе скрестились два жестких луча, две стальные шпаги. – Я думала, тебе захочется побывать на моей помолвке.
– Помолвка? В первый раз слышу! Но как бы то не было, твои помолвки и свадьбы для меня давно уже не повод для веселья. И кто тут жених? – Фея переводила взгляд с одного мужского лица на другое, и взгляд был одинаково неодобрительный.
– Он тебя привез. И не ври, что не знала. Я разговаривала с папой и оставила тебе записку.
– А! На сей раз ты вышла замуж за грузчика?! Поздравляю! Жорж, ты знал, что человек, который нас привез, собирается стать нашим зятем? Хорошо, что я забыла дать ему чаевые! Получился бы ужасный конфуз. Нельзя ставить мать в подобное положение, Мара!
– Моя мать сама умеет поставить себя в любое положение и выйти из него, – четко и спокойно парировала Мара. – А я готова ей помочь. Каро, милый, поезжай за «понтиаком» и отвези мою матушку в ее хрустальный дворец. Или лучше вызови такси.
Кароль не шелохнулся. Он стоял, набычившись, минут пять, удерживая на склоненной голове тяжелую тишину, только усиленную шумом моря.
– Твоя матушка достойна хрустального дворца и «понтиака», – сказал он вдруг. – Я должен был думать, что делаю. Мы взяли старый грузовичок, чтобы заодно привезти все необходимое для пикника, – обратился он уже непосредственно к будущей теще. – Я прошу прощения. Но у меня есть для вас удобное раскладное кресло. Сейчас я его принесу. И угощу вас таким бараньим шашлыком, что вы не пожалеете, что приехали. Костер для этого не нужен, у меня есть шашлычница. Еще у меня есть винтажное шабли, очень хороший год, прекрасный урожай. И позвольте представиться: подполковник Кароль Гуэта, предприниматель.
Поскольку гости сидели вокруг затухающего костра, вздох облегчения они передавали по кругу. Раздался и короткий хлопок в ладоши. Хлопал Жорж, отец Мары. Очень на нее похожий. Наоборот, конечно, но сравнивала-то я его с Марой, а не ее с ним. Раскладное кресло оказалось под рукой, фея села в него, отвесив Каролю вежливый кивок. Мара обвела присутствующих влажным страстным взглядом.
– Кажется, мне не придется его выправлять, – шепнула она, пробегая мимо меня. – Кажется, мне есть чему у него учиться, – шепнула, пробегая в обратную сторону.