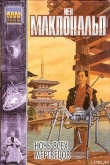Текст книги "Гитл и камень Андромеды"
Автор книги: Анна Исакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Ах, кибуц, кибуц! Волшебное место, где все знают все друг о друге и хранят старые сплетни сорок лет, не позволяя им ни забыться, ни даже выдохнуться! Ах, благословенная провинция, если б не ты, мир потерял бы память!
Помнит ли Паньоль о Песе, Мане и Соне? В его жизни столько произошло, мимо глаз промелькнуло такое количество лиц! Как можно всех запомнить?
А эти тетки в неспешном и подробном своем существовании поставили Паньоля вехой, от которой они что-то отсчитывают, с которой сверяются, вокруг которой все еще бродят на привязи, пощипывая выгоревшую траву воспоминаний. Да нет, не выгоревшую! Свежую, будто она выросла вчера. Песя не хочет помнить о том, что двое ее сыновей погибли. Но она помнит Тю-тю и обиду, нанесенную ее самолюбию сорок лет назад! Непостижимо! И как хорошо, что я захватила фотоальбом Каца. Вот и разберемся за блинчиками и ностальгическим кофе из цикория, кто там есть кто и что есть что.
А я хотела выкинуть этот кофе перед вылетом из Ленинграда! Его сунула мне в сумку подруга Маша. Сунула и извинилась за то, что другого кофе в гастрономе не нашлось. На первых порах и такой сгодится, сказала она тогда и вздохнула. Вздохнула от того, что мне больше не придется пить настой из этой сорной травы, тогда как она все так же будет охотиться за баночками с растворимым кофе фирмы «Нестле» и стоять за ними в очередях. Если я скажу ей, что хорошего растворимого кофе вообще не бывает, Маша, пожалуй, обидится. Сейчас, после всего, что со мной приключилось, нам было бы непросто понять друг дружку. А Песя и ее подружки могут не разговаривать друг с дружкой год, два и три. Но они живут рядом, переживают события совместно и, если решат помириться, никакого зияния между ними не будет.
Хорошо, что две пачки эрзаца под домашним названием «бурда», поскольку Сима не разрешала называть этот напиток благородным словом «кофе», завалились за подкладку сумки, иначе я бы выкинула их еще в Вене. А в кибуце устраивают праздник, потому что появился эрзац-кафе! Но и мама с Симой устраивали партизанские посиделки при одной свече со стаканом кипятка без заварки. Назывался этот напиток «чай белая роза». К нему подавали по половине сухаря на брата, а сухари сушили специально для этой цели из ржаного хлеба. Такими сухарями теперь не торгуют, даже там, где все еще продают кофе из цикория.
Ностальгия – сильная штука. А лишения – чудесный стимул для памяти. Говорят, люди помнят минуты счастья и забывают годы горя. Не уверена. По-моему, все происходит ровно наоборот. За мгновения пронзительного восторга приходится платить годами разочарований и невзгод, которые и составляют основу жизни. О них помнят и говорят без конца, находя сладость в самом факте преодоления, в том, что выстояли, в том, как выстаивали. А минуты счастья… полно, были они или только привиделись? Эти минуты не более чем тени на стенах Платоновой пещеры, нечто вроде прорыва в тучах во время летнего ненастья. Показалось солнышко – уже хорошо, уже весело. Но там, где солнце шпарит круглый год, счастье видится как раз дождевой тучкой, проносящейся мимо.
Вот в этом все дело. Светлое воспринимается относительно темного. Что же такое ужасно плохое случилось в тридцать пятом году, если Паньоль оказался самым ярко окрашенным позитивным пятном их жизни? Это необходимо выяснить, чтобы дать опору воспоминаниям. Когда приключилось то-то и то-то, что делал Паньоль, кто был рядом с ним и где были вы? Как это все происходило?
Правда, Песю так расспрашивать не стоит. Это же не баба, а тридцать три несчастья. В котором году погиб ее первый сын?.. Нет, это было позже. Но спрашивать все равно опасно. У ее подружек не меньше бед в жизни и скелетов в шкафах, чем у нашей Песи. Правильнее сначала расспросить мужиков, у них другое отношение к жизни. Вот Гершон – он должен помнить эту Тю-тю, а значит, и Паньоля в той же связи. Песя не дает мужу забыть историю с чужой задницей. Уверена, что не Гершон, а именно она повесила картину над диваном, чтоб служила мужу уроком и постоянным напоминанием.
Плохо было то, что Гершон меня в упор не замечал. Здоровался, когда натыкался и, если пять раз в день натыкался, пять раз здоровался. И все. Кроме ответного «здравствуйте!», он, пожалуй, ничего и слышать не хотел. В цикориепитии не участвовал. Сидел в кресле и читал газету.
Трактат о пользе и вреде механической мясорубки – отступление, которого не должно быть
Читать сугубо по собственному желанию
Если бы не блины, начинка которых была создана при помощи мясорубки советского производства ГОСТ 4035, мой путь к Шмерлю мог оказаться в десять раз длиннее. А прежде проклятая мясорубка извела Симу и старинный кухонный стол, к которому мясорубку прикручивали винтом. Сделано было это чудище явно из остатков металла, шедшего на опоры мостов, и весило только чуть меньше трехлетнего слона. Мясорубка плясала, обламывая край стола, и грозила, обрушившись, покалечить Симе ноги. Кроме того, она вдруг переставала молоть или испускала фарш не из решетки, а из жерла. Рвало ее наполовину перемолотым фаршем.
Поэтому, как только появились кухонные комбайны, мясорубка была отправлена в сундук для ненужных вещей, которые могут все-таки когда-нибудь понадобиться. Порой Сима использовала ее как гнет для закваски капусты. Иногда заколачивала ею особо упрямый гвоздь. Но как же я удивилась, обнаружив старую мясорубку в моем багаже! Вернее, в ящике, в который мой бывший супруг сложил все то из нашего общего багажа, что было ему абсолютно не нужно. Вроде моих бюстгальтеров и этой вот мясорубки.
Я приписала наличие мясорубки в багаже Симиной растерянности, связанной с моим отъездом. Но, выслушав в Париже рассказ о позорном конце моего замужества, Сима сказала задумчиво:
– Почему же ты не воспользовалась мясорубкой?
В ответ на мой вопрос, какое отношение имеет мясорубка к Мишкиному безумию, Сима пожала плечами, потом рассмеялась.
– Да бог знает! Ты же ничего, кроме котлет, готовить не умеешь. Как же без мясорубки. А еще говорили, что у вас арабы заходят в дома и убивают. Я и большие ножи положила. Мало ли…
Я хотела выбросить мясорубку, но все забывала. А когда Песя завела разговор об излишках мяса на кибуцном столе и о том, что, будь у нее мясорубка, она бы уж знала, что с этими излишками делать, я решила презентовать ей наше фамильное чудовище. Господи, если бы я знала, чем это для меня обернется!
Получив в руки мясорубку, Песя пошла пихать в нее, что только на глаза попадалось. Она перемалывала излишки мяса и излишки салатов, излишки вареной картошки и излишки куриц, излишки рыбы и излишки яблок. А перемолотое заворачивала в блины. В доме установился мерзкий дух перегоревшего масла, и каждые полчаса Песя подкатывалась то ко мне, то к Гершону, то к соседкам с предложением: «Съешь блинчик!»
К кофе из цикория она подала блинчики пяти сортов: картофельные под сметаной, с яблоками под сахарной пудрой, мясные просто так, овощные под сиропом из апельсиновых корок и блины из рыбных остатков под соусом пяти островов. Я не шучу. Этот покупной соус так и называется «Соус пяти островов», и подают его к чему угодно, но ни одно кушанье от этого вкуснее не становится.
Я завопила, что рыбные блины – это кошмар! И вопила не столько из-за начинки, сколько из-за соуса: мы рассматривали альбом Каца, и соус мог оказаться стратегическим оружием. Черт его знает, из чего варят этот соус на пяти островах, но с одежды он не снимается ни одним моющим средством. Правда, Песя раздала подружкам салфетки, и Маня с Соней старательно обтирали ими пальцы, переворачивая страницы.
Я-то глядела на эти фотографии как на пятна света и тени. Ни одного знакомого лица и ни малейшего понятия – где кто и что они там делают. А Песя с подружками веселились, как барышни, играющие в фанты.
– Ну, скажи, кто это? Кто? Моник? Чепуха! Вот Моник, вот его нос и вот его рваная куртка. Собственного мужа перепутала! А может, это не случайно? Ой, как этот Стефан закружил твою голову! Сознайся, сознайся!
– А это кто? Ни за что! У Сарки никогда не было такого платья! Разве ты не помнишь, как она всегда клянчила что-нибудь надеть? Я думаю, это Рейзл, которая приезжала из Лемберга, а потом уехала назад. Говорят, она погибла в гетто.
Мне было приятно узнать собственного деда в стройном красавце, одетом как опереточный актер. Хорош, хорош! И на всех фотокарточках при позе. Впрочем, рассматривая альбом ранее, я и сама предполагала, что этот красавчик – Паньоль.
– А кто это? – спросила я, ткнув пальцем в фотографию светловолосой барышни с большими задумчивыми глазами и тонким лицом, одетую строго, но интересно и со вкусом. Это лицо постоянно возникало на картинах Шмерля не только в виде фронтального портрета, но и в игре теней, в расположении лепестков цветка и очертаниях облаков. Правда, там оно было иным, беспечно нежным, ангельским, умилительно прелестным. Вместе с тем портреты оставляли впечатление незавершенных, словно художника томила какая-то тайна, будто он всякий раз убеждался в том, что портрет не удался.
– Не знаю, – сказала Песя сухо и поднялась. – Я принесу еще блинчиков. Мне кажется, мы проголодались.
Маня и Соня переглянулись, и каждая отрицательно помотала головой, мол, не знают, кто это такая. Но глаза у обеих были лживые. Кофепитие расстроилось. Песины подружки куда-то заторопились, а Песя ушла вслед за ними, унося с собой полную миску блинчиков.
Я вышла на террасу. Значит, эта женщина и есть Тю-тю? Что же могло заставить элегантную красавицу спать с кем ни попадя и позировать нагишом? Экстравагантность? Вряд ли. А о Шмерле никто ничего не знал. Правда, при рассматривании альбома всплыла еще одна неожиданность: у Паньоля появился брат. Я никогда о нем не слышала, Соня о нем не рассказывала, Паньоль – тоже. Разглядеть его как следует нельзя было – на всех фотографиях он оказывался в тени, на заднем плане или в углу. Странное существо, совершенно не ложащееся на фотографическую эмульсию. Все лица четкие, а его лицо – обязательно расплывшееся, я бы даже сказала, растаявшее.
Песя и ее подружки утверждали, что брата звали Марек, что он был тихий и что Паньоль защищал его, как лев ягненка. Марек всегда был при брате, обычно молчал, и вообще был немножко… того, тю-тю. У него даже были пейсы, он их закладывал за уши. Говорили, что этот Марек учился в ешиве. И что Пиня забрал его оттуда и привез сюда. Привез в кибуц, чтобы он отвык от своего бога. Рисовал ли он? Нет, этого кибуцницы не помнили. Сидел в уголке и улыбался, как дурачок. Что с ним стало? Кто его знает? Пропал вслед за Паньолем.
Судя по часам, вечер еще только наступал, но вокруг уже дышала влажная ночь. День был жаркий, или, как тут говорят, хамсинный. Хамсин – это жара, которую пригоняет ветер с Аравийского полуострова, она не рассеивается и не проходит, а ломается. Разом задувает холодный ветерок, что-то в природе щелкает, словно невидимые пальцы на столь же невидимом пульте передвигают рычажок, и становится легче дышать. Высыхает пот, успокаиваются нервы, проходит ломота в костях. Мир становится терпимым, порой даже прекрасным.
Но хамсин не ломался, да этот день и не был хамсинным. Просто жара в начале весны, явление обычное. В горах жара напрямую зависит от солнца – солнце спрячется, и становится прохладно. А тут, в низине, жара застывает, как жир на сковородке. Так и будет стоять всю ночь – влажная, как в парилке, душная, вобравшая в себя все запахи и не имеющая возможности перебросить их ветру. Пахнет травой, мятой, гарью, асфальтом, жасмином и еще чем-то едким и неприятным.
Жара не может отдать ветру запахи, а тело не знает, куда девать пот. Он течет из всех пор и не испаряется. Одежда прилипает и становится влажным компрессом. Сейчас бы под душ, но в Песином доме строгие порядки: в душ идут перед сном, а впереди еще ужин в кибуцной столовой, потом будет лекция. Я ее слушать не обязана, но сидеть в душной комнате рядом с не замечающим моего присутствия и тяжело молчащим Гершоном – хуже лекции.
– Что тебе здесь надо? – услыхала я вдруг его низкий носовой голос.
– Я мешаю?
– Нет. Я хочу понять, что ты ищешь.
– Малаха Шмерля.
– Никто тут не слышал про Малаха Шмерля.
– Но картины, которые Паньоль оставил у Каца, подписаны его именем. Паньоль говорит, что это его, Паньоля, картины, а я не верю. Эти картины писал человек, влюбленный в мир. Паньоль – другой, и мне кажется – он всегда был таким, как сейчас.
– Зачем тебе этот Малах Шмерль?
– Чтобы был, вернее, чтобы стал. Вы его заспали, не заметили, что рядом с вами бродит уникальный человек, великий художник. Никто о нем не знает. Никто ничего не помнит. Паньоль что-то скрывает и добровольно не признается. Почему? Что за тайна? Роз сказала, что картины написал Йехезкель Кац. Я ей не верю. Я видела его картины. Кац был желчный, больной, разбитый, сумасшедший человек. Он жаждал славы, но у него не было таланта.
– Хези был слабым человеком, это правда. Я его знал, – ответил из темноты гнусавый голос. – Он действительно искал славы. Но он не мнил себя великим художником. В молодости немного учился, потом подрабатывал, делая формы для какого-то литейщика. А мечтал он стать ни больше ни меньше как членом кнессета. Пытался агитировать, попался на фальшивых подписях избирателей, помешался на этом деле. И стал изгоем. И Роз эта… тоже немного помешанная. Мы все тут немного помешанные. Ты думаешь, я хотел выращивать авокадо? Нет, я мечтал стать великим писателем. Нормальные люди не убегали из своих стран и городов, от своих семей в эту глушь. А у меня была сумасшедшая мать, которая решила сделать из меня великого человека. Еще она была помешана на иврите и на воссоздании еврейского государства.
Поначалу, по приезде сюда, мы жили в Тель-Авиве. Я писал свой первый бессмертный роман, а мама работала машинисткой и платила за мои уроки скрипки и литературы. Я ходил к профессору Шарфштейну, выходцу из Германии. О, он бы сделал из меня знатока литературы, но мать нагрубила своему боссу, и деньги кончились. А мать была социалисткой. И мы пошли в кибуц. Вызвали Песю из Вильно. Жили. А в тридцать пятом году, ты же про этот год спрашиваешь, жизнь тут казалась адом и раем одновременно. Еды мало, одна пара выходных ботинок на трех друзей, зато какие мечты и какие возможности! Борьба! И каждый может стать героем.
– Ты знал Песю еще там?
– Да. Она была из очень простой семьи, но моя мама ее полюбила. Она… как бы это сказать… она очень верная, понимаешь? Надежная. Мама считала, что в Палестину можно везти только такую девушку. Все было хорошо, пока не появился Паньоль. Вокруг него всегда было весело и интересно. Споры, разговоры, атмосфера большого мира. Мы все ему слегка завидовали. А наши дамы в него влюбились. И моя Песя не избежала этого поветрия. Вокруг Пини вертелся разный люд. Но Шмерль… нет, я не помню такого имени. И не помню, чтобы Пиня так представлялся или подписывал свои работы. Как, кстати, звали его отца? Может быть, Малах? Или Шмерль?
– Не знаю. Я вообще ничего не знаю о своей семье. Мою маму отец вынес из гетто в мешке со строительным мусором. А мой дядя выдал за это своего брата немцам. Я об этом узнала недавно.
– A-а… Ну, я не знаю, как тебе помочь. Впрочем, была тут во времена Паньоля одна девушка родом из Кракова. Она была не такой, как мы все. – Да… – Гершон мотнул головой, словно отгонял воспоминание, запутавшееся в сетях памяти. – Да… Все мы были в нее немножко влюблены. Но она никому не отдавала предпочтения. Паньоль ее рисовал. Все местные художники готовы были отдать последнюю пару ботинок, чтобы она им позировала… А она одним позировала бесплатно, а другим не хотела позировать даже за деньги. Очень нуждалась, но не позировала! Она и сама рисовала. Училась в Краковской академии. Паньоль считал, что она очень талантлива.
– Они были… любовниками?
– Эстер и Пиня? Нет! Она над ним посмеивалась. Только она одна и позволяла себе смеяться над Пинхасом Брылей. Но он не был в нее влюблен. Они были друзьями. Потом она вышла замуж за… даже говорить тошно. Какой-то идиот! То ли кузнец, то ли неудавшийся механик. Кац делал формы, а этот Шлойма заливал в них металл, потом шлифовал отливки. Кац говорил, что они неплохо зарабатывают. Это случилось, когда… а, да что уж! Ты же знаешь эту историю! Песя отдала тебе картину. Вышел шум, крик, даже визг. Все напали на бедную Эстерку, и она сбежала замуж.
– Она жива?
– Да. Живет в Ришоне. Адреса я не знаю. Мы больше не встречались. Но я не раз видел ее вместе с Роз. Шли по улице и смеялись.
Я представила себе сумрачного Гершона, застывшего за деревом и вывернутого наизнанку встречей с дамой сердца, оглушенного ее непереносимым смехом. Наверное он не раз подглядывал за своей Эстеркой, искал ее на улицах, крутился возле ее дома.
Я пошла за альбомом. Гершон взглянул мельком на фотографию, положившую конец кофепитию с блинчиками, и утвердительно кивнул.
– Это она. Найди ее. Она знала всех художников. И знала Пиню. Она тебе поможет. Если захочет, конечно. Эстерка, она такая. Одним отдаст всю себя, другим не позволит даже подступиться.
В его словах послышалась разбавленная горечь, словно разболелась старая мозоль. Это ж надо! Люди потеряли двух сыновей и сумели стереть их из памяти, Песя – целиком, а Гершон – в той степени, какая позволяет жить дальше, не ощущая ежедневно пустоты и потери. Но забыть любовную историю сорокалетней давности ни один из них не смог. Одна не простила измену, которая не произошла, другой – того, что она не произошла.
Я предполагала провести у Песи неделю. Ее подружек следовало расспрашивать наедине, не торопясь, начав издалека. И постепенно перейти к именам и лицам, которые всплывут в разговорах. Песины подружки настроены против Эстерке, но, возможно, другие кибуцницы с ней встречаются и знают, где она живет и как фамилия ее мужа, кузнеца Шлойме.
Но тем же вечером произошло неожиданное: Песя вернулась с лекции, как сказала бы Сима, «накрученная». Кто ее там «накрутил», я не знала, да и много ли надо? Песя заводится с пол-оборота, достаточно одного косого взгляда, чтобы вся муть, скопившаяся в этой душе, закипела и забулькала.
Увидев меня в шезлонге на крыльце, Песя прошла мимо, принципиально отвернув голову. Я вошла за ней в дом и готова была съесть еще один блинчик, чтобы разрядить атмосферу. Но на сей раз Песя не предложила мне даже блинов.
– Что случилось? – спросила я осторожно.
– Идем во двор, поговорим! – Тон был воинственный. – Ну, ну! – хмуро сказала Песя и оглядела меня так, словно я прячу в кармане слямзенные с ее стола серебряные ложечки. – Говорят, ты обокрала не только Хези, но и Кароля, который вытащил тебя из грязи!
Кровь бросилась мне в лицо. Песя не выбирает выражений, но такую гадость она бы сама не придумала.
– Что тебе наврали и кто это сделал? – спросила я резко.
– Почему же наврали? Абка теперь работает в штабе Кароля. Он приехал, сидит в столовой. Узнал, что ты у нас, и не захотел даже зайти. Весь штаб знает, как ты забрала у Кароля галерею.
– Как я это сделала?
– Шантажом!
– И чем же я Кароля шантажировала?
– Кто тебя знает? У тебя голова – три тома Талмуда, и все – хитрость! Абка сказал, что ты была готова дать за мою картину тысячу долларов, а мне ты дала несколько куколок!
– Ты сама не хотела ее продавать. И Кароль сам просил меня взять его галерею, потому что в биографии кандидата в мэры не должно быть таких зацепок. Я заставлю его рассказать своим бандитам, как все было. Уж поверь мне, я заставлю его заткнуть грязные рты, будь то рот твоего Абки или его дружков.
– Это у моего Абки грязный рот?!
– Как и у тебя. А я пошла! И можешь прислать Абку за своей картиной.
– И куда же ты пойдешь ночью?
– Это тебя не касается! Лишь бы не дышать с тобой одним воздухом!
– А я не хочу забирать картину! Отдай мне тысячу долларов.
– Для того чтобы продать эту картину за такие деньги, надо сильно постараться. А стараться для тебя я не собираюсь. Продавай сама.
– Нет, ты украла мою картину, так верни деньги!
– Я возвращаю якобы украденное. Денег я у тебя не брала. А куколок можешь оставить себе. Кстати, привет тебе от Хайки, с которой ты училась в школе. Она тебя помнит и предупредила меня, чтобы я к тебе близко не подходила.
Песя явно растерялась.
– Я постелю тебе на террасе, – сказала она, помявшись. – Нехорошо, если будут говорить, что я среди ночи выкинула человека на улицу.
– О тебе и не такое говорят. А я не собираюсь оставаться ни на час!
– Тогда подожди, пока я помою мясорубку.
– И ее оставь себе. Вы нашли друг друга. Но запомни – если будешь распространять про меня такие слухи, я заставлю Кароля выгнать твоего Абку вон! За это вранье он у меня разгонит весь свой штаб! Я его шантажировала! Это ж надо! Ах, сволочь!
Только сейчас до меня дошло, что про якобы шантаж рассказал своим людям сам Кароль. И что он мне эту историю с галереей не простит. Вот пройдут выборы, а потом настанет час расплаты. Найдут ли у меня подброшенный людьми Кароля маковый сап или еще что, но мне несдобровать. Ну что ж! Славно, что Абка проболтался Песе, а Песя мне. Что делать дальше, я пока не знала, но бой придется давать и на этом фронте. Господи, что за наваждение такое!
А на что я рассчитывала, связавшись с Каролем? На добрую волю черного подполковника? На его порядочность? Это при той славе, которая за ним идет? Нет уж, действовать необходимо немедленно, пока выборы и пока я могу пригрозить раскрыть некоторые секреты. Это же надо! На человеке клейма негде ставить, его из армии убрали куда подальше, чтобы не пострадала честь мундира, но обвинят все равно не его, а меня. Потому что он родился в Биньямине, а я черт-те где, потому что он – местный герой, а я – галутная козявка.
И тут я вдруг не только поняла, но и почувствовала на своей шкуре, чем стала для моей мамы Сима в белорусских лесах. Спасением, скалой, завесой от дурного мира и залогом если не свободы, то какой-никакой справедливости. Спасением, от которого часто хотелось бежать, но к которому приходилось всякий раз добровольно возвращаться. Мне не хотелось попадать в такую же зависимость к Шуке, но выхода не было. Без его помощи мне с Каролем не справиться.
Кибуц остался позади, тащиться дальше не было сил, и я решила заночевать под каким-нибудь деревом. Шмерль, наверно, часто так делал. У него есть три ночных пейзажа. А его самого ни на одной из этих картин нет. Есть какое-то смазанное пятно, словно воронка, и не обязательно в центре картины. Но перспектива – всегда из нее! А вокруг – смятенное дерево, обычно апельсиновое. Эстерка, то грустная, то испуганная, то задумчивая, то гневная. И какой-то юноша в тени. Значит, автор? Кто же тогда глядит из этой воронки? И почему вокруг дерева и влюбленных забор из оранжевых полос? Оранжевые апельсины в темной зелени, желтые луны в фиолетовом небе и перекрещивающиеся по углам картины огненные штрихи – это, конечно, красиво, но должен быть и смысл.
Я вдохнула цитрусовый аромат, пристроила голову на сумке, легла на бок и вдруг поняла: Шмерль писал изгнание из рая! Лучи вокруг – это огненный меч, который не пускает назад, в кущи. Хлещет по периметру, рассекает все, что движется. Потому и апельсины такие кривые, мазок крученый, листва ходит волнами, лун – где три, где пять, и рыжий пес задирает к ним голову, но не воет. Он пошел за хозяином добровольно, и вот принюхивается и присматривается. Не зря эти три картинки вызывают у меня чувство смертной тоски, приглушенной смутным обещанием, что все еще устроится и наладится.
Из какого же рая выгнали нашего художника? Из кибуцного? Или семейного? И черт бы побрал здешних муравчиков, они хуже Песи. А Хайка Цукер, когда я ей сказала про Песю, действительно нахмурилась и сказала:
– В моем классе была только одна Песя, и если это та же Песя, старайся пройти мимо и не наступить.
– Разве ты училась в гимназии? – спросила я.
– Это была не гимназия, а ОРТ[9]. Нас учили шить и ивриту тоже. Многому учили. Школа была хорошая. В нее было нелегко попасть.
– Тогда почему ты стала базарной торговкой?
– Кем еще я могла оказаться? Портнихой в ателье? А чем ателье лучше, чем базар? Цукер стал хорошим семьянином и занялся канализацией много позже. Я вышла замуж за хосида, детка, а хосид хочет хорошо есть и много пить. Еще он хочет, чтобы у него в голове небо каждую минуту соединялось с землей. И хочет учить Тору. А советская власть этого не любит. И он отсидел восемь лет от звонка до звонка. А мне нужно было кормить троих детей. Базар давал такую возможность, а ателье – нет. В ателье я сидела бы, не открывая рта, как испуганная курица. Шутка ли – жена лагерника! А базару – какая разница?
Уже засыпая, я подумала, что при взгляде на лицо Эстерке мне каждый раз почему-то вспоминаются Цукеры. Но связи не было и быть не могло. А Песя! Черт бы ее подрал! Дрянь какая! Змея подколодная! Да нет, просто скандальная дура, несчастная баба с запутавшимися мозгами. Абка, скорее всего, не приедет за картинкой.
Одно вам скажу: засыпать под апельсином не так страшно, как просыпаться. Может быть, я и перекрыла своим телом муравчикам их главное шоссе, но они могли пойти в обход, не так уж я огромна. А эти ниндзи пытались меня загрызть. Даже Гулливер не смог бы похвастать таким количеством зудящих и пылающих болевых точек. От муравьиного яда я вся опухла. Оказалось, что в темноте я недалеко ушла и от нашего, человеческого, шоссе. Только поднялась на пригорок и тут же оказалась на обочине. Пыльный «Форд» остановился по первому взмаху моей руки. Неужели я выгляжу как существо, нуждающееся в скорой помощи?
– Сколько берешь? – спросил у меня жилистый потный мужичок лет пятидесяти.
– За что?
Он ухмыльнулся и сделал непонятное телодвижение.
– Мне надо в Ришон, желательно на автобусную станцию. Подвезешь?
– Это в другую сторону, – ответил мужичок, и в его голосе прозвучало удивление.
– Ну извини.
Я вылезла, мужичок поехал дальше, а я пересекла шоссе и снова подняла руку.
Опять подъехал тот же пыльный «Форд». Сплю я, что ли?!
– Садись! – велел мужичок. – Можно и в Ришон. Есть дело.
Он косился на меня минут десять, потом спросил:
– Так ты не проститутка?
Вопрос интересный, а в моем положении – даже заковыристый, потому что муравчик укусил и в левое веко тоже. Веко распухло, и разглядеть мужичка краем глаза было невозможно. Пришлось повернуться всем телом. Мужичок как мужичок, в мятой рубашке и с усами.
– Нет. Не проститутка. Это меня муравьи покусали.
– А что ты тут на плантации делала?
– Спала. Ушла ночью из Яд-Маньи, заблудилась и заснула под апельсиновым деревом. А почему ты решил, что я проститутка?
– На этой плантации водятся проститутки. Приезжают целыми шайками и ловят тут клиентов.
– Не знаю. Тихо было. Ничего такого не слышала.
– Ну извини, – смущенно пробормотал мужичок. – А что ты делала в Манье?
– Навещала знакомую, поссорилась с ней и решила идти пешком до шоссе.
– Они вредные, эти из Маньи. У них стакана воды не допросишься.
– А ты откуда?
– Из Нес-Ционы.
– Давно?
– Всегда.
– И сколько же лет было тебе в тридцать пятом году?
– Десять, а что?
– Я ищу знакомых деда. Имя Малах Шмерль тебе что-нибудь говорит?
Мужичок подумал и отрицательно помотал головой. Потом вздохнул и сказал с обидой:
– Жалко, что ты не проститутка.
Дальше мы ехали в полном молчании, благо ехали быстро и приехали скоро.
Первое дело – купить спирта, ваты и обтереть лицо. Нет, лучше, пожалуй, куплю лосьона. Если попрошу в аптеке спирт, решат, что я еще и пьяница.
– Что с тобой случилось? – спросила аптекарша.
– Муравчики покусали.
– Это кто?
– Ну, маленькие такие, черные, не знаю, как они называются на иврите.
– Блохи?
– Нет. Они еще выпускают кислоту.
– Скорпионы?
– Нет. Они еще строят такие кучи. Я легла на их шоссе.
– A-а! Муравьи. Помажь цинковой болтушкой. Она снимает зуд.
Физиономия человека, искусанная муравчиками, вымазанная цинковой болтушкой и наполовину спрятанная под широкополую соломенную шляпу с маками и колокольчиками, выглядит устрашающе, но – делать нечего, и я отправилась в этом виде навещать Роз.
Закрыто. Ни объявления, ни извинения. Просто закрыто, и даже жалюзи не спущены. Полдневное солнце безжалостно сжигает лилово-розово-фиолетовый флер в витрине, обесцвечивает цветную соломку и бабочек. Все они жухнут и тухнут на глазах. Непорядок. Роз опускает жалюзи даже на время обеденного перерыва.
– Говорят, ее опять отвезли в больницу, – охотно сообщил мне хозяин соседней лавки, предлагающей путникам сигареты и сладости. – Никто не знает, в какую больницу она ложится. Это секрет. Мы думаем, она тю-тю, – мужчина покрутил рукой у виска. Жест был необычный: он крутил не указательным пальцем, а сложенной ладонью, словно вкручивал отверткой винтик. И не успокоился, пока винтик не вошел в череп по самую шляпку. – Так что ищи ее в дурдоме, каком – не знаю.
– А какая у нее фамилия?
– Что-то на «ш», «Шмерль» по-моему. Эзра! – заорал он. – Как фамилия этой сумасшедшей торговки шляпами?
– Шмерль, – буркнул Эзра, не поднимая глаз от мотороллера, в моторе которого копался.
Шмерль? Как – Шмерль? Я же у нее спрашивала! Гершон прав, они все тут сумасшедшие.
В предвыборном штабе Кароля меня допустили к телефону. Наверное, шептались за спиной, ну и черт с ними. Этим мы займемся чуть позже. Любезная секретарша даже выписала для меня номера телефонов близлежащих дурдомов и ближайшей общей больницы имени какого-то Каплана. «Иногда везут в Асаф га-рофе», – пробормотала она осторожно. Я взяла телефон и этого заведения. Но ни в одном из лечебных учреждений Роз Шмерль не числилась.
Добравшись до дому, я обзвонила все остальные больницы и дурдома. Роз пропала без вести. Пришлось идти к Каролю. По его приказу с того дня весь предвыборный штаб следил за шляпной лавкой на центральной автобусной станции, и каждое утро я выслушивала очередной доклад: лавка закрыта, и жалюзи не спущены.
Попытка выяснить домашний адрес Роз успехом не увенчалась. Почту она получала на адрес лавки, его же дала мэрии и больничной кассе. Возможно, она и впрямь в этой лавке и жила, там есть задняя комнатка. Но требование взломать лавку мэрия отвергла. Вот если бы соседи пожаловались на трупный запах…
Ребята Кароля выехали на место и принюхивались втроем. Трупный запах отсутствовал. Роз Шмерль испарилась, не оставив вещественного следа. А меня занимал вопрос: могла ли она сама быть Малахом Шмерлем? Малах – это на иврите «ангел». Вполне подходит для псевдонима.
Роз с ее шляпками и неистребимой любовью к Паньолю. Выдумщица и фантазерка, злобная и мудрая, упрямая и хитрая, некогда похожая на крепкое райское яблочко, но со временем потерявшая вкус и цвет, как сухофрукт, залежавшийся в вазе… Нет, картины говорили от имени совсем иного персонажа. Этим персонажем Роз не была даже тогда, когда каждая клеточка ее тела полнилась сладким, но вязким соком. Художник не может вложить в картины то, чего в нем самом нет. Что ж! Видно, осталось прижать Паньоля. Но раньше следовало прижать Кароля Гуэту. Или сматываться из Яффы ко всем чертям, пока кости целы.