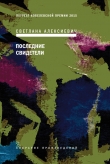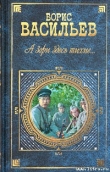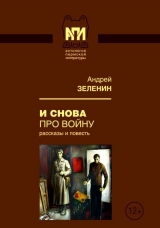
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)

ШЁЛ МАЛЬЧИШКА НА ВОЙНУ…
Рассказ
Старики любят поговорить. Особенно женщины. Особенно когда есть время – в дороге или в ожидании.
…Электричка шла из Чусового в Пермь. Я возвращался домой. Сел в самом Чусовом, на следующей остановке подсела старушка и ни с того ни с сего начала рассказывать…
Нас, когда война началась, в тыл эвакуировали. Повезло – отец в райисполкоме работал, и все семьи ответственных работников посадили на поезд. Маму, меня и младшего брата тоже посадили.
Я сперва радовалась: на поезде поедем – будем в окно смотреть, на станциях выходить, по перрону гулять. А ещё проводница будет спрашивать: «Вам чай не надо?»
Когда мы шли к вокзалу, на город налетели немецкие самолёты. И все растерялись: головы вверх задрали и стояли, смотрели, как на нас какие-то точки падают.
Гул стоял и свист.
Потом одна точка, первая, упала на дом в начале улицы. Дом был двухэтажный, кирпичный. Когда бомбёжка закончилась, я на него посмотрела – его не было, только куча кирпичей, досок каких-то и тряпок.
Точки падали на землю, и она вздрагивала. Гул и свист исчезли – в грохоте. В страшном грохоте. Это рвались бомбы.
Я упала и кричала. И мама упала – на Владилена. Она тоже кричала. А ещё кричала тётя Злата – жена папиного сотрудника. У неё почему-то было только полторы руки: левая и половина правой, и всё платье было красным и чёрным, хотя сначала оно было голубым.
В поезде мама сказала, что тёте Злате оторвало руку осколком бомбы.
А жену райисполкомовского бухгалтера не нашли. В неё не осколок попал, а вся бомба, и там, где она стояла, осталась только глубокая яма – воронка. А Женька, их сын, уцелел, его только по ноге чем-то сильно ударило, и он хромал, и по голове, он две недели говорить не мог, – мама взяла его с нами, потому что он один боялся.
На вокзале нас посадили в товарный вагон. Окон в нём не было. И людей оказалось так много, что даже пришлось выбрасывать вещи, которые мы взяли в дорогу: одежду, обувь, книги – мама оставила только еду и фотоальбом, его она выбросить не смогла.
Другие тоже выбрасывали вещи и плакали.
В поезд успели сесть не все – паровоз вдруг дал гудок и тронулся с места.
Где-то рядом что-то бухало, ухало и трещало.
Оказалось, в город и на станцию ворвались немцы. Бухали танковые пушки, ухали снаряды, а трещали автоматы и пулемёты.
Если бы машинист задержался на одну минуту, мы не смогли бы уехать.
Но мы уехали.
Очень хотелось пить, а воды ни у кого не оказалось. Мама сказала, что на следующей станции поезд остановится, и мы сможем набрать воды.
Однако нам не повезло. Точнее, повезло и очень здорово, потому что следующая станция оказалась занятой фашистами, и машинист паровоза не сбавил ход.
В приоткрытую дверь вагона я видела чужие лица, мимо меня промелькнули тяжёлые машины, пушки, пулемёты…
Немцы не ожидали нашего появления и спохватились слишком поздно – стрелять они стали по последним вагонам и те загорелись. Я слышала крики: мужских голосов не было, были только детские и женские. Фашисты тоже – наверняка тоже! – слышали, что в вагонах нет солдат, но продолжали стрелять…
Поезд остановился в лесу. Кто-то крикнул, что надо выходить и дальше идти пешком.
От последних вагонов тянуло гарью и запахом убежавшего супа – так пахнет мясо, когда пригорает ко дну кастрюли. Однажды я решила сварить суп – порадовать маму, ушедшую на рынок, – и проворонила: заигралась с Владиленом; суп выкипел, мясо сгорело. Этот запах держался в нашей квартире целый день! Тогда…
Мама закрывала глаза Владилену, сидящему у неё на левой руке, и тянула правой рукой Женьку; тот смотрел прямо перед собой и еле передвигал ноги. Мешок с едой и фотоальбом несла я. И я могла видеть и видела, как огонь поедает людей, не успевших выпрыгнуть или просто убитых фашистами – в тех вагонах. В последних вагонах.
В лесу люди разделились. Одни пошли назад – их было немного.
Другие – большинство – решили: на восток. И – тоже разделились. Одни двинулись за машинистом и кочегаром с паровоза. Другие – за женщиной, которая сказала, что она учительница географии и хранит в памяти карту местности, по которой нам предстоит пройти.
Мы шли очень долго, обходя все деревни, попадавшиеся на пути. Однажды забрели в болото, и некоторые хотели утопить учительницу за то, что она завела нас на погибель. В болоте утонули двое детей. А ещё умерла тётя Злата – у неё почернел остаток руки, и она сама почернела и не смогла идти.
А потом нас встретил лесник. Он накормил нас настоящим хлебом! Хлеба было по чуть-чуть, мне достался кусочек, который уместился на моей ладошке. По столько же досталось Владилену, Женьке и другим ребятам. Взрослым хлеба не досталось.
Лесник сказал, что мы правильно сделали, что пошли через болото. Оказалось, другую группу с нашего поезда поймали фашисты, они расстреляли машиниста с кочегаром, а всех женщин и детей отправили разминировать дорогу и поле. Люди шли по дороге и полю и взрывались: один, другой, третий, – погибли все. Подорвавшихся и раненых фашисты раздавили танками.
Нам повезло. Лесник указал нам дорогу к большой реке, сказал, где найти лодку. И мы переправились к своим. И нас отправили дальше в тыл.
Сначала мы шли пешком, затем ехали на подводе. Потом какой-то военный начальник распорядился отправить нас на железную дорогу. Мама говорила, что нас повезут через Москву.
Москва была нашей.
– И никогда не будет чужой! – убеждённо говорила учительница географии. – И Ленинград всегда будет нашим! И то, что заняли фашисты, мы отберём у них, и сами придём в их Берлин!
…Осенью мы были под самой Москвой. Но не в самой столице. Немного не добрались. Нас высадили из теплушки, провели в здание вокзала и велели ждать, – поезд забрали военные для перевозки снарядов. Никто не спорил, не ругался – все очень устали и замёрзли, потому что тёплой одежды ни у кого не было, ведь из дома мы уехали летом, и чтобы уехать, все вещи, в том числе одежду, нам пришлось выбросить.
На улице было очень холодно, а на вокзале – тепло, там топилось сразу несколько печей. Неведомое блаженство разливалось по телу. Хотелось спать. А ещё: пить. Но воды на вокзале не было, вода – колонка – была на улице.
– Потерпите немного, – просила мама. – Может, принесут.
Но, если и приносили, то мало, и только для себя, для своих, чужим, то есть нам, не хватало.
Владилен был мал, Женька по-прежнему ходил плохо – хромал. Мама жалела и меня, хотела пойти по воду сама, но и оставить мальчишек со мной не могла: восемь моих лет – не тот возраст. И тогда я смогла убедить маму, что по воду отправлюсь я.
В маминых глазах стояли слёзы, когда она обвязывала меня своим платком:
– Немножко теплее будет.
Платок маме – лёгкий, шёлковый, с дивными нарисованными птицами – дарил отец.
А под воду у нас была стеклянная бутылка.
Я вышла на улицу и бегом кинулась туда, где, мне сказали, стояла колонка. И не добежала. Дорогу мне преградили трое пацанов – выше и старше меня.
– Беженка! – оглядев меня с ног до головы, сказал один, видимо главный. – И чё с тебя взять? – Он взялся за мамин платок. – Скидывай! Что твоим было, то нашим будет.
– Нет! – мотнула я головой. – Не надо!
– Надо! – спокойно сказал пацан. – А если не сама, то ведь и… – Он недоговорил, сунул руку в карман штанов и достал ножик; в свете одинокого фонаря блеснуло лезвие. – Ну!
В следующее мгновение он уже лежал на земле. И ещё один пацан корчился, схватившись за живот. Третий убегал, громко топая каблуками ботинок по мёрзлой земле.
– Испугалась? – мой спаситель встряхнул меня за плечи. – Живая?
– Я тебе припомню! – простонал пацан с ножиком; впрочем, ножа у него уже не было.
– Этим что ли? – мальчишка, стоящий рядом со мной взмахнул отнятым, и пацаны тут же кинулись бежать – вдогон за своим дружком, сбежавшим ранее.
– Не бойся! – сказал мальчишка. – Это – дураки. Они всегда были и будут, если их в кулаке не держать. А мы их возьмём и сожмём! И фашистов – тоже! Это ещё те сволочи!
– Знаю, – выдохнула я и задрожала – и от холода и от пережитого страха.
– Ух! – тут же озадачился мальчишка и, не раздумывая, расстегнул своё пальто, снял его, стянул с себя свитер и бросил мне. – Одевайся, пока совсем не околела! – Пальто он оставил себе. – Вот так!
Уговаривать дважды меня не пришлось.
Свитер был до колен – тёплый. А у мальчишки с собой оказалась ещё фляжка, поэтому воды мы принесли много – хватило всем: и Владилену с Женькой, и мне с мамой.
Он потом ещё раз сходил на колонку и разогрел фляжку на печке – не кипяток, конечно, получился, но так приятно было пить тёплое!
Мама с ребятами задремали. Мы с мальчишкой принялись шептаться.
Что он нашёл во мне, восьмилетке?! Девчонку, которой требуется его защита?
Ему было двенадцать. Старая шапка-ушанка, старенькое же, потрёпанное пальтишко… Штаны, перешитые из больших, военных… И крепкие – новенькие – ботинки.
Он сбежал из дома. На фронт. К отцу.
Отец командовал полком. Отступал от границы. Был ранен, но остался жив. Продолжал сражаться.
– А если домой погонит, я к другим прибьюсь, – говорил мальчишка. – Скажу, что сирота. Сироту не бросят. А стрелять я умею. Из винтовки, из пистолета. Даже из пулемёта, правда, ручного. «Максима» мне отец не доверил.
А потом он читал мне стихи.
Мой отец читал мне Маяковского – громко, хлёстко; Маяковский ему нравился.
А мальчишка читал другое. Мягко, напевно. Сначала про девчонку из третьего подъезда, как она скачет, играя в классики, а её косички взлетают и падают на её спину. Затем – про учителя, который учит истории, учит, что русских людей не победить. Потом он сделал паузу и начал рубить. Словами. Свистящим шёпотом:
– Шёл! Мальчишка! На войну!
За! Советскую! Страну!..
В стихотворении было несколько четверостиший. Они буквально пронзили моё маленькое сердце, потому что говорили о том, что видела и пережила я! Бомбёжки, смерть людей, страх и гнев, и торжество победы – вот что было в рифмованных строчках! Может быть, с точки зрения профессионального поэта они были несовершенны, но тогда! Тогда я крепко сжала руку мальчишки и… даже не поняла, что засыпаю – просто уснула, и всё.
Мне снилось лето, мне снился отец, мне снились конфеты.
А проснулась я от женского крика. Пронзительного крика, перешедшего в истошный вопль множества женщин. Вопль этот, пометавшись под потолком вокзала, стих и тогда я увидела…
Ночью мальчишка снова ушёл за водой. В руке его была фляжка.
Вернувшись, он не смог добраться до места, где спали мы с мамой – люди разметались кто где и как мог, весь пол казался живым, был покрыт спящими. Мальчишка устроился неподалёку от входа и тоже уснул.
Он так и остался лежать – раскинув руки: шапка, пальто, штаны и… худые носки. Ботинок – крепких, новеньких ботинок – на его ногах не было. Убийца или убийцы позарились только на них. Эти ботинки на чёрном рынке можно было обменять на хлеб.
Если бы я запомнила его стихи! Если бы я спросила его имя!
Не запомнила, не спросила.
Ни о чём в жизни не жалею, а об этом… Сердце сжимает, и такое бессилье берёт! Сколько бы мог он совершить в жизни хорошего! А он ушёл.
На войну.
Там и погиб.
А мне осталась целая жизнь да эти строчки:
«Шёл мальчишка на войну
За Советскую страну…»

МАМКИН ВАСИЛЁК
Повесть
1
Я видел этого человека несколько лет назад.
Был канун настоящего праздника. В Москву съезжались ветераны Великой Отечественной войны. Перрон железнодорожного вокзала был полон печального звона. Медали и ордена на пиджаках стариков и пожилых женщин будто плакали. А кому-то казалось, нужно радоваться.
Человек был одет в строгий костюм европейского покроя. И сам – оттуда. Это было заметно – не наш, не из России.
Седые волосы, седая бородка – всё аккуратно. Всё чересчур аккуратно.
На его лице, человека лет шестидесяти, почти не было заметно эмоций.
Эмоции были у тех, кто из вагонов поезда выходил на перрон.
В руках человек держал два букета. Один большой, другой поменьше. В одном были гвоздики, в другом – розы.
– Ich bin deutscher![25]25
– Я – немец!
[Закрыть] – говорил он по-немецки и переходил на русский язык. – Я – немец. – И извинялся: – Простите! – И поздравлял: – С праздником!
Из большого букета немец доставал гвоздики и дарил их тем, у кого на груди звенели награды.
Ветераны брали цветы. Каждый. И в глазах каждого можно было увидеть десятки чувств. К счастью, удивление пересиливало всё остальное.
Лицо человека, немца, дрогнуло только тогда, когда он увидел на перроне сгорбленную старуху в чёрном тёплом пальто. Она шла медленно, опираясь на мою руку. И на палку, которую ей очень хотелось куда-нибудь деть в тот момент – выбросить, сломать.
Старуха пыталась выпрямиться, старалась казаться стройнее, сильнее, моложе. Ещё в вагоне она накрасила губы. Помадой тёмно-вишнёвого цвета.
Лицо немца дрогнуло. Букет с гвоздиками, со всеми оставшимися цветами, он сунул какому-то старику с двумя орденами Отечественной войны на груди и порывисто шагнул к нам. Ко мне и старухе.
И я увидел слёзы в глазах этого человека.
– Guten Morgen, Mutti![26]26
– Доброе утро, мамочка!
[Закрыть] – сказал он. – Mutti![27]27
– Мамочка!
[Закрыть] – И поправился: – Мама!
Старуха зарыдала, и силы оставили её. Она стала медленно оседать на землю. То есть на перрон.
Немец подхватил старуху и, словно сумасшедший, принялся целовать.
Он целовал её голову – волосы, глаза, губы, щёки. Он держал её крепко – так, как ребёнок держит любимую игрушку и… мать.
Розы, старухина сумка – они были у меня. Я их держал, чтобы они не потерялись. Потом – отдал.
Этого человека, немца, я больше никогда не видел. Старуху – тоже.
Так бывает. В дороге.
Иногда о попутчике узнаёшь всё, абсолютно всё! Но в потрясении от узнанного забываешь спросить самое простое: имя, фамилию, место, где человек родился или жил.
А попутчику вряд ли хочется встретиться с тобой вновь. Ему вряд ли хочется заново пережить то, чем он поделился.
Бог с тем! Не это страшно…
Впрочем, имя немца я узнал.
2
Больше всего на свете Василёк любил мамины руки. Да и как их было не любить! Вот отец – приходил домой, обнимал сына, лохматил его волосы, и пахло от рук отца огнём и железом. И хорошо вроде – крепко, прочно, надёжно, – да как-то боязно при этом: ведь железо, оно тяжёлое, а огонь – жжёт!
А когда домой приходила мама, бежал к ней Василёк и падал прямо в её распахнутые ладони. И пахли мамины руки цветами полевыми – медовыми, травой луговой – тёплой от солнышка, и молоком – вкусным и сытным.
– Не-е, парень, не папкин ты. Не папкин! – каждый раз говорил председатель колхоза по такому случаю. И заключал, словно в тетрадке жирную точку ставил: – Мамкин!
Так Василька и звали: Мамкин Василёк. Без обиды звали, так, прозвищем. И старшие, и те, что поменьше: все друзья да родственники.
Друзей да родни у Василька было много – вся деревня.
Вышло так, что всей деревней родителей Василька воспитывали. Они оба в одночасье сиротами оказались. В семнадцатом году. В одна тысяча девятьсот семнадцатом.
Василёк про то время знал: богатеев из страны прогнали. Чтобы те, кто своим трудом страну строил, жить могли хорошо. А то, что ведь выходило! Человек с утра до ночи работает в поле, – пашет, сеет, жнёт – а живёт всё впроголодь. Земли-то своей мало, клочок всего, остальная – у бар да тех, кто побогаче. Они её, конечно, человеку дать могут, да за то почти весь урожай забирают! Так и не поесть толком, и одёжки путной не купить, и грамоте не выучиться. Шибко богатеи не любили, когда простые люди грамоту узнавали!
В городе так же было. На заводе людей много, а деньги все у хозяина. Что с простым человеком ни случись, ни от кого помощи не встретишь. На работе поранился или заболел – лечиться только за деньги. А как деньги кончатся, так и помирай ради Бога – хозяину какое дело, он другого работника найдёт.
Вот Земля, планета, она ведь для всех вроде? Все на ней, матушке, родились. Все друг на дружку похожи: голова, руки, ноги… А как так, что нефть да золото, да руда медная у одних только, да не у тех, кто их добывает? А реки, леса с полями? Кто на них трудится? Тысячи людей да больше! А жиреют с того – один-два, да оба палец о палец не ударили!
Люди работящие и не удержались. Собрались вместе и!.. Мол, хотим так: от каждого по способности, каждому по труду. В деревнях помещиков прогонять стали, землю всем поровну делили: хочешь работать – трудись! В городах на заводах-фабриках тоже по-честному пошло. И про тех, кто калеками остался или болен, не забыли, помогли – они ведь тоже люди!
А богатеи: нет! Нам лучше по-прежнему: нам – всё, а остальные пусть на нас работают и наук не знают, а то слишком грамотные стали. И – войной пошли! На простых-то людей.
В деревне, где родители Василька жили, беда случилась.
Помещика прогнали, землю между крестьянами поделили, а помещик назад вернулся, да с войском.
У Василькова отца семья на одном краю деревни жила, у мамки – на другом. И отец Василька и мамка тогда под стол пешком ходили, да кто бы их пожалел!
Солдат да казаков хозяин-помещик в деревню с двух сторон послал, чтобы из крестьян никто дорогой спастись не смог, за помощью не сбежал.
Казаки да солдаты лютые, будто за своё людей взяли:
– Землю у хозяина забрал?
– Поделили, как положено.
– Ах, положено?
И давай! Кого из винтовки пулей, кого шашкой-саблей. Две семьи за ради страха погубили напрочь. С одного конца деревни десять душ, да с другого – одиннадцать.
Отец Василька как жив остался? Мать его как раз у колодца была, по воду пошла. Помещика с казаками увидала – как догадалась? – сына в ведро сунула. Да в колодец! Спустила, будто и не было самого малого. Там у колодца её саблей и зарубили. И семью всю под корень извели: старика со старухой, мужа да детей шестерых – на всех рука поднялась.
Дом, где мама Василька жила, солдаты сожгли. Хозяев – постреляли, у огня оставили. Офицеры ходили, добивали – из револьверов в головы стреляли. Нелюди!
На другой день рабочий отряд из города на фронт шёл, с белогвардейцами сражаться, – отбили деревню: помещика поймали – повесили, войско его, кто сбежать сумел – спасся, остальных, как скот в яму на пепелище скидали да землёй забросали.
Семьи крестьянские, помещиком загубленные, похоронить по-людски собрались. А тела обмывать стали – глянь! – девчонка-то жива!
Вот радости было!
– От страха сомлела, как неживая стала! – бабы говорили, руками плескали, слёзы утирали – кто платком, кто так, ладонями.
Одной пулей маме Василька ногу поранили, а вторая – офицеры пьяные были – только кожу с виска сорвала: крови много вышло, да не вся.
Отца Василька когда нашли, испугались. Тоже ровно неживой был – холодный весь; два дня в ведре – в колодце – пробыл, но… Пошла баба за водой, вытащила, да в крик!
– Жить хотел, то и выжил! – уже потом кто-то из мужиков сказал.
На сходе деревенском решили: сирот не бросать: пока не вырастут, кормить-одевать всем по очереди.
Так и жили. Хоть каждому тяжко было, и хлеба не хватало, и тепла, а малые по одной неделе у одних грелись, другую – у вторых, третью – у третьих.
Как семь-восемь стукнуло, своим хозяйством стали ко взрослой жизни приноровляться. Один-то дом остался, хоть и пустой, а жить можно.
Мама Василька хроменькая, да умница – всему бабы научили: и за скотом следить, и обеды готовить, и в поле работать.
Отец Василька тоже с головой парень оказался. И силушкой бог не обидел; сперва в кузню общественную в помощь напросился – сам! А там, кузнец заболел, руку сухоткой взяло – отнялась – за главного остался. С четырнадцати лет с любым железом справлялся: хоть коня подковать, хоть инструмент справить. Золото, а не парень!
Когда в деревне общее хозяйство создать порешили, колхоз иначе, мама с отцом Василька первыми туда пошли. Отец – кузнецом, мать – дояркой. А что? Сообща любое дело дружнее ладится: и быстро, и справно.
Сообща, всем колхозом через срок и свадьбу справили. К этому делу жизнь больше подвела, чем любовь какая-нибудь. Хотя и без неё не обошлось.
За отца посажёного председатель колхоза был, за дружков – половина деревни, за подружек – другая. Без приданого обошлись, но подарков – хватило: ткани – жениху на костюм и невесте на платье, одеяло, подушки. Из посуды нанесли всякого, курочек пару, от колхоза – тёлочку. Из района начальник приезжал – про ударный труд кузнеца молодого и красавицы-доярочки говорил, про врагов-богатеев ругался, чтоб и на том свете им пусто было, про светлое будущее сказал, а поздравил не словом: наряд на лес выписал, чтобы дом починить, и на железо – на крышу.
Что ж после такого не жить? И работа есть, и люди добрые рядом, и дом крепкий. А из окон дома луг травяной видать. Как время придёт, так он весь в васильках.
Вот Васильком и малыша назвали, что от любви хорошей народился.
Родился Василёк первого сентября тысяча девятьсот тридцать четвёртого года. Первого сентября тысяча девятьсот сорок первого года в школу идти собирался. Учиться шибко хотел, чтобы агрономом стать. Профессия уж больно хорошая: хлеб растить, людей кормить.
Дорогу такую на всю жизнь Василёк сам выбрал. С детства раннего. «Голоштанного! – как председатель колхоза шутил, когда Василька совсем маленького вспоминал. – Без штанов ещё бегал, слов не знал, а сам – в поле: сунет зёрнышко в землю и сядет ждать, когда вырастет. А то и поливать вздумает, воду носил, чтоб скорее в колос вошло».
Так бы вот всегда: выбрал дорогу и – шагай по ней, пока не дойдёшь, куда собирался. Только… Жизнь ли так крутит, чёрт ли подворачивает, – выходишь на развилок, а то и на перекрёсток. Тут и думай: куда.
3
Проводница, тётка пожилая, возраста пенсионного, на вопрос, какое место занимать, ответила:
– Где пусто, там и садись.
По её словам выходило: можно и в тамбуре, можно и на крыше. По мыслям: где не занято, там и примащивайся.
На прямой поезд – от родной станции до Москвы – билетов мне не хватило. Взял на проходящий.
В вагоне пустовала только боковушка возле туалета. Но – повезло. Правда, сначала не поверил, долго принюхивался: ан нет, запахов – тех самых! – не было.
Проводнице – а кому же ещё?! – я сказал. От всей души:
– Спасибо!
Вагонохозяйка прошлась по своим владениям со стандартными в общем-то словами:
– Чай, кофе, постель… На здоровье!
Последнее, про постель и здоровье, относилось ко мне.
Город за окном вагона исчез как-то уж слишком быстро: дома и домики, железо моста через Каму – с холодком в груди: а вдруг с моста да прямо в реку! Затем множество путей ещё и составов, пятиэтажки, высотки, и всё. Исчез город.
Я взялся за книгу. Мог бы творить сам, тем более тетрадь с собой взял толстую и ручек – три штуки, чтобы про запас. Мог бы сам, раз уж писатель, но достал труд чужого автора – детектив приятеля. Там всё, как положено, было: оружие на обложке, нарисованное, автограф внутри и – погони, разборки, кровь опять же…. Ну и, зачитался. В смысле, стал клевать носом – задрёмывать. И вдруг! Вздрогнул!
И – соскочил с места. Сперва от страха, затем от желания бежать на помощь.
Чужой был голос, страшный. Крик. Слова русские, путаясь с иноземной речью, метались по вагону:
– Не бейте! Я не виновата! Ich arbeiten! Ich warten Kind![28]28
– Я буду работать! Я жду ребёнка!
[Закрыть]
Соседи напротив – он, она и достаточно взрослый ребёнок – заулыбались, отложив карты, а играли в подкидного, наперебой стали объяснять:
– Это тут одна во сне кричит!
– Бабулька, божий одуванчик.
– Чокнутая! – отпрыск картёжного семейства покрутил пальцем у виска.
– Мы тоже сначала так же прыгали.
– Потом привыкли.
– А меня всё равно достаёт!
Совсем рядом с нами – через одно купе – прибежавшая из своего купе проводница будила старуху. Сгорбленную седую бабку.
Та извинялась:
– Опять я вас? Прости, сердечная! Простите, люди добрые!
* * *
В Балезино, это уже в Удмуртии было, стояли долго – меняли электровоз.
Вагон опустел. Народ разминался на перроне: кто курил, кто вышагивал, поглядывая по сторонам, иные закупали нехитрую стряпню местных поварих.
Я остался на своей боковушке. Родню, что жила на узловой станции, о себе не предупреждал. От чужой стряпни закаялся давно, берёг желудок. Сидел за тетрадкой – писал рассказ. В сюжет ушёл – будто и не в этом мире оказался. Вздрогнул, когда почувствовал холод чужой руки на запястье.
Старуха сидела напротив меня. Страшная: сгорбленная, седая, на плечи накинуто чёрное неновое пальто, в руке палка-клюка.
– Не письмо ведь пишешь?
– Нет, – мотнул я головой.
– Журналист?
– Нет, – снова односложно ответствовал я.
– Писатель! – старуха оскалилась в улыбке – радовалась, что догадалась.
«Со второго раза!» – подумал я про чужую догадку. Однако на разговоры меня не тянуло, хотелось дописать начатое. Вот и выходило: старуху нужно было чем-то занять.
– У меня книжка есть. Читать будете? – из сумки я достал книгу Но не детектив приятеля – свою.
– Сказки? – удивилась старуха, глянув на обложку. – Ну-ка, ну-ка…
Она ушла в своё плацкартное купе, держа в одной руке книгу, а другой опираясь на палку. Ушла медленно-медленно, я слышал бормотанье:
– Надо же, сказки! Молодой, а сказки! Ну-ну…
Она читала долго – не тяжело, нет, а так, будто смакуя изысканное блюдо.
И, пожалуйста, не думайте, что я хвастаюсь творчеством, нет! Просто некоторым нравится.
* * *
Ещё до ночи многие пассажиры угомонились, улеглись на постели: кто-то накрылся простынкой, кто-то укутался одеяльцем.
Собрался на боковую и я. Тем более что по проторённой дорожке в сторону тамбура перестали шаркать подошвами тапочек и цокать каблуками туфель.
Старуха вновь подошла неожиданно. Подошла, опираясь на палку-клюку, протянула мою книгу:
– Молодец. Давно пишешь?
Я пожал плечами: как сказать, назвать количество лет или год, с которого занялся творческой деятельностью?
Старуха расценила это по-своему:
– Всю жизнь, значит. От родителей?
– Мама – медик, фельдшер, – непонятно почему, но я стал говорить о родителях. – Отец – рабочий, на заводе слесарем работал, механиком.
– Живы? – завязывала разговор старуха.
Мама.
– А отец?
– Рак. Опухоль. Умер.
– Но пожил?
– Шестьдесят лет.
– Это хорошо.
– Мало! – я вздохнул. – Не хватает его.
– Мне тоже, – пригорюнилась старуха, села на мою постель; до этого стояла рядом. – Мне тоже моих не хватает.
– Но ведь пожили? – взял я в оборот старухины слова.
Она покачала головой:
– Нет. Сожгли их.
На мгновение я оцепенел. А старуха вдруг села рядом со мной и нервно дёрнулась.
Чёрное пальто упало с плеч.
У толстого фланелевого халата, в который была одета старуха, были короткие рукава.
И я оцепенел снова.
Её руки до локтей украшали наколки. Наверное, татуировки шли и дальше: какие-то слова, цветы, нечто похожее на московский Кремль… И среди всего этого, ближе к кисти – цифры. Несколько.
Старуха быстро и зябко подхватила пальто:
– Хорошие у тебя сказки. Хочешь, я тебе тоже сказку расскажу?
4
На остров Зинка приползла под утро. Мокрая и грязная насквозь. Сил не хватало, мотало из стороны в сторону, вот и сорвалась с тропки в трясину. Камнем вниз пошла да рванулась от ужаса к твёрдому, ухватилась под топью за землю – тропку через болото – и вытянула собственное тельце. Повезло. Дальше, правда, идти уже не могла, ноги от пережитого свело, потому ползком ползла. Ревела да ползла.
А и рёва не было – то ли сипела, то ли шипела.
Тётка Саша услыхала, пошла глянуть, что такое. Чуть на девчонку не наступила.
Трое суток Зинку трясло да выворачивало: болотом, гадостью какой-то да внутренностями. Думали: всё, отдаст душу куда незнамо, кому неведомо. Да нет. Видно, есть Бог на свете. Начальник раненый, даром что красный командир, все три дня и ночи от Зинки не отходил – что по медицинской части знал, сделал, а потом молился. По-настоящему молился.
Это уж потом Зинка узнала, что он, полковник, раньше в царской армии служил, роду-племени дворянского, от того и Бога не забыл.
На четвёртый день Зинка первый раз есть попросила:
– Хоть крошечку хлебную. Дайте…
Раненые, а их на острове посреди болота к тому времени уже богато душами было, сухарь старый нашли – подали.
Тётка Саша Зинке рассказывала:
– Здоровые-то ушли. Не совсем, нет. Хотят на немцев напасть: пропитания раздобыть, медикаментов, а коли повезёт, старший сказал, то и оружия. На шестерых у них целыми две винтовки всего…
Вот такой партизанский отрад получался. Всех вместе двадцать три человека. Две винтовки из оружия, шесть патронов – по три на ствол, если поровну делить, и три особых ножа-финки.
Что с Зинкой случилось, никто не спрашивал. Сами через ад прошли, понимали: придёт время, сама всё расскажет.
Рассказала.
* * *
Под вечер сквозь деревню мотоциклисты промчались. За ними грузовиков несколько приползло да танкетки с бронемашинами; скоро фашисты везде будто были. Говорили – лаялись словно – речь у них чужая, злая.
Разбрелись немцы по деревне, во все избы, во все сарайки заглянули: всех живых – старых и малых, дедов и грудничков с матерями – в одно место собирали. Из винтовок да автоматов в воздух стреляли, прикладами людей били, сапогами коваными – куда попадёт.
С офицерами переводчик был. Когда со всей деревни народ в колхозный клуб согнали, объявил:
– Из вашей деревни коммунисты уничтожили девятнадцать доблестных солдат великой германской армии. За это ваша деревня подлежит полному уничтожению!
Сперва и не понял никто, что дальше будет.
А дальше закрыли немецкие солдаты двери клубные, окна досками позабивали, и – бензином потянуло.
– Господи! – ахнул кто-то. – Да неужто они, ироды, нас жечь собрались?!.
Клуб знатно полыхнул. Дерево сухое, дождя давненько не было. Затрещали досочки, крыша занялась.
Народ сперва дымом захлёбываться начал. А там и жар прихватил.
– Ой, бабоньки! Горю! – крик чей-то взвился.
Закричали, заголосили люди. Кто в двери запертые, кто в окна забитые – ломиться стали. Лавками одну створку дверную выбили. Огонь сразу внутрь рванул: по одежде, по волосам, по рукам-ногам.
Кто смог, наружу выскочил.
Да только не было там спасения.
Солдаты немецкие всех, кто из клуба выбраться пытался, в упор расстреливали.
Зинка с дедом, матерью да сестрой старшей в середине толпы стояли. Тоже сперва выбежать хотели, да дед остановил.
– Стойте! – рыкнул. И откуда сил на то хватило? Сам старый, хромой, на грудь больной. А медведем рыкнул: – Я ужо! – Затем тише сказал, от жара щурясь: – Вкруг Зинки давай встанем. Так побежим. А там… Ты, Зинка, не оглядывайся! Беги! Беги подальше! Беги да помни…
Дед первым под ноги Зинкины упал. Перешибло его очередью автоматной.
Потом матери рядом не стало.
За спиной сестра старшая вскрикнула; почудилось Зинке, руками она, словно птица, крыльями всплеснула, и – вниз! Птицей подстреленной.
Над головой очередь пронеслась. Ещё рядом свистело.
Сапоги чужие тяжело топали. Да куда им за босоногой!
* * *
Смолкла Зинка. Тётка Саша в голос взвыла, не таясь. По своей боли – по сыну, по общей – по деревне. Мужики раненые глаза кулаками утирали, желваками на скулах играли. Полковник сказал. Сухо. Глухо. Коротко: