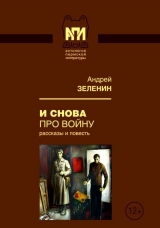
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)

ПУСКАЙ ЖИВЁТ!
Рассказ
Пулемётная точка была оборудована самым лучшим образом: на высоте, защищённая от огня противника огромными каменными глыбами, что остались здесь с древних незапамятных времён.
Высота располагалась аккурат посреди болот и гнилых лесов – местности непроходимой – и перекрывала единственную в этих краях дорогу.
Командование посчитало, что для удержания этой самой дороги вполне хватит одного пулемёта и небольшого количества солдат.
Кстати, солдат сперва было пятеро. Потом одного ранили, и он своим ходом отправился в тыл и обратно не вернулся.
Удерживать высоту вчетвером было также несложно. Дел всего-то: стреляй по наступающим, не забывай менять ствол, подноси коробки с патронами.
Наступающие уже не один раз кидались на высоту, и немалое их количество навсегда осталось лежать и на узкой дороге, ограниченной скользкими брёвнами гати, и на склонах высоты.
К удивлению обороняющихся, противник никак не использовал артиллерию и самолёты. Может, считали, что вызывать авиацию ради какого-то пулемёта слишком нерационально, может, не смогли протащить по заболоченной дороге одно-два орудия, может, не было их – самолётов и пушек – у наступающих, может, ещё что…
Только на пятые сутки у противника появился снайпер, и к концу недели за пулемётом остался один солдат. Троих снайпер сумел уничтожить – по одной пуле на каждого. Мог бы убить и четвёртого, последнего, но тот обнаружил точку-лёжку меткого стрелка и всадил туда добрую сотню пуль.
Боеприпасов для пулемёта хватало с лихвой. А вот обороняться одному стало тяжело. Очень хотелось спать. Однако организм неизменно выручал. Дремота – не сон, сна не было – мгновенно улетучивалась, как только противник поднимался в атаку, – бесшумно или с криками, – и пулемёт, послушный рукам солдата, оживал. И коса смерти скашивала очередную цепь наступающих. Огонь их винтовок, автоматов и тех же пулемётов не причинял вреда единственному защитнику высоты…
Последнее утро запомнилось ему особо.
Он подпустил наступающих на минимальную дистанцию и открыл огонь только тогда, когда чётко увидел лица бегущих на него.
Юного солдатика, мальчишку лет восемнадцати, пулемётная очередь буквально перерезала пополам – упал он нелепо: колени влево, лицо вправо.
Молодой офицер, чуть постарше мальчишки, выронив пистолет из вдруг ослабевшей руки, рухнул лицом в пожухлую траву.
Ещё человек десять или больше запомнились солдату чёрными точками – точками, многократно возникающими на защитной ткани их форменных одежд. Потом чёрные точки кровенили, краснели и, густея, чернели снова.
Дольше всех умирал один – рыжий верзила с рябым оспенным лицом. Он долго не хотел падать: левой рукой опирался на винтовку и силился бросить гранату, зажатую в другой, правой, руке. Так она у него и взорвалась. Граната. В руке. Оторвав руку по самое плечо, осколками изуродовав тело и, без того неприятное, в оспинах, лицо. Другой на его месте давно бы умер, хотя бы и от страха, но рыжий не хотел умирать. Лёжа на спине, он смотрел в невысокое осеннее небо, изредка смаргивал выбегающие из глубин глаз слёзы и дышал, дышал… Ему было мучительно больно.
Солдат-пулемётчик аккуратно, как на учениях – на стрельбище – прицелился, и пули пробили грудь рыжего в области сердца.
Выгнув дугой спину, животом устремившись в небо, рыжий резко осел и свалил голову набок.
Нет, солдат не пожалел врага, не избавил его от боли, от долгой, мучительной смерти. Просто за поясным ремнём рыжего торчала ещё одна граната, и солдат испугался: вдруг враг смог бы на последнем издыхании или от вселенской злобы проползти последние пять метров, отделяющие его от пулемётной точки и взорвать её? Этого солдат допустить не мог.
Больше недели ему не было смены. Что творилось в тылу, он не знал. Он только помнил приказ, который как солдат не мог нарушить: занять высоту и не пропускать противника пока не подойдёт подкрепление или не появится смена…
В полдень солдат вскрыл банку мясных консервов. Хлеб закончился два дня назад, поэтому консервы солдат ел без хлеба. Одно мясо. С ножа. Думая о куске хлеба или – на худой конец – сухаре.
Долго, тщательно солдат жевал каждый кусок, затем глотал, чувствуя, как кадык совершает положенные движения, а пережёванное мясо по пищеводу спускается в желудок.
Когда грянул выстрел, солдат не вздрогнул – досадливо поморщился, что испортили обед, и всё. И ведь ладно бы началась очередная атака! А так… Всё, что он видел перед собой, оставалось прежним: деревья, болото, трупы. Никто не собирался атаковать высоту, выстрел был случайным. Случайным – так показалось солдату.
Показалось.
Ворона с простреленным крылом рухнула с неба на землю буквально в двух шагах от пулемётного ствола.
Солдат удивлённо приподнял брови, затем отставил банку с консервами в земляную нишу, аккуратно положил на банку нож, ещё раз внимательно оглядел пространство перед собой – трупы, болото, деревья – и, быстро выскочив из укрытия, схватил ворону. И тут же вернулся назад.
Птица не сопротивлялась. Похоже, она собиралась умереть: вся в крови, глаза затянуты плёнкой, клюв широко раскрыт… Но она дышала. Дышала как тот рыжий с оторванной рукой, утром.
Солдат погладил птице голову – одним пальцем: раз, два, – и достал медицинский пакет.
Ворона задёргалась – почувствовала другую боль. Однако солдат, успокаивая птицу словами, вершил благое дело: обрабатывал рану и перевязывал крыло. И старался не делать птице больнее, чем есть.
Белоснежный бинт смотрелся на вороне как-то празднично, и солдат заулыбался. Впрочем, улыбался он недолго, нужно было сделать кое-что ещё. Для вороны.
Солдат взял фляжку с водой – большая бочка, полная живительной влаги, была вкопана в землю неподалёку – и отлил немного на чайное блюдце, оставшееся без чашки.
Чашку он разбил два дня назад. Случайно. Задремал – и показалось, что началась атака: дёрнулся, взмахнул рукой… Осколки чашки лежали теперь за бруствером. Зачем они солдату?
Ворона воду пить не стала – не смогла, но чувствовалось, что без жидкости ей тяжело. И тогда солдат отхлебнул из фляжки и взял птицу на руки и поднёс к лицу. И стал поить: изо рта в клюв…
До вечера противник не беспокоил.
А ворона к вечеру освоилась. И даже поела. Всё тех же мясных консервов. Как воду: изо рта в клюв.
Одной рукой солдат гладил птицу, и та благодарно подставляла голову, успевая при этом щипать солдата – не больно – за большой палец. Другой рукой он гладил холодный металл пулемёта – был настороже. И всё равно чуть не прозевал атаку: головой крутил, переводил взгляд с вороны на окопы противника, с окопов на ворону. И… Чуть было не прозевал последнюю атаку.
Их было около сотни: поднялись бесшумно, бежали быстро.
Солдату показалось, что он слышит учащённое дыхание этой сотни – сотни глоток.
Он усмехнулся – неизвестно чему, – и со ствола пулемёта сорвался злой огонёк. Десятки пуль, ища свои жертвы, веером разлетелись над дорогой, над болотом.
Кто-то падал и больше не поднимался. Кто-то поднимался и поворачивал назад. Кто-то, упав, отползал – тоже обратно.
Солдат не заметил троих, после первой очереди затаившихся за трупами ранее павших товарищей. Увлечённый стрельбой, солдат превратился в охотника за одной целью. И жертву себе он выбрал подходящую – человека.
Человек был немолод, полон, двигался не быстро. Солдату поверилось, что именно этот, бросивший свою винтовку враг, ранил ворону.
Для начала солдат прострелил ему ноги, и человек рухнул в болотную жижу; ввысь и в стороны взметнулись тяжёлые коричневые капли. Затем солдат прострелил своей жертве правую руку. Потом – левую.
Следующая пулемётная очередь должна была пробить голову, но её не последовало.
Случай.
Роковой.
Перекосило патрон, и пулемёт замолчал – заклинило.
Мгновение.
За это мгновение трое вскочили на ноги, промчались больше десятка метров и каждый. Каждый!
Они метнули три гранаты…
Потом они долго лежали, прижавшись к земле, и не решались подняться.
Где-то далеко кричала какая-то птица. Не ворона.
Дул ветер – гнал дождевые тучи.
И дождь не заставил себя ждать.
Дождь и поднял их – троих.
Держа автоматы наизготовку, они встали на высоте. Над уничтоженной пулемётной точкой.
То, что много дней было солдатом, в одно мгновение стало мёртвым, разорванным в клочья телом.
– Он был один?! – изумился первый из автоматчиков.
Ответом ему был крик вороны, невесть как уцелевшей в свистопляске смертельного огня. Белея в наступающих сумерках перевязанным крылом, она попыталась запрыгнуть на камень – не смогла, соскользнула, неловко упала на землю и застонала – по-птичьи и в то же время страшно. Очень страшно.
– Уй, шайтан! – дёрнулся второй автоматчик и вскинул автомат. – Гриша, её убить надо! Это его дух!
– Оставь, Нияз, – остановил товарища третий. – Это всего лишь птица.
– Что мы, фашисты? – поддакнул старшему первый автоматчик. И устало махнул рукой: – Пускай живёт!

СЕРЖАНТ РЫЖИЙ
Рассказ
В окоп к Кузьменко свалился бельчонок. С дерева – с ели. Забился под бок, в шинель носом уткнулся и дрожит. Страшно бельчонку. И Кузьменко – тоже страшно: первый раз под обстрелом. Но уже не так, как минуту до того. До того, как бельчонок в окоп упал.
Позиции у роты – по краю леса. Туда, куда нужно было, до подготовленных к бою траншей, рота дойти не успела. Только из леса вышли, фрицы по нашим и ахнули: две танкетки да миномётов несколько. Пулемёты да карабины – не в счёт, без счёта этого добра у фрицев имелось.
– Окопаться! – ротный крикнул.
– Окопаться! – взводный повторил.
– Лопатами, мать саратовскую! – отделённый[13]13
Отделённый – командир отделения.
[Закрыть] на опешивших солдатиков заорал.
Кузьменко повезло – земля мягкая попалась, да и вообще, к труду привычный: сколько в колхозе да в огороде перекопал! Быстро окопчик себе устроил, даже лапок хвойных под себя накидал, тех, что осколками да пулями с деревьев вниз поссекало. Всё помягче и не на голой земле.
Фрицы в атаку не пошли – через поле в другом лесочке укрылись. Танкетки за деревья отвели, и давай: Бах! Бах!
Наши тоже сперва стрелять начали – из винтовок, но ротный приказал:
– Отставить стрельбу!
И взводный повторил:
– Отставить стрельбу!
– Мать воронежскую! – отделённый рявкнул. – Кто ещё раз пульнёт, тому так пульну – мало не покажется!
Стрельбу прекратили.
– Кузя, ты живой? – донёсся до Кузьменко знакомый голос.
Рядом, в двух шагах, из мелкого, не по росту окопчика высовывал голову Вилен. Был Вилен худ, бледен и начитан до того, что носил на носу, только перед сном убирая в специальную коробочку-футляр, очки. В армию он пошёл добровольцем, семнадцати лет, и, наверное, только поэтому их отделённый – крепкий прожжённый украинец – как-то по-своему бережно относился к этому, как он сам называл, городскому недомерку. Хотя стычки – словесные! – бывали у них постоянно. С самого первого раза, как только сержант представился и загнул своё неизменное: «Мать вашу!»
– А нельзя ли выражаться более культурно? – попросил тогда Вилен. И начал: – Мой папа преподаёт историю в школе…
– А мой папа был простой балтийский матрос! – жёстко перебил Вилена отделённый. – Консерваториев не кончал, и когда была гражданская война, командовал пулемётным взводом, чтобы твой папа мог тебя учить!
– Надо говорить: консерваторий, – поправил отделённого Вилен. – И я не понимаю, при чём здесь высшее музыкальное образовательное учреждение?
– Мы с тобой ещё поговорим! – пообещал Вилену сержант, и с тех пор всё отделение, да и не только оно – весь взвод с нетерпением ждал привалов и свободных минут, чтобы послушать «культурные диалоги» двух своих товарищей.
Сержант, кстати, тогда подошёл и к Кузьменко:
– Кузьменко, ты хохол?
– Надо говорить: украинец, – попытался поправить отделённого Вилен.
– Украинцы за Пилсудского, а хохлы за Советский Союз! – поставил жирную точку в национальном вопросе отделённый. И повторил вопрос: – Кузьменко, ты хохол?
– Я из Сибири, – пожал плечами Кузьменко. – У меня там и отец родился, и дед. И мать с бабушкой тамошние.
– Ну, тогда хорошо! – обрадовался сержант. И пояснил: – Два хохла на одно отделение – перебор!
А отделение было разным – кроме отделённого один татарин, один белорус и один еврей, остальные русские: с Урала, с Сибири.
– Кузя, ты живой? – высовывался из окопчика Вилен. – А я, представляешь, лопатку сломал! Ручку. Она у меня у самого основания надломилась. И окоп я не дорыл.
Кузьменко вздохнул:
– Погоди, я сейчас у себя расширю, ко мне переберёшься!
– Ой, спасибо! – обрадовался Вилен.
Бельчонок не думал никуда убегать. Приглядевшись, Яков заметил, что у зверька перебита задняя лапка, не повезло маленькому.
– Ранили тебя фрицы! – прошептал Кузьменко бельчонку Покачал головой: – Ай-яй! – Попросил: – Погодь, чуток позже перевяжу.
Осторожно сняв с себя шинель, Яков уложил её вместе со зверьком в изголовье, а сам, взявшись за лопатку, изогнулся в сторону товарища и принялся увеличивать окоп.
Через несколько минут Вилен был уже рядом с Кузьменко и удивлялся:
– Ну, надо же, как ты умеешь устраиваться! Я вот так не могу! – А когда увидел бельчонка, восторгам парня и вовсе не было предела: – Надо же, какое чудо!
«Чудо» тут же тяпнуло Вилена за палец, и перевязку Кузьменко пришлось делать двоим.
Кстати или нет, но в тот день никто не решился на атаку: ни фрицы, ни наши.
Вилена отделённый отправил в тыл к старшине и тот вернулся назад еле живой: старшина нагрузил термосами с горячей едой – на весь взвод.
Кашу ели с аппетитом. Не отказался от солдатского блюда и бельчонок. Он вообще стал героем дня. И Кузьменко – с ним заодно. Проведать зверька приходил даже командир роты – хотел погладить, но от этой идеи сперва отказался, когда Вилен предупредил:
– Укусит, товарищ старший лейтенант! Он зверь дикий. Меня – укусил! – и гордо показал перевязанный палец. – Вот!
Однако бельчонок был так мил и так забавно ел кашу, держа её, остуженную, в передних лапках, что ротный не удержался – прижал ладошкой пушистый хвостик.
Бельчонок дёрнулся, сердито цокнул, но кусаться не стал.
– Мать херсонскую! – протянул отделённый под дружный хохот бойцов. – Надо же! Понимает, кто – начальство, а кому историю преподавать!
Городов сержант знал великое множество, службу в армии начал ещё до войны и в отделении его народу перебывало – не одна сотня, и все из самых разных мест!
– Я вам ещё и Фергану вспомню с Ташкентом! – грозил, бывало, под горячую руку отделённый.
В тот раз под горячую руку никто не попал, не до того было. Ближе к ночи ротный приказал от каждого взвода выдвинуть в поле боевое охранение: подобрать солдат поразумнее, поглазастее – серьёзных.
Выбор взводного пал на Кузьменко.
– Во! – показав большой палец правой руки, одобрил действие лейтенанта отделённый.
– Разрешите, товарищ лейтенант, – подскочил к взводному Вилен. – Я с Кузьмой! То есть с Кузьменко!
– Товарищ командир, лучше я! – тут же выдвинул свою кандидатуру сержант.
Взводный подумал и решил про Вилена:
– Всё равно когда-нибудь надо ему бойцом становиться.
– Только у меня лопатки сапёрной нет, – тут огорошил сын учителя. – Сломал…
– Мать твою, ростовскую… – начал было отделённый, но Вилен его перебил.
– Я москвич, товарищ сержант, вы же знаете!
– И мать столичную! – закончил сержант.
В итоге в секрет Вилен отправился с лопаткой отделённого – полз сразу за Кузьменко, постоянно тычась головой в подошвы его сапог.
Яков помнил слова сержанта: «Отползёте метров на сто, отроете окопчик и ховайтесь там – наружу нос только с глазами. Не курить, не балакать. Дрыхнуть захочется, утром отоспитесь, когда назад вернётесь! Ежели что, одного ко мне, другой на месте остаётся. Если никак, первыми открываете огонь, но чтоб не думать про вас, сосунков, что сами сдались. У меня в отделении никого из таких не было. Никогда! Понятно?»
Окопчик Кузьменко рыл в одиночку. Вилен, выставив перед собой винтовку, напряжённо вглядывался в темень и тишину, суетливо протирал очки. Бельчонок, ни за что не оставшийся в лесу, с ротой, следил за тем, как летит земля, из растущей прямо на его глазах ямы – сидел в шаге от Кузьменко.
Потом они смотрели во тьму в четыре глаза – Вилен и Яков; бельчонок прикорнул на поле шинели Кузьменко, закинутой на бруствер – свернулся в клубочек, закрыл хвостом нос и спал.
Вилен всё порывался что-то сказать, но сдерживался, подтыкаемый в бок кулаком Кузьменко – сопел и опять тёр стёкла очков. Но за полночь не выдержал, зашептал с присвистом:
– Кузьма, давай подремлем! По очереди!
Кузьменко подумал и согласился: вдвоём дежурства не выдержать, всё равно в сон склонит – хуже, если двоих за раз.
Договорились спать так: один считает до тысячи и будит другого. Потом наоборот.
Первым остался на посту Кузьменко. Вилен свернулся калачиком у его ног и моментально засопел.
Ночь была безветренная, но тёмная. Облака, сошедшиеся на небе ещё днём, так и не разбежались никуда, остались на месте. Да и ладно! Хорошо хоть дождь не пошёл. А мог бы – конец сентября как никак! Сухая трава шелестела мелко – в поле шла своя незаметная человеческому глазу жизнь: бегали мыши и кто-то ещё.
– …Девятьсот девяносто девять, тысяча! – прошептал Кузьменко и легонько толкнул в плечо Вилена. – Просыпайся, соня! Твоя тысяча!
– Ага! – прошептал напарник, широко зевнул, потянулся. Спросил: – Тихо? – И, не дождавшись ответа, забубнил под нос: – Один, два, три, четыре…
Под это счёт Кузьменко и заснул. В колхозе он трудился в овощеводческой бригаде, и приснились ему морковь да свёкла. Будто сорняк их глушит. Дёргал Кузьменко траву – полол бесконечные гряды, думал, конец скоро делу, а голову поднял и обомлел: трава сорная, что фашисты, рядами на него наступает. И нет никого рядом с Кузьменко из товарищей, один только бельчонок с лапой перевязанной стоит рядом и цокает досадливо:
– Цок-цок! Цок-цок!
Если бы не это цоканье, не видать было бы Кузьменко нового дня!
Открыл Яков глаза: Вилен, носом в бруствер уткнувшись, спит-посапывает, а бельчонок, столбиком стоит, смотрит в туман сырой, на поле лёгший, нервничает – хвостом дёргает и…
– Цок-цок! Цок-цок!
Голоса чужие, расстоянием приглушённые, Кузьменко сразу разобрал: фрицы! Тряхнул Вилена, что куль с мешком:
– Ты, твою! – по-сержантски залихватски не получилось, сказал как есть – злым шёпотом. Приподнял начинающего что-то соображать товарища, метнул его из окопа по направлению к нашим, приказал: – Доложи, что немцы! Что много! – Не глядя, но представляя, как Вилен ползёт сейчас к лесу, лицом в землю, задом к солнышку, передёрнул затвор, однако стрелять не стал – аккуратно положил винтовку, снял с пояса пару гранат, приготовил их. Попросил бельчонка: – Слезь-ка в окоп! – Сам взял, непослушного, в руки, спустил на дно ямы. – Сиди тут!
Бельчонок не послушался – выскочил наружу, снова встал столбиком, цокал, нервно подёргивал хвостом.
Тени впереди возникли неожиданно, шагнули, не видя, к Кузьменко. Он не стал стрелять, а, одну за другой, метнул обе гранаты, схватив зверька, осел с ним в окоп, после того, как грохнуло – два раза! – вскочил на ноги, схватил винтовку и, не целясь, выпустил в туман всю обойму.
Сзади топали десятки ног. Орали «Ура!» Кричал ротный: «Вперёд, орлы!» Гремел отделённый: «Твою, архангельскую!» И пули! Пули свистели во все стороны!
…На другой стороне, уже не в окопах, а во вражеских траншеях, брезгливо утаскивая трупы, одетые в чужие шинели, в ближайшую болотную яму, Кузьменко понял: злость прошла. Понял: жив. Понял: цел и Вилен, чёртов очкарик! Цел бельчонок – сидит в кармане, наружу не кажет и носа – нашёл кусок сахара, засунул его за щеку и уминает с хрусткотком. О своих убитых и раненых старался не думать: война! Тем более, считал, что сделал всё как надо. И ротный хвалил, и взводный, и сержант, по плечу похлопав, спросил:
– Каково?
– Так! – ответил Яков.
– Ну-ну, – кивнул отделённый.
Через полторы недели Кузьменко нашил на погон лычку – стал ефрейтором: старшим солдатом. Через месяц принял отделение.
Бельчонок остался в лесу.
Вилена ранило, Кузьменко сам перевязывал ему раны: плечо и бок – отправлял в госпиталь, просил писать, но не получил и строчки. Ранило самого Якова. Тоже лежал в госпитале. В свой полк потом не попал.
После войны, вернувшись в родную Сибирь, продолжал работать в колхозе. Выйдя на пенсию, переехал на Урал – к дочери и внукам. Любил ходить в лес, благо идти до него было – пять минут. Потом, правда, стало и шесть, и семь минут, и десять… Последние разы ходил так: полчаса туда, полчаса обратно.
…Я тоже был в том лесу. Меня водил внук Кузьменко. Улыбался:
– Хочешь, чудо покажу?
Свистнул манком, которым охотники обычно подзывают уток. На этот звук на небольшую поляну с окрестных деревьев буквально ссыпалось полтора десятка белок.
Внук полез в карман, достал оттуда угощение – большей частью обыкновенные семечки – и сыпанул в траву. Глядя, как белки хватают корм, показывал:
– Этого Виленом зовут. Вон тот, отдельно стоит, ротный. А вон этот, самый наглый, видишь, горсть семечек схватил и ругается ещё, сержант Рыжий – мать его, челябинскую. Дед так говорил.








