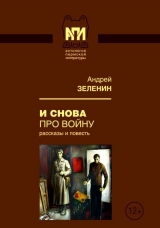
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Отомстим.
…К вечеру вернулись здоровые. Принесли две немецкие винтовки, пулемёт с мотоцикла. Ещё – провод телефонный с аппаратами, другое что, – связисты гитлеровские попались. Повезло. Нашим.
Бинты с йодом пошли на перевязки, консервы с хлебом – на стол. С оружием другим днём засаду устроили; ещё троих своих фрицы недосчитались. А в отряде прибыло: двое окруженцев – к своим пробивались, да двое местных парней – комсомольцы! – на остров вышли.
5
Через месяц полковник стал приноравливаться к костылям. Кто-то из красноармейцев срубил деревянные подпорки командиру.
Командир костылями поскрипел, лицом покривился от боли и таким, страшным, народ собрал. Речь сказал короткую, но верную.
– Врага мы бьём помаленьку – это хорошо. Одного-двух-трёх на тот свет отправим – Красной Армии полегче. Однако надо, чтобы люди наши, советские, кто под чужой властью остался, знали: не фашисты здесь хозяева! Требуется что-то громкое сделать. Склад какой взорвать или ещё что. Сами понимаете. Ну, и для дела такого разведка нужна. Кому идти, товарищи?
Зинка сама вызвалась. Первой. Вот так выдала:
– Я не взрослая. Не военная. Тринадцать лет всего! Зайду в село или деревню, мол, побираюсь. Дома голодно, вот и пошла по людям, может, кто чего съестного подаст. А сама всё, что нужно выгляжу, запомню! – И ещё аргумент выложила: – Если взрослый кто в разведку пойдёт, чужого лаской не встретят. Да и немцы неладное поймут.
Не хотел полковник девчонку одну отпускать. Однако, подумав хорошенько, понял: дело Зинка сказала. Дал добро. И двоих бойцов – в сопровождение, чтобы по лесу не так страшно идти было.
От сожжённой деревни в двадцати километрах другая стояла: и домов в ней побольше было, и целая ещё, не спалили фашисты. Туда Зинка и отправилась.
Тяжко пришлось. Даже не от немцев страху натерпелась, от своих – от полицаев. И откуда только сволочи такие берутся? Мало того что котомку пустую почти, с одной картофелиной да сухариками, для виду положенными, перетрясли, так ещё и ощупали всю с ног до грудок. Ржали, кобели проклятые, в сарай затащить грозились – побаловаться по-ихнему. Морды косые от самогона, руки в наколках, – тьфу!
Немцев в деревне оказалось немного – какая-то команда по заготовке продовольствия для нужд германской армии. Десяток вояк, что коров со свиньями в одно место согнали под охрану, а сами кур по дворам ловили да яйца воровали.
Полицаи им в помощь были приставлены, их столько же по счёту выходило, как немцев. Сами все из тюрьмы, фашисты выпустили, на себя служить пригласили…
Из съестного в деревне – Зинка и не думала, что люди последним делиться станут – богато в котомку досталось: картошка, морковка, капусты вилок, хлеба полкаравая, крупы с полкило – ещё довоенных запасов. Тётка одна молока дала, бутыль литровую вынесла, сказала, словно в воду глядела:
– Напоишь кого. Знаешь.
Обо всём Зинка своим взрослым товарищам рассказала. Тем, что у деревни в лесу ждать её оставались. И про то, что склада в деревне никакого нет. Так что взрывать нечего. И что немцев тут небогато. Зато полицаев – всех бы в болото по маковку! И молоком – напоила. И самое главное не забыла: с утра пораньше, чтобы не к ночи ближе, поведут немцы стадо, в деревне собранное, в райцентр. Коров своим ходом, свиней сегодня заколют, в телегах повезут. Немцев десяток и полицаев столько же, чтоб им!
Полковник, когда разведка домой вернулась, Зинку обнял, как дочь родную, расцеловал – радовался, что жива-здорова. Поблагодарил за дело. Потом думал сколько-то недолго, времени не оставалось, решил:
– Значит, так! Фашистов с их прислужниками бить только вдали от деревни. Чтобы деревенские не пострадали. Чтобы немцы потом их не пожгли. Стадо, продукты – половину обратно вернуть в деревню. Не сразу, попозже, когда всё стихнет. А другую половину – в отряд, нам запасы нужно делать. Воевать придётся долго…
Никто Зинку в бой не посылал. Попробовала бы заикнуться!
Пикнула, так её сразу – к тётке Саше на пригляд: сделала своё дело – спасибо, теперь сиди на острове, раненым помогай, по хозяйству тоже.
Здоровые бойцы с комсомольцами местными – десяток против двадцати – под вечер на задание отправились. Загодя. Чтобы до ночи место для нападения выбрать, подготовиться, ну и отдохнуть-выспаться до немцев.
Зинка с острова ночью подалась. Тётка Саша задремала, она – раз! – и была готова. Нож только прихватила, которым картошку в похлёбку к ужину резала.
* * *
Отряд немецкий в лесочке, где партизаны засаду устроили, раным-ранёшенько появился. Видно, из деревни так вышли, до рассвета – по ночи ещё.
Солнце над деревьями подняться не успело. Да и что от него толку-то, от осеннего! Так, свет только, тепла мало.
А приморозило крепко. Ветерок, меж веток да лап еловых пробираясь, снегом попахивал.
Зинка хоть и в ватнике толстом была, а всё зуб на зуб не попадал. Даже испугалась: ну как услышат её свои, всыплют потом! И пускать никуда не будут.
А надо было.
За сестрёнку.
За мамку.
За деда.
За тех, с кем тринадцать лет рядышком прожила.
Хотя бы одного! Хотя бы того! Пусть не немца! Другого, который, когда в деревне обыскивал, под рубашку забрался, за грудь ухватил, – зверь! Человек разве такое дурное сделает? Только зверь дикий в обличье человечьем!
«Зверя и убью!» – Зинка решила, рукоятку ножа покрепче сжала.
Коровы в стаде на разные голоса ревели, голоса немцев и полицаев заглушая. Колёс скрипучих от подвод тоже почти не слышно было.
«Господи! – ахнула Зинка про себя, когда стадо увидела. – Да они же коров с утра не подоили! Так бедных повели! Звери! Дикие звери!»
У каждой коровы вымя от молока разбухло. Потрескалось.
При каждом шаге брызгали на дорогу белые струйки.
Мычали коровы – плакали. От боли.
Полицаи на то внимания не обращали. Немцы – тоже. Спешили: скорей бы лес миновать да обоз со стадом в нужное место доставить. Туда, где не так страшно. Где своих, фашистов, побольше. А то ведь винтовки на взводе держать приходится, по сторонам смотреть – а ну как партизаны!
Ну, те и – пожалуйста, вам!
Зинка хоть и ждала, что стрельба начнётся, но всё равно от неожиданности испугалась. Пулемёт застрочил – присела, нож выронила.
Защёлкали по лесу винтовочные выстрелы. Кто-то закричал по-русски, кто-то – по-немецки. Коровы вовсе не своими голосами взвыли. Затем граната хлопнула.
Во все стороны лес затрещал: люди бежали, скотина, осколки летели, пули…
Зинка нож найти не успела, выскочил на неё фашист раненый – лицо в крови, не видит, куда бежит. Наступил на Зинку, сбил с корточек, та спиной назад полетела да затылком о корень!
И всё, будто свечку кто затушил, – тьма в глаза ударила и в голову.
* * *
– Кто есть это? – голос обрушился на Зинку откуда-то сверху.
И чьи-то руки подняли её с холодного пола, и кто-то поставил её вертикально и подпёр со спины своим телом:
– Держись, дочка!
Толстая холёная физиономия фашиста в мундире, украшенном крестом и чем-то ещё, была прямо перед её глазами. Размером в высоту немец не отличался, только вширь.
– Партизан?
Хотела Зинка фашисту ответить, как положено, по-советски, в физиономию его толстую холёную плюнуть, да не вышло. Сильно затылком в лесу приложилась, да и, по-медицински говоря, прошлое потрясение нервное сказалось.
Вылетело у Зинки изо рта одно мычание.
Из-за спины дедок какой-то за неё отвечал:
– Больная она, чокнутая. Мы тут её все знаем! Без разума, без ума – ходит по белу свету А нам жалко, вот и подкармливаем.
– Фи! – физиономию фашиста перекосило. – И это есть партизан? Вон её! – голос немец повысил. Взвизгнул брезгливо: – Вон!
Так бы и сошло Зинке с рук, так бы и в лес снова попала, да – судьба-злодейка!
Когда выводили девчонку из подвала, оказался рядом Зверь. Тот самый полицай, что за день до того в деревне над ней измывался. Выжил, гад, в лесу, схоронился как-то. А после того, как партизаны стадо у фашистов отбили да к своим ушли, к немцам пробрался.
Ну, немцы облаву тот час же! Да кого ловить? Партизаны давно из лесу исчезли, одни только немцы да полицаи побитыми на дороге лесной лежат. Да Зинка в стороне – под деревом.
Зинку в райцентр и привезли. На телегах вместе с трупами.
В тюрьму Зинку бросили, в подвал. Подумаешь, без сознания! Дышит ведь!
Потом туда же, в тюрьму, из деревни народ пригнали. Пытать собрались; вдруг скажет кто что про партизан.
А тут в райцентр фашист какой-то главный приехал. И вздумалось ему на партизан посмотреть. Вот для него подвал и открыли. А он инспекцию устроил, решил, видно, добреньким показаться. Облагодетельствовал – юродивую на свет Божий выпустил…
– Она это, она, господин начальник! – Зверь фашисту кричал. – Это она партизан на нас навела! Партизанка она! Дозвольте мне за неё, ваше благородие, взяться! Я у неё всё узнаю-выведаю! Сама к партизанам приведёт!
6
В воскресенье Василёк с отцом встали пусть и не в самую рань, а всё не поздно. День хоть и выходной, и у мамки на ферме не смена, да работа по хозяйству нашлась. Железо на крыше поправить надо стало. А то ведь было дело! – гулял ветер, несколько листов железа оторвало. Вон как бывает!
Хорошо на крыше, привольно! Во все стороны гляди – вон он, мир, большой какой! Тут поле, там лес, дальше небо синее, с неба – солнце яркое! И ещё! От трубы печной вку-усно попахивает: и дымком, и стряпнёй мамкиной, воскресной – праздничной. Одно слово: хорошо!
– Мужики мои, вы скоро? – мамка на крылечко вышла, от печки разрумянилась, руки о передник вытирает.
И без того мамка красивей всех, а тут и вовсе – самая лучшая!
– Сей секунд! – Василёк мамке прокричал. Прямо как папка, когда его в кузне про работу спрашивали. – Сей секунд!
Да и, правда, что делов осталось? Один лист железный гвоздями прибить!
Василёк лист держит, папка молотком по шляпкам стучит: раз-два, раз-два! – ве-се-ло!
– Всё! Сделано!
Выпрямился отец, спину разогнул, руки раскинул – потягивается. Во все стороны на мир поглядывает: на небо, на лес, на поле! Большой! Сильный! Улыбается!
И вдруг!
Исчезла с папкиного лица улыбка.
Что такое? Отчего?
Глянул Василёк туда, куда отец смотрел, и сам удивился.
Прямо по полю, без дороги, во весь опор всадник спешит! Коня не жалеет, плетью его жжёт: то справа, то слева. Давай, родимый! Лети!
Не выдержал конь, на лугу у дома Василька упал: ноги передние подкосились – полетел всадник через голову.
Отец с крыши по лестнице – вниз! Василёк – следом! Мамка за ними, прихрамывая:
– Куда вы?
А всадник, пеший теперь, уже у ограды:
– Председатель где?
– Да где ж ему быть? – папка Василька удивился. – У себя, наверное. Дома. Выходной же сегодня!
– А в правлении что, сторожа нет? – человек удивляется, дышит через слово, будто сам бежал, а не на коне мчался. – Мы вам из райцентра звоним-звоним! Звоним-звоним!
– Ветер был! Сильный! – Василёк в разговор взрослых встрял. – Провода порвало, у нас с крыши железо снесло!
Хотел Василёк ещё про ветер сообщить, про беды деревенские сказать, да тут мамка поспела:
– А случилось что?
Глянул на неё человек из райцентра, всадник бывший, а теперь пеший, и словно из пушки картечью выстрелил – одним словом ранил всех:
– Война!
Схватилась мамка за сердце, лицом побелела, из глаз болью плеснуло. Отец вздрогнул. Василёк замолчал, сжался.
– Война! С немцами!
…Потом митинг был. В колхозном клубе тесно-тесно собрались. Все до единого, никого по домам-избам не осталось.
Человек из райцентра речь говорил долгую, обстоятельную, – отдышался уже и чаю напиться успел, у председателя. Говорил человек и про врага коварного, и про страну нашу великую, и про то, что каждый теперь в нашей стране – воин! Кто с винтовкой на фронт должен идти, кто на полях, на фермах трудиться по-военному: без сна-отдыха!
Кто-то из стариков спросил-прошамкал беззубо:
– Ейнто чегось, мобилизацию объявят, всех мужиков под гребёночку?
– До мобилизации пока далеко! Красная Армия у нас самая сильная! День-другой, и на чужой земле воевать будем! – человек ответил уверенно, так что все бабки, бабы и девчонки разом с облегчением вздохнули. Но потом огорошил: – Однако все, кто призывного возраста, прямо сейчас же в райцентр, в военкомат! Там решение примут!
* * *
Мамка не плакала. Молча всё делала. Но не сердито, как редко-редко случалось, когда отец по весёлым делам с праздников деревенских возвращался. Такое и впрямь редко было, Василёк и пяти раз за всю свою жизнь не помнил. Делала мамка всё, как и отец в кузне, расчётливо: шаг – миску железную взяла, другой шаг – полотенцем белым обтёрла, третий шаг – в руках ложка алюминиевая оказалась. Четвёртым шагом, пятым да другими собирала мамка папкин сидор – мешок солдатский.
И улеглись в сидор не абы как, а по порядочку, как положено, плотненько: рубашка с портками да портянок пара – чистые, посуда с кружкой – в полотенце вышитое завёрнутые, станок бритвенный с кисточкой пушистой, мыла два бруска – одно для стирки, другое умываться, пакетик бумажный с махоркой – не себе курить, угостить товарищей. Себе – сухариков ржаных мешочек, пирогов свежих – тёплых ещё, из печи, хлеба домашнего – каравай. Попали в сидор и другие припасы: сала кусок, консервов банка железная, тяжёлая, конфет сладких десяток, сахара полголовки…
Напоследок мамка вспомнила: носки шерстяные с варежками – сама вязала! – папке из чулана принесла, первый раз после клуба слова сказала. Горько, еле себя сдерживая:
– Вдруг оно… она… затянется…
Ничего папка мамке не ответил, обнял только и так крепко к себе прижал, что косточки захрустели.
Потом сели они оба на лавку у печи, и опять тишина избу наполнила. Долгая тишина, тягостная. Страшная чуток. Василёк поёжился даже.
Но вот поднялся папка, а мамку остановил:
– Жди! Василёк проводит!
И осталась мамка ждать, а Василёк стремглав – вот радость-то, папка его с собой берёт! – в сени кинулся, а там и за ограду.
А за оградой плач да рёв, да вой, будто покойника на кладбище везут.
Полдеревни дорогой идёт. За деревню.
За каждым мужиком, что мешок-сидор за плечами тянет, человек по нескольку: жёны под руку, матери с другой стороны, детвора вокруг, старичьё ещё, что ходить может. Все со слезами кормильцев на войну провожают.
Вот тут по-настоящему Васильку страшно стало. Сердце заторопилось куда-то, в горле ком встал – вцепился Василёк папке в рукав пиджака:
– Папка! Не ходи! Не надо! Зачем?
– Так! – строго папка сказал, сверху вниз глянул: – Ты у меня кто, мужик?
– Мужик, – нетвёрдо Василёк ответил. Добавил увереннее: – Буду!
– Вот! – улыбнулся папка грустно. – Кто у нас защитники: мужики или бабы?
– Мужики! – уже без колебаний Василёк выдал.
Почти сразу за домом сошёл папка с дороги, что на войну вела, на луг васильковый, на кочку уселся, людям, что на него недоумённо глянули, сказал:
– Пять минут, догоню! – И Василька рядом посадил: – Вот, говоришь: не ходи. Не надо. Зачем? Затем! Родину защищать! Напали на неё враги: землю хлебную хотят захватить, заводы-фабрики себе забрать, людей – кого погубить, кого рабами сделать. Такое уже было, знаешь, почему у тебя дедов нет.
– Родина, она большая! – Василёк из себя выжал. Сам понимал, что не то говорит, а вот, вылетело же! – Народу у нас много. И Красная Армия большая. Тебе – зачем воевать?
– А что? Может, и вправду дома остаться? – папка вдруг будто удивился мысли такой. – Я останусь! Так ведь и другой так решит. А там третий, четвёртый! Вся деревня, за ней – город, потом дальше.
Из армии солдаты домой пойдут, и что? Иди через границу любой – делай, что хочешь, бери, что видишь! Нет, не правильно это, не по-людски. Не по-мужицки. Да и что люди про меня подумают: трус?
– Нет, ты не трус! – замотал головой Василёк головой. И быстро-быстро заговорил, чтоб не подумал папка про него чего недоброго. – И я не трус! Я это, я тебя проверял как бы! А то ты мне: мужик – не мужик! А я мужик! Я с тобой пойду! Я тоже родину защищать буду! Мы вместе…
– Стоп! – папка вдруг Василька остановил. – Я на войну уйду, ты на войну уйдёшь, а кто тогда с мамкой останется? Кто её защищать будет? А ведь она у нас… Ты хоть понимаешь, что такое Родина?
– Да! – Василёк головой закивал. – Это страна наша!
– И так оно, и не так, – папка головой покачал.
– Это почему это не так? – Василёк удивился.
– Ну… – папка хотел было одно сказать, да вместо того вопрос задал: – А с чего она, родина, начинается, знаешь?
– С Москвы! – Василёк выпалил.
– А ты её видел хоть раз? – папка всерьёз спросил, без улыбки. – Вживую! Вот так, чтобы рядом?
– Нет! – мотнул Василёк головой. Добавил затем: – На картинке только видел. В книжке. В читальне. В клубе.
– А вживую что видел? – папка спросил.
Огляделся Василёк:
– Деревню нашу. Лес вон, поле. Небо видел! – И – удивился: – Это Родина?
– Она! – согласился папка. – Страна наша и Москва далее этих мест будут. Но и деревня наша – не первая.
– А что первое? – Василёк аж рот раскрыл, позабыл и про войну, и про другое всё прочее.
– Что-о! – папка сердито протянул. – Не что, а кто! Сам-то догадаться не можешь?
– Да как?
– Да так! Просто! Просто когда человек рождается, кого он первым видит? К кому прижимается? От кого всю любовь с молоком берёт?
– Мамка?! – Василёк ахнул, с кочки луговой соскочил. – Мамка – наша Родина?!
– Для каждого человека так! – папка сказал. Серьёзно сказал, серьёзней не бывает. – Для каждого самое святое – его мамка. Ведь ты представь! – как со взрослым говорил с Васильком отец. – Вот не будет матерей, кто нам жизнь дарить будет? Некому за такое дело взяться! И не будет тогда ни деревни твоей, ни города. Ни поля, ни леса, ни неба огромного! Страны – и той не будет! Вовсе!
…Уже давно ушёл папка дорогой, что вела его на войну. И все мужики деревенские, кому в военкомат полагалось, ушли.
Опустела дорога. Луг опустел.
Один только Василёк среди травы высокой стоял, и звучали в сердце отцовские слова:
– Я нашу Родину на дальних рубежах защищать стану. А ты – здесь! Без тебя мамки нашей не будет. Ты ей последняя защита! Помни это, Василий!
7
– Странная штука – память. Что только не хранит! И с каких времён! Я вот себя с десяти месяцев помню. Правда-правда! Мне и матушка говорила – подтверждала, мол, да, было. Это когда я у неё спросил, а, правда, было? А что… Я с десяти месяцев рисовать начал. На ноги встал в девять, а рисовать – в десять. Как сейчас помню! У отца со стола карандаш упал, я и подполз ближе. Так посмотрел, с другой стороны глянул. А отец посмеяться решил, спросил: «Рисовать будешь или нет?» И лист бумажный дал. Я этот листок на полу разложил и – давай! – солнце рисовать: круг, а от него палочки – лучи, значит… Жалко, рисунок не сохранился. Отец в тридцать восьмом умер. На работе повздорил, домой вернулся, на кровать лёг – и не встал больше. Бумаги его забрали. Он же у меня ответственным работником был! Пришли с работы, все папки, все книги, с которыми он дома работал, всё! С собой! Где-то в одной из папок и мой первый рисунок оказался… Сколько их потом было! Спрашивали: сколько? Отвечал! Каждый помню. Самый неудавшийся эскиз – и тот. В памяти. А сколько картин в голове сейчас! Меня ведь в армию не брали: художник! Плакаты предлагали рисовать, над листовками работать! Я считал: нет, моё место на фронте. В военкомате турнули. В комитете комсомола тоже подождать предложили. А потом… Захожу в институт, а там в ополчение записывают. Есть в Москве площадь Пушкина, вот там я и стал солдатом. То есть ополченцем сперва. До первого привала. В деревушке какой-то. Письмо решил с дороги домой черкануть, матушке отправить. Пошёл почту искать и отстал от своих. Туда, сюда, время военное, никто не знает, куда ополченцы ушли. Мужики деревенские даже арестовать хотели, как шпиона. А тут ваша, ну, теперь наша, часть. «Кто таков?» – командир спросил. Я, как есть, доложился, покаялся, а потом и говорю: «Возьмите к себе!» Взяли… Эх, краски я дома оставил! Карандаша не взял! Думал, не дело на войне рисованием заниматься. Да к тому же, думал: неделя-другая, месяц-второй, и закончится всё. А сейчас – руки ноют! Сплю, вижу: карандашом по ватману вожу – линия за линией, тени… Всех бы сейчас нарисовал! И всё бы!
Молодой солдат глубоко вздохнул и замолчал, запрокинув голову к небу.
Сапёры отдыхали. Был обед. Время за полдень.
Кухня пришла по расписанию. Ложками по котелкам отстучали: кашу перловую с мясным концентратом умяли, из кружек вместо чая молока деревенского выпили. Хозяйки, что солдатками стали, последним готовы были поделиться: молоко что! И овощи, и сладости красноармейцам несли, вздыхали:
– Может, и наших кто сейчас так…
Ребятня тоже рядом с сапёрами крутилась, все деревенские – от тех, у кого усы пробиваться начали, до тех, кто только ходить научился. Девчонки от пацанов не отставали. Пока старшие парни помогать пытались красноармейцам в работе, девчонки воду холодную, колодезную, для питья носили, в перекуры слушали – головами, как большие покачивали, вздыхали по-бабьи:
– Да-а…
Сапёры готовили место под армейские склады: ямы глубокие копали, из леса брёвна таскали, стенки ставили да крыши настилали – добротно всё получалось, крепко.
В деревне, несмотря на военную тайну, знали: в поле возле леса будут боеприпасы хранить, много. Снаряды для пушек, мины для миномётов, патроны для пулемётов и винтовок…
Молодой солдат вздохнул ещё раз, и старший из сапёров, по званию старшина – четыре треугольника в каждой петлице! – вдруг выдал:
– А нарисуй!
– Как?!
– А вот так! – старшина обвёл взглядом столпившихся вокруг ребят. – У кого дома краски и бумага есть?
– У меня! – не колеблясь, боясь, что опередят, шагнула вперёд Зинка. – Я сейчас! Я быстро!
И, не дожидаясь ни слов, ни того, что кто-то так же скажет, припустила со всех ног в деревню. А потом – обратно.
Молодой солдат, что учился на художника, поморщился, глядя на высохшие, уже почти полностью использованные акварели, и взялся за карандаш:
– Им нарисую!
– Кого? – одно слово ребятня выдохнула хором, ближе к солдату придвинулась, каждый в душе птичку-надежду держал: а вдруг его нарисуют? Не кто-нибудь, а художник! И не простой, а военный! – Кого?
– Давайте вас, товарищ старшина! – выдержав паузу, предложил солдат.
Старшина улыбнулся в густые пшеничные усы, поскрёб пятернёй коротко стриженый затылок – пилотка за ремень была заткнута – и махнул рукой:
– Ну, ты, парень, это!
Сапёры поняли слова старшины по-своему, засмеялись:
– Хотел Ваня начальству угодить!
– Поближе к голове – подальше от работы!
– Рыба ищет, где глубже…
– Да я, да, честное слово! – солдат-художник даже покраснел от таких слов. – Да как вы подумать могли! Да я же комсомолец!
– А ну, тихо! – останавливая и смех и грех, старшина голос повысил. – Меня, оно, конечно, можно. И про начальство здесь – зря! Однако… Вон, их рисуй! – махнул он рукой в сторону ребят. Девчонка вон, зря, что ли, за красками бегала? Вырастет, замуж соберётся, рисунок за приданое сойдёт!
Тут уже покраснела Зинка – ребята наперебой своё выдавать начали:
– Зинка замуж собралась!
– Невеста, где жених?
– Цыть! – цыкнул старшина на ребятню. И снова художнику сказал, выбрав из толпы того, кто в сторонке стоял: – Вон, его изобрази!
У Василька бровки вверх взлетели от удивления: «Меня?!» Он до того в сторонке стоял, думал, как поступить. Вместе со всеми оставаться – интересно. А вот на ферме у мамки дел много – ей бы помочь. Мамка теперь устаёт сильно, работать за двоих приходится. На ферме воды надо накачать – коровы пить хотят, навоз надо убрать – на двор вывезти. И с солдатами побыть хочется: а вдруг им по срочной какой связи скажут, когда война закончится, и папка домой вернётся.
– Да! Точно! Витязь на распутье! – выдохнул художник, на Василька глянув. И рукой взмахнул, поманил: – Иди сюда!
* * *
Склады сапёры сделали. Всё как положено. Даже минное поле вкруговую устроили. Генерал какой-то распорядился. С инспекцией приезжал. На машине пропылённой, сам от пыли белый весь. Старшине руку пожал, красноармейцев словом кратким поблагодарил. Воды холодной, что девчонки принесли, выпил, крякнул и обратно в машину – только пыль столбом!
Старшина первым делом ребятню, что с сапёрами крутилась, собрал. Приказал, как солдатам своим:
– А ну, стройся!
После того про минное поле рассказал.
– Знаю, – сказал, – что вы – люди советские, врагу секретов военных не выдадите. Но для вашей же безопасности, для того, чтобы родители ваши не пострадали, говорю. Мина, она сама по себе мала, а смерти в ней – не на одного человека может быть. Здесь таких смертей вокруг много будет. Вот так мы их в землю прятать станем, – показал. – Вот так они сверху выглядеть будут: чужому взгляду неприметно, а вам понятно. Мы эти мины так положим: с краю под одной вразброс, а дальше так, что, если на одну наступишь, сработает сразу много. До неба земля встанет, лес вздрогнет – черно станет, страшно! Приказ вам, ребятня, и просьба у меня такая: не ходить сюда более.
Всё, как положено, сапёры сделали. Ушли пешком. Под ночь, когда приказ привезли. Мотоциклист привёз. И тут же назад умчался.
Ушли сапёры, а боеприпасы на склады не завезли. Не успели. Война слишком быстро к деревне подошла.
Сперва далеко грохотало – зарницами, затем ближе – грозой, а потом и вовсе самолёты залетали – жёлтобрюхие, с крестами на крыльях. Во многих домах-избах деревенских крыши пулями пробиты оказались, пожары не один раз случались.
* * *
– Рисунок я тот не сохранила! – вдруг всхлипнула старуха, возвращая меня к реальности.
Её мысль, и без того нескладная, неловкая, убежала куда-то то ли в сторону, то ли вперёд.
– Какой рисунок? – не понял я сперва.
– Да тот, на котором Василёк был. Художник нарисовал!
– Почему…
Я хотел спросить: почему рисунок Василька оказался у старухи, но та поняла иначе. Перебила, не дав договорить вопрос.
– Глупая была! В сорок пятом дали мне десять лет. Лагерей. Молодая не молодая, а отправили дорогу строить. Там горы кругом. Летом жарко, зимой холодно. Вольные взрывники гору подорвут, мы, девки да бабы, камень уносим. На носилках. Это когда вдвоём. А одна если – тачкой катали. Сперва дорога рядом была, минут двадцать ходки, затем – полчаса, потом – час, а там и больше того. А рабочий день – четырнадцать часов. И на сон – сколько от всего дня осталось. И кормили плохо. Утром встанешь: каша пустая да чай на траве. В обед к каше баланду добавляли из старой капусты. На ужин – то, что от баланды с обеда осталось. Многие тогда поумирали. Да кого это заботило!..
Январь уже был, сорок шестого. Сил совсем мало оставалось. Дали пять минут у костра погреться. Я села, да так горько стало – волком вой, а веселее не будет! Хорошо, рисунок рядом. Я, когда на него глядела, жить снова хотелось. Сила у него такая была, что ли… Нет, не что ли! Была! Я ведь с ним всю войну там выжила. Гляну – живу. И берегла его себя сильнее. А тут… Достала, в руке держу, гляжу… Задремала. Пять минут прошло, все поднялись, а я нет. Охранник подскочил, как даст прикладом по спине! Я в костёр! Руками вперёд. И понять ничего не могу, только вижу: горит мой Василёк. Руки мои тоже прихватило, ну, да с ними что, подумаешь – руки!
Не знаю, что нахлынуло, камень рядом лежал – схватила да как дам солдатику по головушке! Да в висок! И – насмерть. Вот так вот. Был человек – нет человека. За то и срок добавили, и уже другой тропкой пошла я.
8
Своих Зинка не выдала. Хотя и поиздевался Зверь над ней изрядно. Бил – это что! На вожжах к потолку подвешивал – терпела. Терпела и после, как над телом глумиться начал. Там уж и сознания почти не было.
Ничего фашисты о партизанах не узнали. А Зинку Зверь самолично на кладбище утащил. Там у немцев яма была выкопана. Для таких, как Зинка. Издевались фашисты над людьми до смерти, а потом туда – в яму. Когда штабелями – по-немецки аккуратно, когда просто так – швырнули, и всё.
Зверь думал: жизни в Зинке не осталось. Сердце послушал – молчит вроде. Ну и ладно. Раздел её, и голышом в яму! Одёжку-то продать ведь можно, а нет, так на самогон обменять – всё прибыток. Напоследок, к счастью для Зинки, карманы проверил. Рисунок Василька нашёл – посмотрел, губы поджал, плечами повёл, к Зинке кинул, в яму: мусор!
Зинка от холода оклемалась. Сверху – снег, снизу – мертвецы, сбоку – земля. Со всех сторон стыло.
На кладбище тишина: ни фашистов, ни полицаев. Зверь тоже ушёл. Что ему с покойниками рядом делать?
Чтобы согреться, пришлось Зинке чужую одежду брать. С мёртвых тел. Ботинки большие – с мужчины, у которого висок пулей пробит был, кровь пузырьком запеклась. Чулки старые – с бабки дряхлой; её-то за что? Нижнее, рубашку – с мальчишки, Зинки чуть постарше; у него руки-ноги перебиты были.
С кого ей ватник достался, Зинка не поняла; лица у человека не было – месиво.
Как Зинка из ямы выбиралась, одному Богу ведомо. Ногти на руках содрала. Лицо, и без того в синяках, до крови застывшими кусками глины исцарапала.
Рисунок Василька увидела – обрадовалась. Правда, ни слёзинки не выбежало и улыбки не получилось, а силы откуда-то взялись. Вылезла Зинка из ямы.
Хотелось к своим. Тепла хотелось. Пить – хоть капельку воды. Хоть из лужи, хоть из болота! Снег не помогал, от него только хуже становилось – колотило так, что не слышала ничего, не видела. А на дорогу вышла – облава.
Сунули Зину в кузов грузовика к молодым девчонкам да парням, кто с Красной Армией уйти не успел, и на станцию железнодорожную. Там всех по вагонам, опять же грузовым, растолкали: сесть нельзя, только стоя – так тесно.
«Тук-тук, тук-тук», – вагон на стыках рельсовых постукивал.
«Тук-тук, тук-тук», – сердечко у соседки Зинкиной стучало, а потом остановилось. Так и ехали: кто живой, кто неживой – все рядышком, все стоя.
Где поезд встал, когда? Среди ночи выгнали всех на холод. Тех, кто сам шёл, баландой из гнилой картошки накормили. Тех, кто умер, из вагонов выбросили – за руки за ноги и вниз: «Тук-тук, тук-тук».
И снова: «Тук-тук, тук-тук…»
В том же вагоне.
В Германию.
* * *
Продавали их в каком-то пакгаузе.
Опять, как и в первый раз, выгнали из вагонов тех, кто мог двигаться, покормили супом – из брюквы уже, построили по четыре и так, колонной, между составов, – вперёд!
Не повезло тем, кто шёл с краёв. С краёв колонну охраняли немцы с овчарками. Многих девчонок собаки покусали. Фашисты их ради смеха на девчонок натравливали.
Покусанных долго никто не покупал. Зинку – тоже. И маленькая – все остальные возрастом лет по шестнадцать-двадцать, и синяки на лице так и не зажили, и ногу овчарка порвала – стоять тяжело было, валилась-падала, соседки стоять помогали.
Какой-то старик позже всех приехал. В пакгаузе уже свободно сделалось. Там сперва тех, кто покрасивей был, отобрали. Немка важная ходила – даже зубы заставляла показывать. Кто-то из девчонок немецкий понимал, в школе дурочку не валяли, ахнули:






