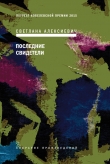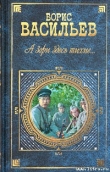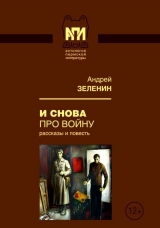
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)

У ИВАНОВА СЫН РОДИЛСЯ
Рассказ
В сентябре сорок первого Иванову повестка пришла, в армию.
В октябре он уже на фронте был и почти до Москвы дошёл – отступал.
В ноябре его ранили – легко, в медсанбате полторы недели пробыл и к декабрю опять на передовой оказался.
В декабре Иванову письмо пришло: сын родился. Первый.
Из политотдела дивизии агитатор в роту прибыл – рассказывать, что такое Москва, что такое Советский Союз, как к нам страны другие относятся, чего от нас ждут, и что завтра наступление…
Думал агитатор: как бойцов так собрать, чтобы побольше их его услышали? А бойцы – вот они, кто от службы свободен, все вокруг Иванова сидят – сто человек вокруг одного разместились!
Что такое?
А у Иванова сын родился! Не каждый день такое бывает.
Все бойцы подарки на посылочкуу домой Иванов принесли: кто сахара кусок, кто печенья пачку, кто платок носовой, кто обмылочек – в деревне всё в дело сгодится. У кого для дитя ничего не нашлось, папашу молодого побаловали: козью ножку[18]18
Козья ножка – самодельная папироса, самокрутка, заломленная таким образом, чтобы из неё не высыпался табак; формой напоминала ногу козы.
[Закрыть] свернули, сто грамм налили, обойму винтовочную в подсумок сунули – пять патронов дополнительно – это ж тоже не просто так!
Сидит Иванов у костерка, козью ножку потягивает, отвечает:
– Спасибо, братцы!
А братцы рассказывают:
– У меня первый-то уже в седьмой класс пошёл, пишут – учиться не хочет, на завод собрался, раз в армию не берут! Будет, говорит, снаряды делать.
– А мой нынче, вместе с классом, весь сентябрь в полях провёл: колоски собирали, а потом – картофель. Десять лет пацану всего!
Ему учиться бы! А он – в поле с утра до ночи. Как большой работает.
– А у нас две девчонки, – третий говорит. – Пишут, школу под госпиталь заняли. Так они пока не учатся, в том госпитале работают: бельё стирают, бинты. Перевязки делают уже, научились.
А четвёртый вздыхает:
– А мои там остались, под немцем. Трое. Мал мала меньше. Живы ли?
Иванов итог подводит:
– Завтра дадим немцу прикурить! Чтоб все ваши живы остались, чтобы все учились! И мой – тоже.
– Дадим! – бойцы соглашаются. – Ещё как!
– Мой в Москву всё хотел! – другой боец разговор про сына начинает. – На Кремль посмотреть. А тут война!
– А мои в университет московский после школы собирались поступать! Они у меня двойней родились. В Москве до того не бывали, а вот же: в Москву!
Иванов и тут слово вставил:
– Вот отобьём немцев, все на столицу посмотрим! И я своего Ваньку привезу!
– Отобьём! – бойцы соглашаются. Спрашивают: – Что, Иваном решил назвать?
– Жена в письме спрашивает: как? – Иванов отвечает. – Отпишу: пусть Иваном!
– Сколько ж народу горе мыкает из-за этого Гитлера клятого! – старый солдат вдруг вздохнул. – У парня сын родился, а он его когда ещё увидит!
Встал Иванов:
– Увижу! А не увижу, неужто ему не поможете?
– Да тьфу ты! – солдат ругнулся. – Я всю страну изъездил! От Тихого океана до Балтийского моря. Большая у нас страна. И больше в нашей стране людей! Не тех зверей, что у Гитлера, а людей именно! Таких ни в каком другом государстве не найдёшь! Помо-огут! Обязательно. А нам… Нам только дай до этих фашистов добраться! Скорее бы в бой уже!
– Скоро! – Иванов сказал. – Давайте-ка оружие лучше проверим да письма домой напишем. И я своему Ваньке отпишу…
Поднялась рота – разошлись бойцы по землянкам, по взводам своим, по отделениям: лейтенанты, сержанты, красноармейцы. У костра один агитатор остался – лоб трёт: надо же, приехал говорить, а и слова не произнёс! Что в политотделе докладывать?
Вернулся в штаб дивизии, в политотдел, а там командующий армией, генерал:
– Здравствуйте, товарищ старший политрук. Откуда?
– С передовой, товарищ генерал! В одну роту ездил с докладом о текущем моменте и грядущем наступлении.
– И что там, в роте?
Полагалось агитатору доложить как есть, сказать, что задание не выполнил, но вдруг вспомнил старший политрук, что в роте было, улыбнулся и ответил:
– У красноармейца Иванова сын родился!
– Да ну! – будто не поверил генерал. А затем и сам улыбнулся: – Это хорошо! – Потом и вовсе засмеялся: – Так и командующему фронтом доложу!
Доложил – не доложил, неведомо, может, и было. Ну, а Иванов к концу января сорок второго почти двести километров прошагал. На запад. И не просто так, а с боями их прошёл – каждый километр. Не отступал – наступал.
И дальше бы пошёл, да в одной из атак получил тяжёлое ранение. В грудь да в живот. По солдатским меркам – не жилец был, но… Что уж там с Ивановым в госпитале делали, однако на ноги его подняли. А вот воевать – не отпустили. Подчистую комиссовали.
Вернулся Иванов домой, в деревушку свою уральскую. Жену обнял, Ванюшку – крепко-крепко, и сразу же к начальству колхозному: давайте работу! И до самой Победы за двоих-троих трудился: рожь растил, картофелем занимался, на лесозаготовках лес валил да дрова рубил.
После Победы, не сразу, конечно, но полегче стало. И мужики стали возвращаться – опять же не все, понятно: кто убит, кто без вести пропал, – не все, в общем, вернулись.
В сорок шестом, в мае, хоть выходного и не было, а всё одно загулял народ девятого, особенно к вечеру. Фронтовики вышли – на гимнастёрках старых бронза да медь, а у кого и серебро с золотом: ордена. Медали. А у Иванова – ничего!
Ванюшка уже в уме был, много чего знал, в четыре с половиной года имя своё писать умел, вот и спросил, на других глядя:
– Папка, а ты воевал?
– Воевал.
– А где твои награды?
– А вот, – Иванов ответил, на две нашивки, на гимнастёрке, с правой стороны над карманом, ткнул – одна жёлтого цвета, другая красного: за тяжёлое ранение да за лёгкое. – Все мои награды тут…
В том же сорок шестом, перед ноябрьскими[19]19
Ноябрьские – праздник – годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции, праздновалась (с 1927 года) два дня – 7 и 8 ноября (до 1992 года).
[Закрыть], пришла в деревню повестка. Из военкомата. Иванову. Народ удивлялся: неужто в армию опять? Инвалида! Как так? А Иванов, что ж, лошадь у председателя испросил и на другой день с утра пораньше в район уехал. И назад вернулся. Быстро. К полудню.
С лошади с трудом слез – устал. А шагнул – и зазвенело.
Ох, Ванюшка потом гордился! Это ж надо ж! Папке четыре медали сразу дали! И каких: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу»[20]20
Полное название медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
[Закрыть] и «За доблестный труд»[21]21
Полное название медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
[Закрыть] ещё – в придачу!
Полно народу в тот день в доме у Ивановых перебывало – радовались. Все радовались, как своему, – никто не завидовал. И ещё радовались: жена у Иванова опять на сносях была, ещё одного Иванова ждали, маленького.
Через неделю, наверное, отрядил председатель Иванова сено с дальнего поля возить. Один воз Иванов доставил скоро, но уезжал – вздохнул:
– Тяжело что-то!
Будто знал. Будто чувствовал.
Второй воз привёз, сгружать начал – и осел. Всё. То ли пуля какая, в госпитале недостанная, дошла, то ли сосуд какой где лопнул – повалился в снег и не встал.
Доярки, заведующий – кто там были – кинулись помочь, да разве тут поможешь. Ну, встали кружком: кто молчком, кто со слезой. А из деревни – на ферму – девчонка бежит, соседка Ивановых:
– Ура! Ура!
Цыкнули на неё:
– Цыть! Молчи, ошалелая!
– А чего молчать? – девчонка не поняла. Да как закричит: – У Иванова сын родился!

ЗВЁЗДОЧКА
Рассказ
Командира они несли уже четвёртый день. Точнее, четвёртую ночь. Днями идти не решались – уж больно много вокруг было немцев. Поэтому днями старались забиваться в лесную глушь и отсиживались там, уговаривая пустые желудки урчать потише. Но есть всё равно хотелось, и не помогали ни трава, ни корешки. Стрелять в живность, встречавшуюся в чаще, не решались – опять же боялись немцев; хоть и было у каждого по винтовке, да пистолет у командира, а вот с патронами – по два на брата, негусто.
Лейтенанта ранило тяжело – в голову. Приходя в сознание, он требовал оставить его, говоря, что не жилец. Не малодушничал, нет – считал, что одна его жизнь не стоит пяти жизней его подчинённых.
Подчинённые, пятеро красноармейцев сорокового года призыва, лейтенанта не оставляли. Изначально ещё между собой решили: не бросать. Несли на самодельных носилках, меняя друг друга, подавая командиру воду, набранную в попадавшихся ручейках и болотцах, говоря:
– Вас, товарищ лейтенант не один год учили, сколько всего затратили, чтобы из вас командир получился! А вы: оставьте! Нет уж, отработаете за учёбу, тогда уж и…
Чего – уж и, никто не знал.
…На очередную днёвку остановились ближе к утру. Можно было ещё идти, но не знали куда. Со всех стороны гудели моторы.
Двое, отправившись на разведку, вернулись быстро.
– Слева дорога, по ней танки идут и машины. Справа другая дорога. Тоже немцами забита: машины и повозки. Просветов почти нет – колонна за колонной! А впереди – река. И мост. Большой.
– Торопятся, гады, на восток! – прохрипел лейтенант и потерял сознание – ему становилось всё хуже и хуже.
– Как бы совсем не того… – начал было про командира один из красноармейцев и замер.
– Здравствуйте! – в просвете между деревьями и кустами стоял мальчишка – обыкновенный деревенский пацан: босоногий, вихрастый, одетый в серые портки на лямке и такую же простую рубаху.
Сразу схватились за винтовки:
– Ты как тут? Ты кто?
Мальчишка спокойно шагнул к солдатам, сунул руку в карман штанов, достал кусок чёрного хлеба:
– Держите. Голодные, наверное.
Красноармейцы насторожённо прислушивались к лесу.
– Ты один?
– Я тут как бы корову ищу, – мальчишка присел над лейтенантом. – Плохо ему?
– Плохо, – согласился один из солдат.
– Здесь вам не пройти! – пацан поднялся, оглядел красноармейцев, их оружие; винтовки были в порядке, ухоженные. – Патронов нет?
– Мало!
– Ждите! – мальчишка повернулся уйти.
– Стой! – озаботились бойцы.
– Всё нормально! – пацан обернулся на них. – До ночи вам отсюда не выйти. А у меня – получится. Я несколько раз туда-сюда схожу. Не бойтесь, не сдам. Я – советский.
Ему было лет десять на вид, не больше. Через час он вернулся. Врасплох уже не застал – солдаты ждали.
Мальчишка принёс с собой узелок: варёный картофель, лук, бутылку молока, горбушку хлеба:
– Чем богаты. – Затем достал из кармана что-то, обёрнутое носовым платком. Пояснил: – Здесь шприц и ампула. Врача привести не могу, не пройдёт. Она лекарство дала, сказала, чтобы вы командиру укол поставили. Я подожду – шприц обратно нужен.
Потом мальчишка снова ушёл, пообещав вернуться. Двигался он бесшумно и быстро. И не было его долго. Ждать отчаялись, но зато лейтенанту стало легче.
Кстати, узнав обстановку, лейтенант загрустил:
– Здесь не пройти и не прорваться. Предлагаю такой вариант: вернуться немного назад и попытаться обойти большие дороги. Реку форсируем там, где немцев нет.
– А может, иначе? – голос мальчишки заставил всех вздрогнуть.
– Ты как?! – встрепенулись солдаты. – Мы ж тебя не заметили!
– Я здесь вырос, – пояснил пацан, вышагивая из-за кустов. – Знаю то, чего никто не знает. У меня отец – лесник и охотник, и дед охотником был, и прадед. – Потом выдохнул: – Фу-у! Еле донёс.
Только тут все обратили внимание на то, что мальчишка пришёл с грузом. На плече, обёрнутое тряпками лежало нечто длинное и тяжёлое. За спиной висела сумка – тоже не пустая.
В тряпках оказался ручной пулемёт – Дегтярёва. В сумке два диска к нему и четыре гранаты-лимонки.
– Диски полные, – пояснил мальчишка.
– Откуда? – только и смог выговорить лейтенант.
– Оттуда, – хмыкнул пацан. – У меня к вам, товарищи солдаты, разговор.
Бойцы, заулыбавшись, переглянулись: каков, а!
– Слушаем, – ответил за всех лейтенант.
Мальчишка сунул руку в карман штанов, достал оттуда маленький квадрат бумаги – развернул, и перед командиром оказалась карта.
– Вот здесь мы! – мальчишка ткнул в листок грязным, испачканным в земле пальцем. – Здесь шоссейная дорога, здесь грунтовая. Этот мост вам не пройти. Переправиться рядом тоже не удастся. Нужно вернуться сюда! – палец переехал из одной точки в другую. – Вам, конечно, не дойти, – мальчишка взглянул лейтенанту в глаза. – Вы можете остаться. Я буду приходить с лекарствами. Через несколько дней сможем забрать. Мы придём…
– Стоп! – лейтенант сумел собраться с силами и поймал руку мальчишки. – Мы, нужно… Ты кто, за кого говоришь?
– У нас здесь оставлена группа наших товарищей. Я не могу назвать их. Они мне доверяют…
– А с чего ты доверился нам? – лейтенант сморщился – возвращалась боль. – Может, мы переодетые немцы, выискиваем таких, как ты, простачков.
– Вы у меня не первые, – глухо ответил мальчишка. – Я уже шестую группу отправляю. Две послушались – прошли. Других немцы поймали. Расстреляли. Я вижу: кто наши. Вы – наши.
– Продолжай! – лейтенант отпустил парня, откинулся головой на ствол дерева.
– Вот здесь тоже есть дорога. Небольшая. Есть и переправа: паром, лодка. Там движения почти нет. Но немцы стоят. У них есть мотоцикл. Вы теперь с оружием – эту переправу захватить сможете. И мотоцикл возьмёте. Досюда доедете. Тут мотоцикл бросить придётся и дальше снова пешком. Вот.
– Что-то ещё? – выдержав паузу, спросил лейтенант.
– Да! – пацан сунул руку в другой карман. – Здесь донесение для наших. Важное. Можете прочитать, запомнить. При нужде надо будет уничтожить. Донесение о фрицах: об их аэродроме и складах. С такой бумагой надо к командирам, которые разведкой занимаются. В штаб дивизии или лучше – армии.
– Как тебя зовут? – лейтенант снова приподнялся.
– Не скажу! – мальчишка мотнул головой. Прижал руку к сердцу: – Нельзя. Если фашисты узнают…
– А ведь мы вернёмся сюда! – голос лейтенанта дрогнул. – Обязательно! И как же нам тебя узнать, кому сказать спасибо?
Мальчишка задумался. На мгновение. Перевёл взгляд на красноармейцев. Потом вновь посмотрел на командира, на его фуражку. Улыбнулся:
– А вы мне свою звёздочку дайте. Она приметная. У неё, вон, справа краешек отбит.
– Пулей зацепило, – согласился лейтенант.
– Вот как вернётесь, я её на свою кепку сделаю! Сразу увидите! – пообещал мальчишка. Предупредил: – К переправе выходите ночью. – Спросил, не надеясь: – Значит, товарищ лейтенант, не останетесь?
– Мы командира с собой! – твёрдо сказал один из красноармейцев. – Не бросим!
– Я с ними! – так же твёрдо произнёс лейтенант.
…В июле тысяча девятьсот сорок первого года группа советских бойцов, потеряв двух человек и уничтожив шесть фашистов, захватила вражескую переправу, мотоцикл и оружие.
Паром и лодку наши – после переправы – разбили и утопили. На мотоцикле, усадив раненого лейтенанта в люльку, проехали около пятидесяти километров. Потом, бросив технику, с боем, потеряв ещё одного бойца, вышли к своим.
Донесение о немецком аэродроме и складах было доставлено по назначению.
Лейтенанта отправили в госпиталь.
Красноармейцы, после недолгой проверки, вновь оказались на передовой.
…В сентябре тысяча девятьсот сорок четвёртого года, после официального завершения Белорусской наступательной операции по одной из тысяч просёлочных пыльных ещё дорог шли двое в военной форме. У одного на плечах были погоны капитана: просвет и четыре звёздочки. У другого – две красные нашивки: младший сержант.
– А помнишь? – спрашивал офицер.
– Ещё бы! – вскидывал голову к небу сержант.
– Ребят жалко, не дожили! – вздыхал капитан.
И его товарищ опускал голову:
– А как мы вас тогда несли! Как переправу брали!
За спиной осталась река, переправа с наведённым через неё простым деревянным мостом – старый, основательный, был взорван отступившими фашистами. Впереди был лес – незнакомый и знакомый до щемящей в груди боли.
– Где-то здесь, – остановился у первых деревьев младший сержант. – Мы с Иваном сюда выходили, на дорогу смотрели. А вы, – солдат махнул рукой, – там оставались. С остальными. И мальчишка туда пришёл. А на дороге – не протолкнуться было: фрицы пёрли!
– Дорога и сейчас полна, – вздохнул капитан.
– Нашими! – дополнил младший сержант.
По дороге шла пехота: взвод за взводом, рота за ротой. Стрелки перемежались артиллеристами. Батареи были на конной тяге. Кони ржали, колотили копытами пыль. Семидесятишестимиллиметровые пушки, подпрыгивая на выбоинах, катились ходко – радовали глаз. Где-то далеко урчали двигатели танков.
– Силища! – констатировал сержант.
Место их, трёхлетней давности, стоянки командир и солдат нашли почти сразу.
– Здесь!
Не сговариваясь, сняли головные уборы: один – фуражку, другой – пилотку.
Постояв немного, выбрались обратно на дорогу.
– Если верить карте, деревня там! – махнул рукой в сторону капитан.
Однако деревни не было.
Было пепелище.
Ещё было несколько землянок. На окраине бывшей деревни, за которой простиралось заросшее густой травой поле.
– Мины там. Мины, – пояснил старик, сидевший на чурбанчике, стоявшем у одной из землянок. – Немцы заминировали. Чтобы мы ничего не садили. Чтобы партизан не кормили. Край у нас партизанский здесь был. Никто немцев не слушался. Все против них были. Вот и деревню за то сожгли. И людей постреляли. Кто успел убежать, тот и остался. Немного нас осталось. Кого смогли, похоронили. А некоторые живьём сгорели, так и косточек не осталось – пепел ветром унесло.
– Нам в сорок первом здесь неподалёку мальчишка один помог, – дрогнувшим голосом произнёс капитан. – Хотели найти, поблагодарить.
– Такой, знаете, невысокий, волосы белые! – подхватил младший сержант.
– Многие помогали, – старик, подобрал валявшуюся за чурбачком суковатую палку, опираясь на неё, с трудом поднялся. – Пойдёмте, товарищи командиры.
Прошли они немного. У края поля остановились.
– Вот! – старик не махнул рукой, не ткнул палкой – взглядом указал, куда следует смотреть. – Вот, тут, может, и ваш помощник лежит.
У края поля возвышалось над землёй несколько серых холмиков. Могильных.
– С левого краю деревенские похоронены. С правого – партизаны. Так немцы сказали. Расстреляли их прилюдно. Кто уцелел потом, хоронили. И я хоронил. Среди партизан двое парнишечек было. Оба белые. Ни того, ни другого не знаю. Может, с соседней деревни. Но её тоже нет, тоже сожгли. И людей там никого не осталось – ни одного… Мы, когда партизан хоронили, посмотрели: у мальчишечки одного кулак сжат… Нехорошо, с кулаком в могилу. Разжимали-разжимали – с трудом превеликим разжали. А у него там звёздочка. Вот как у вас, – старик взглянул на фуражку капитана и пилотку сержанта. – Так она у него в ладошку впилась – до крови. Мы эту звёздочку в чурбачок вдавили. Крест православный ведь не поставишь, а памятник – не получается. Вот звёздочка эта – как памятник…
Младший сержант первым шагнул к могиле.
Мельком глянул на надпись: «Партизаны. 8 человек. Август 1944».
Задержал взгляд на звёздочке.
Шумно вздохнул.
Позвал:
– Товарищ капитан! Идите сюда!
Офицер подошёл медленно. Посмотрел и вздохнул тоже. С облегчением.
– Может, и жив? – неуверенно произнёс младший сержант.
Помолчав, капитан с уверенностью произнёс:
– Жив! Не может такой погибнуть!
Звёздочка была другой. Не тронутой пулей. Целой.

ШАПКА-НЕВИДИМКА
Рассказ
В Белоруссии дело было. Нужно было взрыв на железнодорожной станции устроить. А как взрывчатку туда пронести, гранаты, мины? – вопрос. В мешке или в руках – не получится. И просто так – не пройти.
Станция важная. Фашисты всех жителей оттуда выселили: куда хотите, туда и идите. А кто не хотел уходить, тех повесили. Для устрашения. Вдоль автомобильной дороги, что на станцию вела, на столбах, тела долго висели. Фашисты, они, что ж, им жизнь человеческая, если не своя, – пустяк!
На станцию немцы пускали только тех, кто там работал: слесарей в депо, бригады паровозные – машинистов с кочегарами. Ну, ещё иногда тех, кто пути от снега очищал; с деревень ближайших народ с лопатами сгоняли, женщин в основном.
Подпольщики с партизанами попробовали через слесаря одного взрывчатку на станцию переправить, человеку нужному, но не получилось. Фашисты перед станцией всех обыскивали – и догола раздевали, бывало такое, если что. Слесарь сначала пару гранат-лимонок хотел унести, но в одежду прятать не стал, решил умнее сделать: жена ему суп красный сварила – ботвы свекольной нашла, так он гранаты в суп остуженный сложил, на дно кастрюльки, мол, сверху не видно, что на дне. А фашисты суп увидели, и ложки достали – поесть решили. Раз – ложками в кастрюльку! А там гранаты!
Слесаря расстреляли. И жену его – тоже. Дом, где они жили, в деревне, сожгли. Для устрашения опять же.
Думают наши: что же делать? Станция важная, через неё каждый день десятки эшелонов с немецкой техникой и живой силой проходят, боеприпасы фашисты везут – против Красной Армии всё, чтобы задержать войска советские, чтобы подольше им, фашистам, на чужой земле оставаться: грабить, убивать.
Попробовали партизаны боевым отрядом на станцию напасть. Пятьдесят почти человек пошло! Подготовились хорошенько – у всех автоматы, пулемёты. А у немцев – поле минное вокруг станции и кроме пулемётов на вышках специальных ещё миномёты с пушками.
Много партизан ранено было, много погибло – не получилось с боем станцию взять…
Сидели в лесу в землянке командир с комиссаром, разведчики партизанские – о своих печалились, думу думали: как же быть? Как же Красной Армии помочь, чтобы скорее землю белорусскую от вражьей нечисти очистить?
И вдруг!
Стук в дверь!
И часовой входит:
– К вам, товарищи, Михась пришёл.
Михась – мальчишка десяти лет. Отец у него партизаном был – в бою погиб. Мать полицаи убили, она партизанам хлеб пекла. Для Михася отряд партизанский и отец, и мать, и брат в нём каждый, и сестра, кто женского пола.
– Что, Михась, случилось? – командир спросил. – Или обидел кто?
– Кто меня обидит? – Михась удивился. Сам шапку снял, пальтишко старенькое расстегнул, за стол уселся. – Помочь хочу!
– Ну! – командир не понял, удивился.
А Михась будто и не слышит, речь ведёт:
– Такой план! В нашей деревне дядька-машинист живёт, один, бобылём[22]22
Бобыль – неженатый, бессемейный человек, одинокий.
[Закрыть]. Я с ним договорился, чтобы он к моей тётке посватался. Она давно одна, вдовая, и тоже согласилась. Для виду они согласились, для дела. Дядька будет у тётки жить, по утрам на станцию ходить, на работу, а я к нему на обед – носить то, что тётка сготовит. Ну, как бы по-сродственному. А сам потихоньку гранаты да мины стаскаю. И там уж рванём!
– Да ты что! – командир ахнул. – Ведь обыщут и найдут! Не знаешь, что ли, что до тебя пробовали!
– Не найдут! – Михась заявил. И серьёзно так добавил: – У меня шапка-невидимка есть! – Потом поднялся: – Завтра спытаю. Гранаты я уже взял. Две штуки.
– Да кто тебе разрешит?! – рассердился командир.
Но Михась уже застёгивался:
– А вам больше – никак! – и вышел из землянки. – Прощевайте пока.
– Задержать! – командир приказал. – Под домашний арест! – Испугался: – Погубит себя парень из-за нас!
Кинулись вслед за Михасем, а того и след простыл – в лесу он все тропки партизанские знал-ведал, ушёл. А командир на другой день опять отряд к станции повёл. Почему? Да все партизаны знали про разговор с Михасем и, дисциплина, конечно, дисциплиной, но тут такое дело – и без командира на выручку мальчишке ушли бы. Так что пришлось отряд вести. Командиру.
От леса до поста перед станцией больше полукилометра пустого пространства. Фашисты весь лес, что раньше к станции подходил, вырубили, чтобы видно им было: откуда и кто идёт.
Залегли партизаны за крайними деревьями, в сугробах притаились – за полкилометра, ближе не подойти – во все глаза глядят во все стороны.
В полдень, когда обед, когда автомобили да повозки перестали по дороге ходить, показался на ней Михась. Идёт – узелком помахивает.
Немцы сперва, конечно, за оружие взялись, а после пригляделись: ну, пацанёнок, ну, мало ли!
Командир за врагами в бинокль смотрел. Снайпер партизанский прицел с одного на другого фашиста переводил. Другие автоматы в руках сжимали да винтовки. Пулемётчики пальцы над гашетками держали: оборони кто, хоть Господь, Михася!
Михась издалека перед фашистами шапку снял, поклонился степенно, будто мужичок маленький. Загоготали немцы, что гуси, но, по мордам видно стало – понравилось гадам такое уважение.
– Куда? – переводчик спросил.
– Дядька у меня тут, на паровозе, – Михась ответил. – Сказал, что вам передаст про меня. Что я приду. Обед ему несу – тёплого ему надо, живот у него больной.
– Передавал, – переводчик согласился. Посуровел тут же: – Показывай, что несёшь!
Михась узелок перед немцами поставил, раскрыл: смотрите!
Ну, а что там в узелке? Чугунок с супчиком. В супчике картофеля несколько кусочков да лука долек несколько – водичка прозрачная, но горячая, так и парит над снежком. Кусок хлеба ещё в узелке: невелик, но сбоку откусан.
– Не утерпел, – Михась плечами пожал. – Самому есть хочется.
Не стали немцы суп Михасев пробовать. И хлеба кусок не забрали.
Пальтишко только снять заставили – встряхнули: пыль летит, а больше ничего. И в карманах – пусто, и в штанах, и за пазухой.
– Проходи, мальчик, да не задерживайся! – переводчик опять постарался.
– Благодарствую вам! – Михась немцам поклонился, шапку на голову нахлобучил, под гогот фашистский на станцию прошёл не спеша.
– Фу-у! – командир выдохнул, пот со лба стёр. – Зима зимой, а будто жнивень[23]23
Жнивень – по-белорусски: август.
[Закрыть] наступил, а я в шубе!
…Михась в отряде к вечеру появился, когда партизаны, от станции вернувшись, сами успокоились.
– Ну? – только и смог командир у мальчишки спросить.
– Две гранаты пронёс, – Михась спокойно ответил. – Как и говорил. Завтра ещё две унесу. Дядька всё нашему человеку передаст.
– Как? Где? В чём? – у командира с комиссаром куча вопросов на языке вертелась.
– Я ж говорю: шапка-невидимка у меня есть, – улыбнулся Михась и прочь засобирался. Из отряда: – Мне теперь у тётки надо ночевать, в деревне. Вдруг проверять будут.
На другой день история повторилась. Перед обедом, когда на дороге перед станцией всё стихло, появился Михась. Так же издалека снял шапку, так же серьёзно поклонился немцам.
На посту стояли не вчерашние, другие. Суп, правда, тоже не стали пробовать – что там пробовать-то: вода с луком да картофелиной! – поглядели только. А вот хлеба кусок забрали, не поглядели что надкусанный. Забрали и яйцо варёное, которое сердобольная тётка положила машинисту, – жалко ведь мужика, да и приглянулся к тому ж.
Пальто с Михася опять снимали – трясли, карманы вывернули, рубаху задрали, портки обшлёпали. Напоследок под зад сапогом дали: проходи уж!
Михась и тут не обозлился – поклонился, «Благодарствую!» сказал, шапку нахлобучил и на станцию потопал.
Вечером в отряде признался:
– Ходить больно, синяк в ползада!
А про то, как гранаты пронёс, опять выдал:
– Я ж говорю: шапка-невидимка у меня!
А какая у мальчишки шапка? Ушанка старущая, облезлая, без уха одного – оторвано, передок не пришит – на глаза налезает, на пять размеров больше.
Вместо гранат на третий раз забрал Михась толовые шашки – по сто грамм, из больших шашек напиленные, из тех, что в два да в четыре раза больше нужного были.
И на третий раз история повторилась.
Переводчик уже знакомый был и другим немцам, что Михася впервые увидели, сказал что-то. Те, смеясь, мальчишке в ответ покланялись и… узелок смотреть не стали – пальто расстегнуть заставили, и всё: шагай к дядьке!
Михась в пояс поклонился:
– Спасибо, люди добрые! – шапку нахлобучил и – топ-топ на станцию: – Дай вам чего и того тоже!..
Десять дней ходил Михась на станцию. А на одиннадцатый, среди ночи, знатно грохнуло!
Рассказывали потом, убитых своих фашисты два дня хоронили – крестов на станции выросло, что ёлочек в лесу! И ещё неделю через станцию эшелоны не ходили. И паровозов несколько в депо сгорело. И бригады паровозные на службу к немцам не вышли. И из деревень много народу пропало. Ну, как пропало – потом, как Красная Армия пришла, из леса, из отрядов партизанских к родным местам вернулись, кто жив остался: землю пахали, дома заново строили. Михась до того, жалко, не дожил. Попросился у командира в команду подрывников, тот и дозволил. На одном из занятий – мину немецкую разбирали, учились – мина взорвалась…
А шапкой-невидимкой Михась свою драную шапку называл – в ней гранаты и тол проносил, и перед немцами снимал, и в руке крепко держал, чтобы из подкладки ничего не выпало – в подклад всё прятал. На шапку немцы не смотрели – видели только: кланяются им. А это только так было – для виду, для дела. Для Победы. За неё и поклониться можно было. За неё нужно кланяться – всем, кто хоть что-то ради мира сделал. Даже и мёртвым.