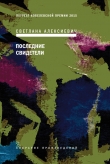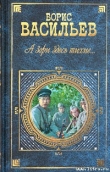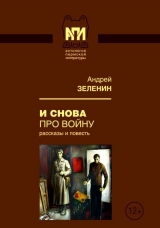
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)

ВАСЬКА-ПАРТИЗАН
Рассказ
Той зимой фашисты лютовали особо. Просёлочными дорогами между деревушек, да и в самих деревнях виселиц стояло много. И на каждой мёртвые тела ветрами качало.
Когда наши в наступление пошли, здорово по фашистам ударили: без оглядки, изверги, бежали – иной раз и дома сжигать не успевали. Хотя и так часто бывало: освободят красноармейцы деревню, а от неё только трубы печные – и ни души живой, даже собак, гады, перевели!
В одну деревушку наша рота с ходу ворвалась, предыдущую с боем пройдя. Бойцы, атакой удачной разгорячённые, и дальше пошли бы, да остановились – замерли. Вдоль единственной улицы – десять виселиц. По числу дворов в деревушке.
Семь женщин, три старика.
На каждом теле табличка картонная, на верёвочках, написано аккуратно и по-русски: «Заложник».
Не успели бойцы опомниться, народ из ям, из сараев полез: старухи да дети малые. Да какой народ! Двух десятков не набрать! Навзрыд рыдали: дождались! Детишки солдатам на шеи кидались – не оторвать.
Политрук – мужик в возрасте – командиру, что годами помоложе, сказал:
– Ты, давай, вперёд иди, гони этих собак в хвост и гриву! А мне взвод оставь: похороним товарищей. Потом нагоним. Не отстанем.
Так и порешили.
Кто остался, разделились: одни могилу копать принялись – братскую, другие трупы с виселиц снимать стали. До десятой виселицы дошли… и – ахнули! В сугробе, так метелью занесло, что и не видать, ещё одна – одиннадцатая! Махонькая! Кто на ней – за снегом не разобрать.
– Ироды! – простонал кто-то из солдат. – Неуж и дитя не пожалели?
Начали сугроб раскапывать, а на виселице… кот. Обыкновенный.
Серый. В полоску тёмную тусклую. Таких по деревням нашим – десятками ходят. А этот… В струнку вытянулся – холодом свело. Пасть оскалил – в смертных судорогах. И на тельце – не на верёвочке – на колючей проволоке, так что в кожу колючки железные впились, тоже табличка.
«Партизан».
Как? Что? Почему?
Тут деревенские, особенно дети старались, и поведали.
Зимним днём солдат немецкий на дороге мёртвым оказался. А у фашистов как? За одного своего – десять советских. Вот заложников и повесили: трёх стариков – всех, кто из мужиков в деревушке оказался, да семь женщин. Ну, а Ваську, кота…
Когда фашисты казнь свершили, обедать собрались. Кухня у них полевая была – большая, каши в ней или чего другого – на сто животов, а то и больше. Повар в передничке накрахмаленном черпаком командовал: откроет котёл, помешает, попробует. Соли добавлял, да ещё чего. Тут Васька и выскочил.
В деревне давно живности никакой не было. Как фашисты пришли, сразу всех коров, коз, свиней да куриц переловили. Потом собак перестреляли. Мыши, и те пропали – никогда такого не было, а вот: пропали. Так Васька где-то одну и сыскал да придушил. И, то ли порадоваться, то ли похвастаться, с собой на кухню фашистскую притащил.
Когда повар немецкий в очередной раз котёл открыл, чтобы черпаком варево помешать, Васька и угадал. Заскочил на котёл и мышь из пасти – в варево: нате вам, гады, мясо наше, жрите!
Что тут поднялось! К кухне давно уж очередь из фашистов стояла, ждали, когда поесть доведётся. А тут – на тебе! – диверсия!
Кто из них первым: «Партизан!» – завопил, понятно, не разобрали. Кинулись все за котом, ну и поймали.
Кричал Васька, царапался – троим или четверым фашистам морды в кровь изодрал, другим руки исполосовал; разозлились оккупанты. Виселицу быстрёхонько соорудили, ну и… Повесили Ваську.
Проволокой табличку прикручивали – стонал кот, и на верёвке долго дёргался – жить хотел.
…Уходя за своими товарищами, бойцы с политруком залп из винтовок дали. Свежей земле поклонились, поклялись: идо Берлина добраться, и Гитлеру шею свернуть. И ушли. На запад.
Могила братская хорошая получилась, ладная: с деревянным столбиком, на котором имена всех погибших записали, со звездой, из консервной банки вырезанной, – над столбиком поставили.
Когда уходили бойцы, политрук парадным строем их по дороге провёл. Руку к шапке вскинул, красноармейцы последнюю честь погибшим отдали: братской могиле – большой, и ещё холмику маленькому. На нём тоже столбик стоял. И надпись имелась – химическим карандашом, чтобы долго не смывалась: «Васька-партизан». И дата гибели: «Январь, 1942».
…И вот что интересно: сколько лет прошло, и деревни той не стало – жителей в село соседнее перевезли (потом кто старый – сами померли, кто помоложе, дальше разъехались), и из могилы братской тела на большое кладбище перенесли (там теперь никого не сыскать), и дороги той нет – лес на том месте густой, от могилки маленькой следа не найти, а след-то всё-таки остался. В памяти. И пусть не все помнят, но есть. Помнят.

ТАКАЯ ЭКОНОМИКА
Рассказ
Орудий на батарее не осталось. И людей – по пальцам пересчитать. Большинство – раненые, некоторые не по одному разу.
Немцы готовились к очередной атаке. Только что, отбомбившись, улетели на запад их самолёты. Но продолжали скрипеть миномёты – и земля плевалась камнями и пылью.
Политрук, пригибаясь, прячась за скальные обломки, ныряя в неглубокие окопчики и щели, оббегал позицию:
– Стрелять – точно! Последний патрон – себе! – Спросил, к Жорке в расщелину заскакивая: – Сколько у тебя патронов?
– Два! – отозвался лихой моряк.
– Один – врагу, другой себе! – резанул политрук. – Советские бойцы в плен не сдаются!
– Кто бы спорил! – коротко хохотнул Жорка, заламывая бескозырку. – В плен не сдамся! Но и патрон себе не оставлю!
– Не по-онял… – протянул политрук; готовый сорваться с места к следующему оставшемуся в живых защитнику, он замер на месте. – Это что за…
– Что за – что за? – Жорка, потомственный черноморец с кулаками лихого драчуна и физиономией забияки, казалось, подразнивал старшего товарища.
– Что за… разговорчики? – подобрал, наконец, относительно нужное слово политрук.
– Эт-не разговорчики! – Жорка чесанул за ухом своей лапищей. – Эт-экономика!
– Ка-акая экономика? – опять не понял политрук.
– Советская! – моряк расплылся в довольной улыбке.
Неподалёку хлопнула мина – взвизгнули, ударившись о разбитое орудие, разлетаясь, осколки, потянуло пылью и тротилом.
– Вот! – Жорка махнул свободной рукой, в другой держал винтовку, в сторону взрыва. – Эт-сколько фрицы денег – марок своих – на нас ухлопывают! Посчитать, так со счёту собьёшься! Одна мина – эт-тебе не рубль. И не десять! Поболе будет! Сколько они на нас мин кинули?
– Много, – пожал плечами политрук.
– Во-от! – с непонятным удовольствием протянул Жорка. – Эт-сколько они марок на ветер выбросили? Наших-то – никого не задело! Все в укрытиях! Даже царапинки ни на ком! И нам – экономия! Мы ж по ним ни копеечки не спустили! Мы ж их поближе ждём, чтоб наверняка!
– Ну? – ещё раз непонятливо дёрнулся политрук.
– Так вот я говорю: я патрон себе не оставлю! – снова хохотнул Жорка. – Не правильно это! Наши люди его делали: свой труд вкладывали – патрон денег стоит. Наших денег, советских! И если я хотя бы один патрон в себя пущу – получается, свои деньги впустую истрачу! А вот если на фрица – тогда всё верно!
– А как же потом?
– Не волнуйся, командир, в плен Жору не возьмут! – моряк привстал, глянул из расщелины на немецкие окопы. – У меня ещё штык и душа морская! Штыком я поболе, чем двух на тот свет отправлю, а душу… Это ж сколько им на меня патронов извести придётся, чтобы я со своей земли не поднялся! – Жорка даже крякнул. – Ух, сволочи! Сколько ж они своих марок на меня потратят – сколько денег изведут! Да если бы таких, как я, как мы то есть, – поправился моряк, глядя на политрука, – много будет, так у фрицев патроны не на что делать будет, не то, что мины или бомбы! В общем, – подводя итог разговору, выдал Жорка. – Все патроны по врагу, а дальше – штыком, ножом, камнем! Зубами, чтоб им!.. Такая моя экономика.
Миномётный обстрел прекратился, из немецких окопов поднялась пехота.
Политрук побежал обратно:
– Все патроны по врагу! А дальше – штыком, ножом, камнем!..
За спинами наших бойцов свирипело Чёрное море, горел и сражался Севастополь.

КЛАДБИЩЕ ДЛЯ ПАШКИ
Рассказ
Когда немцы первый раз бомбили Сталинград, в окно её комнаты залетел осколок бомбы. Осколок не задел ни её, ни маму – он ударился о стену и упал на Мишку.
Мишкой звали её игрушечного медведя. Медведь был маленьким и мягким – тряпичным, набитым старыми же тряпками.
Мишку сшила мама, когда ей (не маме!) исполнилось три года – на день рождения.
Осколок бомбы был горячим, и Мишка загорелся. Когда бросились тушить игрушку, оказалось – поздно. У медведя обгорели все лапы, брюхо, но самое страшное – сгорела – полностью! – голова.
А на четвёртом этаже осколки бомбы убили старуху Симонову. А на первом – тётю Фаю.
Взрослых похоронили на кладбище. Мишку там хоронить не разрешили.
Нельзя, значит, нельзя. Но оставлять погибшего медведя дома тоже не разрешили.
– Я сошью тебе другого, когда война закончится, – сказала мама. – А этого придётся выбросить.
– Нельзя! – сказала она и ушла в палисадник.
Палисадник был разбит прямо под окнами дома. В нём росла сирень, и были посажены цветы.
Под сиренью она выкопала ямку, положила в неё Мишку, поплакала, а потом забросала ямку землёй и сделала аккуратный холмик.
Ночью ей не спалось. «Не так как у взрослых получилось! – пришла мысль. – Надо сделать памятник и оградку!»
Оградку она сделала из веток, их на сирени было много. Памятник со звездой – не получился. Пришлось сделать как у бабушки – крест: палочки – крест-накрест – она связала суровой ниткой, взятой у мамы. Взятой без спроса. Мама почему-то ничего не давала: ни ниток, ни спичек, ни бумаги. Мама жалела даже карандаш. Говорила, что он нужен для школы, что придёт осень.
Но до осени нужно было пережить лето. А лето оказалось очень жарким.
Немецкие самолёты налетали на город с самого утра. Спасаться от них приходилось в подвале. И каждый раз, выходя наружу, она не узнавала свою улицу. И свой дом. И свою комнату. И ей каждый раз приходилось привыкать, что соседнего дома теперь нет – есть только огромная куча кирпича, железа и дерева. Что в её доме, в её подъезде нет двери, а над вторым подъездом нет крыши. Что в её комнате теперь нет окна. Точнее, окно есть, но стекла в нём нет, вместо него – лист фанеры с дырочками; мама сказала, что дырочки – следы от пуль, потому что фашисты не только сбрасывали бомбы, но ещё и стреляли из пулемётов.
В середине августа она снова не узнала свою комнату: в ней рухнул потолок, который раздавил их с мамой шкаф, комод, кровать и коробку с игрушками. В коробке жили Даша и Роза – куклы, сделанные соседом – дядей Николаем. Он работал плотником на заводе «Баррикады» и последнее время совсем не приходил домой. А кукол он вырезал из двух кусков дерева. У них было всё, что должно быть у кукол: ноги, руки, головы. На головах – глаза, носы, губы. Дядя Николай умел делать многое – комод, раздавленный потолком, тоже был сделан им.
Дашу и Розу она похоронила радом с Мишкой. По утрам, уходя в подвал, она гладила самодельные крестики и разговаривала с игрушками:
– Простите! Не уберегла я вас.
Так говорили взрослые – на большом кладбище. Говорили своим родным, своим друзьям, соседям. Она повторяла эти слова и печалилась, что больше никогда не сможет положить Мишку рядом с собой в кровать, никогда не сможет придти с Дашей в гости к Розе или вместе с ними обеими к соседям: Шуре и Вовке.
У Шуры и Вовки комната была пока цела. И потолок. И стены. И пол. Но и Шура, и Вовка, как все оставшиеся жители дома – дети и старики – день проводили в подвале. Спали. Те, кто мог работать, и мама тоже, днём куда-то уходили: то в город, то к Волге – рыть траншеи и окопы.
Вечером мама возвращалась в подвал. Она приносила с собой воду, кусок хлеба, иногда немного крупы, из которой варила жидкую-жидкую кашу.
Ночью никто не спал.
Ночью она похоронила Костика. Так звали щегла, который жил в комнате Шуры и Вовки. Его тоже убили немцы. Днём, когда все были в подвале. Бомбой.
В честь Костика Шура и Вовка дали залп по фашистам – они взяли по несколько камней и метнули их в небо, когда там басовито завыли моторы; вражеские самолёты теперь бомбили и ночью.
Несколько ночей Шура и Вовка метали ввысь камни, и два раза им удавалось сбивать фашистские самолёты. Наши прожектористы ловили вражеские машины в перекрестья длинных ярких лучей, грохотали наши зенитки, тряслись стены дома, дрожала земля, пущенные ребячьими руками камни летели в небо – и достигали цели: самолёты вспыхивали и с воем неслись вниз.
А утром вновь приходилось уходить в подвал.
А однажды она не смогли выйти из него.
Уже наступил вечер, но он не принёс прохладу – было жарко. Очень-очень жарко. И по-прежнему гремело снаружи. Очень-очень гремело. И всем хотелось выбраться из подвала, и плакал Вовка – он был самым младшим, в школу он собирался только через два года. Всем хотелось на улицу, но дверь из подвала не открывалась. На неё наваливались, её толкали, в неё били, а она не открывалась. И все столпились перед дверью. И когда дверь вдруг распахнулась, никто не смог спрятаться.
Взрыв был очень громким, а огонь, ворвавшийся в подвал, очень жарким и ярким.
Она зажмурилась и подумала, что больше никогда не увидит маму и своё кладбище. А ей повезло.
Кладбище она увидела.
Маму – нет.
Она думала, что на улице ночь. А на улице было светло– как днём. Потому что город горел: дома, развалины, заборчики, скамьи. Казалось, по разбитым улицам плывёт, как вода в реке, огонь.
Она не знала, что фашисты сбросили на город кроме других бомб ещё и зажигательные.
Она думала: как ей спрятаться от огня?
И она пошла к своему кладбищу. К сирени, которой уже не было. К холмикам, с которых огненным ветром смело самодельные кресты.
Рядом с Мишкой, Дашей, Розой и Костиком она стала рыть землю – куском доски, куском стекла, руками. Земля была мягкой, поддавалась легко, и чем глубже, тем было прохладнее.
Там, в яме она и уснула. И сколько спала – не помнила.
Разбудил её голод.
Мамы рядом не было. Не было воды, не было хлеба. Не было и огня. Но был дым: злой, едкий, от которого слезились глаза и хотелось кашлять.
Голод оказался сильнее дыма. И она пошла в свой дом. В дом без окон и дверей – без крыши и стен.
Она ползала по кирпичам, железу, углям и натыкалась на разные вещи. И все они были мертвы – убиты: кастрюля с дырой в боку, ведро без дна, половина кружки с крючком вместо ручки, оплавленная труба от патефона, чёрный от огня табурет с одной ножкой.
Там, где раньше был второй подъезд, она нашла обгоревший сухарь. Полизала его и поняла: без воды не то что его – ничего съесть не сможет. И вспомнила: в подвале оставался бидончик с водой.
В подвале ей пришлось узнавать. И она узнала.
Вовку она узнала, потому что он был самым маленьким. Шуру – потому что она была немногим выше брата. Со взрослыми оказалось сложнее. Их тела обуглились, и от одежды ничегошеньки не осталось.
И вода в бидончике выкипела. Почти вся. Почти. На дне осталось чуть-чуть. С чёрными хлопьями. Хватило на полтора глотка. Но после этого съелся сухарь.
А в соседнем доме – в таких же развалинах, что и её дом – она нашла несколько печёных картофелин.
Потом она догадалась, что на её кладбище можно обойтись без крестов – почистила несколько обломков половиц и угольками на каждом куске дерева написала нужные слова; спасибо маме, она научила её буквам – готовила к школе.
На кладбище появились памятники – из половиц. Она втыкала их в землю, в холмики: МИШКА, ДАША, РОЗА, КОСТИК, ВОВКА, ШУРА, СОСЕДИ…
День и ночь в городе гремело и свистело – во все стороны летали снаряды и пули. Она привыкла не замечать этого.
В соседних домах она нашла ещё немного еды: крупу, пару банок с консервами, полусгнившую морковь. В обломке стеклянной банки оказалось чуть-чуть воды. Потом ещё столько же она нашла в чудом уцелевшем чайнике.
Разрасталось кладбище. Появились памятники с табличками «ЧУЖАЯ КУКЛА», «ЧУЖОЙ КЛОУН», «ДВЕ ТЁТИ», «КОШКА»…
А потом она перестала находить еду.
А потом – воду.
А потом у неё совсем не осталось сил.
…Осенью, когда было уже холодно, сквозь артиллерийский гул и ружейную стрельбу она услышала шум шагов. И кто-то остановился над её ямой.
Она открыла глаза и увидела закопченное мужское лицо, склонившееся над ней.
– Ты кто?
– Пашка.
– Он или она? – не понял военный.
– Прасковья, – пояснила она.
– И что ты здесь делаешь?
– Умираю, – спокойно ответила она. И попросила: – Вы мне памятник сделайте, напишите на нём моё имя. – И повинилась: – Я уже не могу.

ПРО ВОЙНУ
Рассказ
К вечеру стихло.
– Угомонились фрицы, – сказал Сашко, подбросив в печку очередной кусок дерева.
– До утра теперь, – добавил вслед за механиком-водителем стрелок-радист «тридцатьчетвёрки» Емельянов.
Ещё один член танкового экипажа, заряжающий Савельев, промолчал. Он был занят более других: чистил рыбу.
Ещё с утра над небольшой железнодорожной станцией стояли дымы. Грохот орудий и пулемётная стрельба забивали слух. И – пахло гарью.
Снаряды падали то тут, то там. Крушили станционные пакгаузы. Рушили и без того худые дома. Попадали и в речушку, что текла неподалёку.
В общем, к вечеру, когда стрелковый батальон, усиленный танковым взводом, выбил-таки фашистов со станции, глушёной рыбы хватило на всех: и пехоте, и орлам из коробочек.
Коробками пехота называла «тридцатьчетвёрки». Орлами стали танкисты в устах пехотного комбата. Он же, командир батальона, распорядился выделить уцелевшие дома танкистам. Для ночлега.
Перекосившаяся дверь неожиданно скрипнула.
– Чёрт! – вздрогнул Сашко и замахнулся поленом. – Напугала, шалава!
Грязная беспородная псина, сунувшаяся было в дом, попятилась.
– Ух! Ух! – заухал Емельянов и захлопал в ладоши, прогоняя собаку. – Пошла, пошла!
– Да вы чего, мужики? – неожиданно произнёс Савельев с такой укоризной в голосе, что Емельянов смутился.
– А чего она? Больная, поди. Вон, шерсть так и слазит. Да хромает ещё.
– И напугала! – механик-водитель по-прежнему держал в руках полено.
– Эх, вы! – вздохнул Савельев и, прихватив с собой самую крупную рыбину, вышел из дома.
Вернулся он через несколько минут. Вместе с собакой.
– Не бойся!
Псина виляла хвостом.
– Сейчас всю рыбу у нас… – начал, было, и недоговорил Емельянов.
– Дурак ты! – незлобно ругнулся Савельев.
Собака смотрела не на рыбу. Она пыталась ласкаться к заряжающему. Пыталась тереться о его бок. Припадала на больную лапу.
– Может, жила здесь. Может, хозяева её здесь обитали, – Савельев дочищал рыбу, тянулся к луковицам, найденным в доме; уха обещала быть что надо.
– Что-то не замечал я за тобой доброты такой, – Емельянов подозрительно косился на псину. – На прошлой неделе фрица пленного кто кокнул?
– А ты его фотографии видел? Ту, где он людей расстреливал? – взъярился Савельев. – Да их! Да всех!..
Собака глухо заворчала на Емельянова, будто понимая, кто обидел заряжающего.
– А вдруг она бешеная? – Сашко отложил полено и взял другое, поувесистее.
– Я собак знаю, – Савельев вздохнул, успокаиваясь, потрепал псину за загривок. – С детства знаю.
– Ну-ну, – заинтересовался Емельянов.
– Расскажи-ка, – не то просто так, не то попросил Сашко; в экипаже он был старшим и по возрасту, и по званию – старшина.
– Мне тогда пять лет было, – без предисловий начал Савельев. – Появилась у нас в деревне собака. Откуда, никто не знал. Так, приблудная. Я её и не видел сперва. За околицей в поле в Чапаева играли. Осень стояла. Ну, я в стог сена заскочил, спрятаться надо было, и не понял сперва ничего, только живое будто под ногами, и хруст какой-то-то, а потом больно стало.
Собака та щенная была. Щенков собой прикрыла. Я ей на лапу наступил, сломал. А она мне ногу прокусила. Насквозь.
Ох, и злой я тогда стал! Что нога! Заикаться начал, со страху-то. Задразнили бы, коли так и остался!
К врачу в райцентр возили. Уколы ставили. Бинтовали. Бабка-травница от икоты лечила, отец ей курицу за то отдал.
В общем, как только ходить смог, подговорил я ребят на месть. Пять лет, а ведь что в голову взбрело! Щенков у собаки камнями забить.
Ну, и забили. Всех.
Самой мамаши в стогу не было. За пропитанием куда бегала или ещё что, не знаю.
Три ночи за деревней вой стоял. Плакала она.
Видел я её потом. Ходила по деревне. Хромала. Если ребята толпой ходили, сторонилась. Если поодиночке, зубы скалила, кидалась. Всех пацанов в деревне перекусала, меня только не трогала. Взглянет, и всё. И уходит.
Зима тот год рано наступила. Пруд наш деревенский льдом затянуло за одну ночь. Я, дурак, с утра пораньше, на пруд и отправился. Боты большие, отцовские. Разбегусь – скольжу. На середине только – хрусть! – и услышал.
Треснул лёд.
Крикнуть не успел, очутился я в воде. Одёжка промокла, тяжёлой стала, вниз потянула. Я сколько мог, барахтался, а сил нет. И мыслей – никаких. И лёд, как возьмёшься за него, ломается. Не забраться на лёд. И до берега – далеко.
В общем, помирать бы, да чувствую, будто смотрит на меня кто. Я голову запрокинул, а то она. Собака та. Смотрит на меня. Пристально так. Не отрываясь. Взгляда не отводя.
У меня первая мысль, мол, бросится, загрызёт! И другая: да что там – загрызёт, вцепится в горло и на дно утащит!
Дальше не помню. Дальше отец рассказывал. Отец по делам колхозным мимо проезжал. Вон как вышло!
В общем, спасла меня та собака. В пруд кинулась. И лёд грудью била, и меня снизу подталкивала, чтобы не захлебнулся.
Так что, я на берегу оказался, а собака – утонула.
– А ведь ты у неё детей! – покачал головой Емельянов, глаза округлил от доброго десятка чувств, заполнивших душу после савельевского рассказа…
Уха вышла на славу. Взводный[12]12
Взводный – командир взвода.
[Закрыть], вернувшись с совещания от комбата, ел да нахваливал. Экипаж тоже и варево хлебал и рыбу наворачивал так, что за ушами пищало. Спать легли сытые.
Ночью немецкая разведка сняла наших часовых. Вражеский отряд вошёл на станцию.
Савельев проснулся от того, что собака прикусила ему руку.
– Ты что? – дернулся, было, заряжающий, вспомнив детство.
И – обомлел.
Собака, глухо ворча, подтаскивала к ему автомат…
Сдёрнув чеку с гранаты, гитлеровец распахнул дверь дома и размахнулся.
В тот же момент ударила автоматная очередь. Из дома.
Затем рвануло.
Фашистов, готовящихся добить всех, кто уцелеет в доме, разметало взрывом собственной гранаты.
И разгорелся бой.
Добежать до танка Савельев не успел. Это сделали его друзья. Они же рассказали потом, что станция осталась в наших руках. Что фрицев покрошили всех или почти всех. Что «тридцатьчетвёрка» уцелела. Что из танкистов никто не пострадал кроме самого Савельева. Да, собственно говоря, могло быть и хуже, ведь в заряжающего стреляли в упор. Сразу двое фашистов. Из тех, которые уцелели после взрыва гранаты. Но из всех пуль, выпущенных в заряжающего, досталось тому всего полторы, ежели шутя говорить. А ежели всерьёз, то одна в тело вошла, другая – скользом задела.
Остальные пули приняла на себя та самая хромая собака, что предупредила танкистов о врагах. Она прыгнула на грудь Савельеву, телом своим закрыв заряжающего в тот момент, когда фашисты подняли оружие.
– Мы её там, возле дома, – сказал Емельянов и замолчал, не то смутившись, не то горло перехватило.
– Похоронили, – закончил за стрелка-радиста Сашко. – А у нас тебе подарок. Не от нас. От неё же. После боя нашёлся. За мамкой, видно, пришёл. Не дождался. Ты погоди-ка…
Механик-водитель вдруг соскочил с санбатовского табурета и чуть ли не бегом выскочил из брезентовой палаты-палатки.
Емельянов ободряюще похлопал Савельева по руке:
– Сейчас-сейчас.
Сашко вернулся назад почти сразу же. Вот только шёл – спиной, пряча что-то от раненого товарища в своих руках.
– Ну! – не выдержал Савельев.
– А вот и подарок! – развернулся лицом механик-водитель – улыбаясь, радовался от души.
Через мгновение прямо по забинтованному Савельеву, лежащему на санбатовской койке, бездумно-весело скакал щенок – уже не мелкий, шерстью похожий на мать, но только с более крупными, широкими лапами, видно в неизвестного отца.