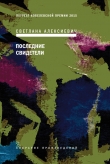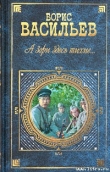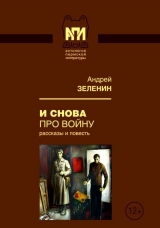
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(глава из книги, которая не будет издана)
Юрик так и сел, когда услышал, кто такой на самом деле Григорий Николаевич.
Игорь присвистнул и поскрёб затылок:
– Ничего себе ветеран!
– А за что? – только и смогла произнести Лиля.
– Да долгая история, – попытался отмахнуться от рассказа старик, но ребята не отставали.
– Мы не торопимся, – сказала Лиля.
– До вечера времени – хоть отбавляй! – поддержал сестру Игорь.
И Григорий Николаевич сдался.
– Было мне шестнадцать лет, когда началась Великая Отечественная война, – начал свой рассказ ветеран. – Жил я в деревне и работал в колхозе. Тогда школы со средним образованием не везде были. У нас, например, на несколько деревень одна семилетка имелась. Семь классов, и всё. Дальше – колхоз. Редко кто умудрялся десять классов образование получить. Ну и вот. Как сказал я уже, год рождения у меня – одна тысяча девятьсот двадцать пятый. В одна тысяча девятьсот тридцать девятом году, летом, стал я конюхом. С лошадьми, то есть, работал. Тракторов немного в колхозе было, а по лугам заливным никакой транспорт кроме лошадей не ходил. А трава на тех лугах была! – Григорий Николаевич даже головой запокачивал от нахлынувших воспоминаний. – В общем, на тех травах с тех лугов все наши коровушки колхозные без забот круглый год жили. Да и соседним колхозам перепадало.
Год Григорий Николаевич проработал конюхом. Потом стал бригадиром. А осенью тысяча девятьсот сорок первого, после трёх месяцев войны, когда в деревне из мужского населения осталось всего ничего, назначили молодого шестнадцатилетнего парня заведующим фермой.
– Всё для фронта тогда было, всё для победы, – грустно рассказывал Григорий Николаевич. – Я на своей ферме с утра до ночи пропадал. И за заведующего был, и за электрика, и за конюха. Мужиков-то уже не хватало. Ну а как семнадцать стукнуло, в тысяча девятьсот сорок втором году, пошёл я в военкомат и заявление принёс. Добровольцем. На фронт.
– А разве в семнадцать лет в армию берут? – удивилась Лиля. – По-моему, с восемнадцати!
– Ох, красавица! – вздохнул Григорий Николаевич. – В ту войну в тринадцать лет рабочими становились. Некоторые в шестнадцать лет опытными воинами уже считались.
– Значит, взяли вас в армию? – поторопил с продолжением рассказа Игорь.
Юрик сидел молча, переживая за старика.
– В армию меня взяли, – продолжил Григорий Николаевич. – Только ни в танкисты, ни на флот, как я мечтал. Стал я обыкновенным ездовым.
– А как же вы тогда Звезду Героя получили? – удивился Игорь. – Разве ездовые воевали? Они же только подвезти-увезти!
– Если бы только подвезти-увезти! Частенько и за винтовку браться приходилось. Вместе с пехотой воевал. И вот однажды что вышло…
Во время одной из бомбёжек остался Григорий Николаевич без своего транспортного средства. Коня по кличке Верный настиг осколок вражеской бомбы. Да и не только у Григория Николаевича такое несчастье приключилось. Да кроме того из всего транспортного взвода, из шестнадцати человек, в живых осталось всего семеро. На семерых три коня да четыре повозки. А с передовой тем временем боец раненый ползёт: немцы оборону прорвали! В окопах – живых никого не осталось.
Взглянули ездовые друг на друга. Молча. Без слов. Семь человек. Дядя Ваня Мокроусов, дед шестидесяти лет. Николай Бойко, колхозник, отец девятерых детей. Василий Петрович по фамилии Архипов, инвалид-сердечник, которого врачи в тылу оставляли, да сам он ни за что там не остался. Опанас Верёвка – украинец, солдат-пехотинец бывший, контуженный ещё в сорок первом. Леонтий Абрамович, кандидат искусствоведения, очкарик из Ленинграда. Старшина их взвода, пятидесяти трёх годков, вечно хмурый Иван Алексеевич, у которого немцы в Белоруссии всю семью – родителей, жену, дочь и двух внуков – в избе закрыли да живьём сожгли. И Григорий – мать в деревне одна-одинёшенька осталась.
Взглянули ездовые друг на друга. Молча. Без слов. И – бегом. Не назад. Вперёд. С винтовками. Туда, где танки фашистские гусеницами кровавыми мёртвые окопы давят.
Три танка. Семь ездовых против них.
Три пушки на танках да пулемёты, и боеприпасов для них – не меряно. Семь винтовок да по пять патронов на каждую винтовочку против врага.
Целый батальон вражеской пехоты за танками идёт. Никого за ездовыми кроме погибших товарищей не осталось.
Легли на землю горячую, огнём вражьим выжженную дядя Ваня Мокроусов, Николай Бойко, Леонтий Абрамович да Григорий и стали по пехоте стрелять – от танков отсекать, чтобы не помешали Василию Петровичу Архипову, Опанасу Верёвке да Ивану Алексеевичу. А те, втроём, подобрали в уцелевшей траншее по гранате – каждый! И – ползком. Ползком! Ползком!!! На танки.
И первым поднялся Иван Алексеевич. Во весь рост. И бросил гранату.
И грохнуло так, что зазвенело в ушах у Григория.
– Есть один! – закричал радостно Леонтий Абрамович, приподнялся от земли на мгновение и ткнулся лицом в приклад своей винтовки.
Треснуло стёклышко на очках ленинградца, и кровь из смертельной раны, будто нехотя, испачкала лицо ездового.
Следом за Иваном Алексеевичем поднялся над землёй Опанас Верёвка. Замахнулся гранатой на немецкий танк, а бросить – не успел. Пулемётчик немецкий из танка длинной очередью сразил ездового. И Ивана Алексеевича, что к Опанасу за гранатой кинулся, другой очередью сразил фашист.
А потом выстрелил этот второй – уцелевший – танк. Из пушки.
И накрыло волной осколков дядю Ваню Мокроусова. Рвануло на его спине гимнастёрку в нескольких местах, красным от крови и чёрным от земли – до смерти, и не стало дяди Вани.
А у Василия Петровича Архипова вдруг сердце прихватило. Схватился он за грудь, воздух, пронизанный свистом пуль, широко раскрытым ртом хотел глотнуть и не смог.
Увидел это Григорий, вскочил и бросился к Василию Петровичу. На помощь. Добежал почти, когда – вдруг! – словно палкой ударило по ногам! Упал рядом с Архиповым.
То пулемётчик из танка постарался. А сам танк на Григория двинулся: гусеницами гремит, пушкой, словно носом-хоботом длинным водит, ищет-нюхает. И пулемёт не смолкает. Да только все пули телу Василия Петровича достаются; прикрыл мёртвый ездовой раненого Григория.
И дождался сам Григорий! Гранату, что не смог Василий Петрович использовать так, как надо, взял и под гусеницу махине вражеской – ба-бах!
Жалко, не видел Григорий, как горел подбитый им танк, как убил Николай Бойко выскочившего на броню танкиста в чёрном комбинезоне. Рвануло рядом с Григорием. Подбросило чуть ли не в небо, да на землю так же неласково опустило.
И шёл третий танк к лежащему без сознания Григорию. И бежал наперерез танку Николай Бойко и падал, сражённый пулями.
А когда открыл Григорий глаза, то увидел рядом с собой Ивана Алексеевича. Сражённого очередью вместе с Опанасом Верёвкой.
Держал Иван Алексеевич в руках гранату Опанаса, глядел на приближающийся танк, и столько смертельной ненависти и тоски было в глазах старшины, что испугался Григорий: уже убитый человек пытался подняться навстречу смерти. Уже убитый человек добрался до Григория и смог вернуть его к жизни, чтобы он, Григорий, взял из мёртвых рук гранату и подорвал ею последний немецкий танк.
…Наступал от дальней рощи резерв стрелковой дивизии, собранный лично комдивом из тыловиков: сапожников, парикмахеров, поваров. И бежали в паническом страхе солдаты отборной фашистской части. И горел третий танк, перед которым лежали недвижимо Иван Алексеевич и Григорий.
Не смогли пройти фашисты там, где приняли последний бой против трёх танков и пехотного батальона из шестисот с лишним человек семеро ездовых с винтовками.
Семь ездовых: дядя Ваня Мокроусов, дед шестидесяти лет. Николай Бойко, колхозник, отец девятерых детей. Василий Петрович по фамилии Архипов, инвалид-сердечник, которого врачи в тылу оставляли, да сам он ни за что там не остался. Опанас Верёвка – украинец, солдат-пехотинец бывший, контуженный ещё в сорок первом. Леонтий Абрамович, кандидат искусствоведения, очкарик из Ленинграда. Старшина взвода, пятидесяти трёх годков, вечно хмурый Иван Алексеевич, у которого немцы в Белоруссии всю семью – родителей, жену, дочь и двух внуков – в избе закрыли да живьём сожгли. И Григорий – мать в деревне одна-одинёшенька осталась.
Потрясённые сидели ребята – Игорь, Лиля, Юрик – и смотрели, и не верили своим глазам: по щекам Григория Николаевича текли самые настоящие слёзы. И падали слёзы на стол, оставляя на чистой белой скатерти мокрые пятна.
– За тот бой, – тихо сказал Григорий Николаевич и смолк. И повторил: – За тот бой мне и присвоили звание Героя Советского Союза. Сначала посмертно. Грамоту о награждении вместе с похоронкой прислали матушке. Потом, когда выяснилось, что я остался жив, вручили то, что было положено: и Звезду, и орден Ленина.
– А остальные? – подал голос Юрик. – Неужели все погибли?
– Все, – последовал короткий ответ.
Р. S.
Я знаю много историй про войну. Правда, почему-то больше всего с печальным финалом.
Когда я писал это произведение, мне хотелось, чтобы всё закончилось очень хорошо. Чтобы остался в живых – из наших бойцов – хотя бы один человек. Чтобы его наградили высшей наградой Родины!
На самом деле я не знаю имён этих людей. И – они погибли все. Все до единого. И наградой им стало только то, что остались они лежать в родной земле. А враг действительно не смог пройти через тот рубеж, который они защищали.
Три немецких танка потом, позднее, отправили в металлолом.

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ СНАРЯДОВ
Рассказ
В деревне школа большая, хотя и начальная – три класса: первый, второй и третий – двадцать восемь учеников и три учительницы.
В сентябре вместо учёбы – все так решили – вышли на помощь колхозу: картофель убирать. Потому что дожди обещали. Не из райцентра по телефону, а Захар Силыч. У него ноги, ещё в гражданскую белочехами простреленные, ни разу не подводили. Ну и, возраст мудрости добавлял; знал дед Силыч все приметы, какие только можно было. Вот и сказал: через день-два дождь зарядит да надолго.
Председатель колхоза всех деревенских вечером на митинг собрал: попросил, кто может, – больных и старых, – с утра на поле выйти. С председателем ещё парторг[16]16
Парторг – партийный организатор, руководитель (в данном случае) группы членов коммунистической партии на МТС.
[Закрыть] из МТС – машинно-тракторной станции – был. Сам из офицеров, по ранению – без руки остался и заикался после контузии – с фронта пришедший. Извинялся парторг, что техники дать не может, на других участках она, но речь такую сказал, что убирать картофель вся деревня вышла. И школьники тоже. Строем. Под барабан. Барабанщиком Фимка-ленинградец был. Лучший ученик – за один год два класса прошёл и третьеклассником стал!
Народ на поле так распределился: один лопатой или вилами копает, другой куст картофельный тащит да отряхивает, третий-четвёртый картофелины в ведро, а после того в мешок ссыпают. Школьников сперва хотели вторыми-третьими назначить, но ребятня самостоятельности запросила. Учительницы опять же учеников своих поддержали, мол, хотим видеть свой конкретный фронт работы.
Мальчишкам-девчонкам шибко слово «фронт» понравилось. Себя бойцами назвали, командиров выбрали, учительниц генералами назначили, председателя колхоза – маршалом.
– Ну, коли так, – «маршал» сказал, – быть по-вашему! – Участок по бороздам ограничил, скомандовал: – Вперёд!
– Вперёд! – мальчишки заорали.
– За Родину! – кто-то добавил.
Тут уж и девчонки поддержали:
– Ур-ра! – закричали.
И поначалу хорошо работали: и быстро, и старательно. Несколько мешков, шутя словно, набрали. Картофелины за собой не оставили: хоть ситом землю просеивай, самое малое зёрнышко и то – в дело! А потом… Ну, что хочешь: по семь-восемь-девять лет каждому – дети же! Уставать стали.
Председатель, маршал то есть, ребят в деревню отправил – на обед, на отдых. Час дал на это дело, да ещё час на дорогу туда-сюда.
Ребятня за пятьдесят минут управилась. Обратно снова под барабан пришли. Ещё бы! Пока обедали, барабанщику письмо с фронта пришло, от отца – почтальонша из района доставила!
Отец у Фимки, сапожник до войны, когда в армию призвали, артиллеристом стал. Сперва подносчиком военную науку осваивал – снаряды к пушке подносил, а там…
Подписано письмо было так: «Ваш муж и отец – наводчик орудия гвардии ефрейтор Семён Исакович». И медалью отца у Фимки наградили – «За отвагу», и к ордену представили, но к какому, Фимкин отец этого ещё не знал.
Передавал Семён Исакович приветы всему своему семейству: жене, сыну, дочери, которой только-только три годика стукнуло. Просил отважный артиллерист кланяться от него колхозу, приютившему ленинградскую семью, сообщал о фронтовых делах. Особенно приятно Фимке было, что отец часть письма посвятил разговору с ним – сыном.
«А тебе, Ефим Семёнович, особенная моя благодарность: за учёбу и помощь мамочке нашей. Прости, если мало пишу, но не до того порой. Месяц из боёв не выходили – ни днём, ни ночью нам отдыха не было. Сутками не спали – такая боевая работа была. Но зато дали фрицам спереди, когда они нас с наших позиций сдвинуть решили, а потом сзади, когда они бежали. Об одном и жалею только: порой снарядов не хватало, чтобы добить эту вражью нечисть – наш расчёт самый лучший в батарее, стреляем точнее всех и быстрее, быстро снаряды заканчиваются. Но это ничего: говорят у вас на Урале, на заводах снаряды сейчас как пирожки пекут: раз-два, и сделано! Главное, чтобы люди там понимали: от их труда и мы на фронте скорее Гитлеру ноги-руки переломаем. А ты, Ефим Семёнович, учись хорошо; я, когда узнал, что ты на одни пятёрки да два класса за один год закончил, так обрадовался – стрелять лучше стал. В первом же бою одним снарядом грузовик фашистский подбил, а другим – пулемёт их вместе с расчётом. Так что, радуй своего папочку, фрицам от моей радости, что ты мне даришь, очень даже большой урон. А когда мы победим, вернёмся обратно в наш Ленинград и заживём лучше прежнего! Это я тебе говорю, Семён Исакович – наводчик самого лучшего в нашей батарее орудия!»
…Работал Фимка до самого вечера молча. Когда кто-то из дружков деревенских спрашивал, отчего так, – без песни, без шутки, – отвечал:
– Некогда!
А сам думал ещё, думал…
Ребят председатель ещё до вечера домой хотел отправить – и без того свою норму перевыполнили, да никто из ребят без взрослых не ушёл. У некоторых мозоли на ладошках лопнули – кровью пошли, а всё одно: на поле остались. До той поры, когда председатель уже всем не скомандовал:
– Шабаш на сегодня! Благодарность моя каждому, но особенно школьникам. Обязательно в райком и районо[17]17
Райком и районо – районный комитет коммунистической партии и районный отдел народного образования.
[Закрыть] сообщу, пусть о вас в газете напишут, какие вы есть настоящие советские люди! Бойцы уже не будущие, а настоящие! При первой возможности, обещаю, с меня школе подарок будет!
– Ур-ра! – ребятня прокричала, но вяло уже: сил – до дому бы дойти, перекусить чего, если есть, да спать.
За день поле картофельное почти всё прошли. Осталось немного – клинышек, но клинышек солидный. Всё, что выкопали да собрали, в амбар за день же и свезли, – чего в поле оставлять? Пара лошадей в колхозе имелась – справились.
Часть лопат да оставшиеся мешки до другого дня в поле сложили: чужие там не ходили, а среди своих воров не имелось: пусть до утра лежат – поутру опять же из деревни легче идти.
А надеялся председатель другим днём так же выйти. И школьников опять же попросить – куда без них? Ишь, какое великое дело сделали! Кабы не они, так и наверняка половину урожая попортило бы – под дождём, что ожидался. А так: глядишь, за пару дней да управится колхоз. Как раз до дождя! А ребят-то как жалко! Им бы уроки, да после того поиграть, побегать, книжки почитать, а они…
Наравне со взрослыми бабами. А те – что мужики: каждая за троих. А мужики где? – да на фронте! В колхозе кто? Вот председатель сам: в августе сорок первого ногу миной оторвало – в госпитале полежал, да в деревню: стучи деревяшкой – работай начальником, потому как до войны бригадиром был. Кто ещё? Никола-погорелец – без левой руки с фронта вернулся. Витька-конюх – без правой. За два года, к сентябрю сорок третьего, из сорока восьми мужиков, что в армию отправились, меньше половины там осталось: на шестнадцать похоронки пришли, на одиннадцать – другие бумаги, мол, без вести пропали. Одни бабы да парни безусые в деревне! Саньке, кузнецу, скоро семнадцать – добровольцем в армию собрался. И ведь уйдёт! И ведь возьмут! Хорошо, остальных, если война затянется, не скоро: тем по четырнадцать-пятнадцать. С теми, кому по двенадцать-тринадцать, две бригады пацаньих выходило. С ними, да с бабами, с женщинами, то есть, все планы и выполнять. Хорошо хоть, выполняются: и коровы доятся, и сено убрали, и с зерновыми сладили. Сейчас овощи…
Так и шёл председатель в деревню – мысли в клубочек то сматывал, то разматывал – прикидывал, как лучше одно сделать, да другое, чтобы третье не пострадало: крыша у коровника прохудилась – часть людей туда бы надо, тоже до дождей успеть, ещё навоз вывезти под рожь, тоже люди нужны, если под дождём возить придётся, простыть недолго…
Шёл председатель – не заметил, что в кустах придорожных двое ребят притаились. Один Фимка-ленинградец, другой – Митька, Фимкин одноклассник.
Мальчишки, когда начальник их миновал, на дорогу выбрались.
– Понял? – Фимка спросил.
– Чего в третий раз повторять? – Митька возмутился. – Ну, хочешь, скажу ещё? – И, не дожидаясь просьбы, затараторил: – Забежать к твоей матери, сказать, что ты у меня ночевать остаёшься, для виду учебники прихватить, чтобы не сомневалась. Всё? Всё! Фи-им, – протянул Митька жалостливо. – А может, я всё-таки с тобой?
– У тебя мать на ферме в ночь? – упёр руки в бока Фимка.
– В ночь, – вздохнул Митька.
– Младших у тебя сколько душ? – ещё один вопрос Фимка задал, имея в виду младших Митькиных сестёр и братьев.
– Четверо, – горше первого вздохнул Митька.
– Кто их кормить будет, пока мать на работе? Кто пелёнки сменит? Кто по хозяйству управится? Кто в доме старший? – надавил Фимка. И закончил: – Ты там нужнее. Иди. Помог уже.
Помощь Митькина заключалась в двоенном спичечном коробке с тремя спичками, – костёр на ночь разжечь для света и, когда отдохнуть, для тепла, – да в паре сухарей – Митька от обеда сберёг, хотел сперва маленьких побаловать, потом Фимке отдал.
И – расстались. До утра.
И для взрослого человека картофельный клинышек показался бы немаленьким, но хорошо, темнеть начало – не так видно сколько копать.
Фимка выбрал из оставленных лопат ту, что показалась легче по весу: провёл рукой по черенку – хороший, без заусенцев, отполированный чужими ладонями, сплюнул в сторону, вдохнул полную грудь сентябрьского прелого от картофельной ботвы воздуха, выдохнул и решительно вонзил штык лопаты под первый куст. Картофеля там уродилось богато: с мелочью вышло сразу пол-ведра. Второй куст не порадовал: ботвы на рубль, а картошки – на гривенник. Только после третьего куста ведро, в которое Фимка складывал картофелины, оказалось полным. Но Фимка торопиться не стал, выкопал и четвёртое гнездо – ведро получилось с верхом, солидно; правда, в мешке вся солидность пропала – что одно ведро для мешка? Для мешка пять вёдер требуется.
Впрочем, считать будущие вёдра и разглядывать первый мешок Фимка долго не стал. Его ждал пятый куст, шестой, седьмой, второе ведро… За спиной осталось, наверное, больше десяти мешков, когда он понял: стемнело так, что в выкопанном картофельном гнезде не видно картошки. То есть, картошка, понятно, была, но увидеть её глазами не получилось – только руками, наощупь.
Фимка запалил первый костёр. Хворост – сухие сучья и ветки – он натаскал из остатка вырубленного когда-то леса, лесополосы, что шла рядом с дорогой и заворачивала на поле, прикрывая посадки от буйных ветров. Чтобы костёр разгорелся с одной спички, пришлось ободрать берёзу. Немного, но… Фимка жалко было дерево, он даже прощения у него попросил. Костёр, на счастье, взялся сразу: огонь жадно ухватился за бересту, затрещал тонкими ветками, облизал толстые – и пламя полыхнуло в полнеба.
Потом были другие костры. Чтобы не тратить драгоценные во время войны спички, Фимка запаливал кучи хвороста с помощью головёшек.
Собирать костры и разжигать их было для Фимки роздыхом. Спину от работы свело и выпрямляться, чтобы отнести ведро к мешку, высыпать в него картофель, было очень больно. На правой руке скрючивало средний палец – так, что приходилось разгибать его левой рукой. Ещё очень сильно шумело в голове – иногда цветные круги проплывали перед глазами. Фимка понимал: это от голода, но два Митькиных сухарика берёг до последнего, вдруг потом уж совсем плохо станет. А свой кусок хлеба, маленький, тоненький, что дала после обеда в деревне мать, он съел ещё когда вернулся на поле: требовались дополнительные силы, чтобы взяться за лопату, начать дело, которое задумал после того как прочитал письмо отца. Да, конечно, можно было бы – в любом костре! – испечь картошку, но… Картофель был не своим – колхозным. Кроме того именно этот картофель есть Фимке не полагалось. Почему? – Фимка улыбался, представляя себе, что будет, когда всё закончится.
Таким его и нашли колхозники – с улыбкой на лице, в борозде, на куче ботвы, укрытым пустым мешком.
Председатель спешил: сам бежал, насколько позволяла одна живая да другая – деревянная, перевёрнутой бутылкой – нога, и колхозников поторапливал. Небо, тёмное с ночи, осталось таким и поутру: солнышко не вышло, скрытое облаками, а с севера – все видели! – ветер гнал чёрную тучу.
«Замочит, растудыть!» – переживал председатель и ахнул, когда достучал до поля.
Впрочем, ахнули и до него – скорые на ногу пацаны прибежали первыми.
А с чего ахать? Да было с чего! Весь клинышек с картошкой, что с вечера оставался покрытым торчками кустиков, виделся теперь убранным. На поле стояли крепкие пятивёдерные мешки, ещё не связанные по горлышку, для того, чтобы картофель дышал. Тлели костры – около десятка, цепочкой во всю длину клина.
«Кто? Что? Как? Когда?»
Фимку добудиться не смогли – восьмилетний пацан, эвакуированный из Ленинграда ещё в сорок первом, зимой, повезло так его семейству, уработался до потери сознания. Растирали самогоном, что запасливый председатель всегда носил с собой в солдатской фляжке, в том числе и для медицинских целей. Кто-то влил в рот немного молока – заставили сглотнуть.
Когда Фимка застонал, радовались все и снова ахали, когда, наконец, услышали Митьку, и долго ещё не верили, что восьмилетний пацан решился на такое дело и действительно всю ночь трудился на колхозном поле.
А председатель командовал, матерясь в полный голос, но больше ругая не других – себя, за то, что сам, мужик, не нашёл сил сделать то, что сделал мальчишка.
Когда загрузили обе подводы, на одну положили и Фимку. Он уже мог смотреть, но ещё не говорил – молча смотрел, как бабы вяжут мешки с собранным им картофелем, взваливают их на плечи подростков и те, с мешками, согнувшись, тяжело шагают в сторону деревни. Бабы брали мешки вдвоём. И тоже несли. За своими детьми.
Дождь хлынул, когда весь картофель был в амбаре.
«Повезло! – выдохнул председатель и, стянув с головы белую от пота и соли пилотку, в которой проходил бессменно два полевых сезона, обтёр лоб. Затем, смахивая непрошенные слёзы, провёл пилоткой со лба до подбородка. – По-вез-ло!»
Письмо Фимкиному отцу писать сначала хотели всем классом, а после того всей школой. Хотел написать и председатель, чтобы от колхоза, но доверили Митьке. Как лучшему Фимкиному другу. С тем, чтобы потом всем деревенским под написанным расписаться.
«Здравствуйте, Семён Исакович! – начал Митька на листке, аккуратно вырванном из ученической тетрадки. Тетрадь ему, ещё довоенную, дала из своих личных запасов учительница. – Вы меня не знаете, но я вас знаю лучше некуда, потому как ваш сын – Ефим Семёнович – мой лучший друг. А ещё он теперь герой, прямо как и Вы…»
Дальше Митька, как мог, рассказал Фимкиному отцу про уборку картофеля, начав не издалека, а прямо сразу – с того самого момента, когда дед Захар Силыч про близкую непогоду сообщил. Не смог Митька и про председателя смолчать, как тот митинг открывал, просил – не требовал – на поле выйти.
Особое место в письме парторгу эмтээсовскому досталось. Это ведь он про такое сказанул, что каждая картофелина, убранная в колхозе, это пуля, выпущенная на фронте по врагу.
– Эт-как? – кто-то из деревенских тогда не понял.
Парторг объяснил:
– Рабочий на заводе патроны делает. Он не на земле трудится. Ему ту же картошку из колхоза привозят, чтобы он пообедать мог. Картошку съел – силы набрался, силы набрался – сделал патрон. А патрон куда? На фронт: командиру – в пистолет, стрелку – в винтовку, пулемётчику – в пулемёт.
– Эт-тогда хорошо, – парторгу ответили. Снова спросили: – А ежели ведро картошки – это что получается: ведро патронов?
Тут засмеялись все. И парторг улыбнулся. Но, по ёжику волос рукой целой проведя, сказал:
– Ведро картошки, товарищи, это целая граната.
– А мешок тогда что? – тут же кто-то нового ответа потребовал.
– А мешок – это снаряд! – поставил точку парторг из МТС, словно гвоздь вбил.
Фимке эти слова в душу запали, а тут ещё письмо от отца: «…Об одном и жалею только: порой снарядов не хватало, чтобы добить эту вражью нечисть…»
Вот и копал Фимка картошку и видел: не мешки встают за его спиной, а настоящие снаряды. Для отца.
«Пятьдесят пять снарядов для Вашей героической пушки накопал Ваш сын Ефим Семёнович, – заканчивал письмо Митька. – Пусть эти снаряды все до единого попадут в фашистские танки и доты, а лучше – в самого Гитлера! Весь наш третий класс, и вся наша школа, и все деревенские желают Вам и Вашим товарищам, Семён Исакович, крепкого здоровья и поскорее разгромить фашистов!»
Подписей под Митькиными словами набралось больше сотни, даже дед Силыч крестик поставил, – так и не выучился грамоте.
Фимка в горячке провалялся неделю – жар не спадал, думали, не тиф ли, в больницу хотели свезти, но ближе был военный госпиталь, отправили туда. Врач военный потом диагноз поставил: нервное истощение.
Получил ли деревенское письмо Семён Исакович – неведомо. В сентябре письмо отправили, а в октябре на Фимкиного отца похоронка пришла, мол, погиб смерть храбрых. Долго потом председатель колхоза Фимку уговаривал в школе остаться. Фимка всё хотел сперва на фронт сбежать – за отца отомстить, потом в колхозе работать – чтобы на заводах ещё больше снарядов и патронов для фашистской погибели изготовить смогли. Уговорил председатель парня, нашёл какие-то нужные слова. Остался Фимка в школе, но всё лето сорок четвёртого в полях провёл: всё, что мог, делал, даже траву косить научился…
И пусть Фимкин отец снаряды сына получить не успел, они, снаряды эти, своё дело сделали – все пятьдесят пять. Как говорится, и враг был разбит, и Победа была нашей.