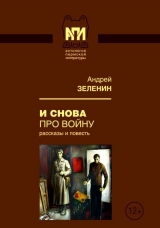
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)

ПОГИБ В БОЮ
Рассказ
Комья мёрзлой земли, выбитые чужими пулями, больно ударили по правой щеке и Тихон, закрыв от страха глаза, сполз на дно траншеи.
За взводного вот уже вторую неделю у них был сержант Баранов, бывший отделённый Тихона. Знал он много, умел тоже немало – воевал так, будто всю жизнь с рождения самого этим и занимался: успевал всё и везде. Вот и сейчас появился рядом, будто и не был только что на левом фланге у единственного во взводе пулемёта, спросил:
– Ранило? – Сам и ответил, приглядевшись: – Царапины! – Приободрил: – Посиди чуток, отойди, да снова поднимайся. Не оголяй фронт!
За треском выстрелов и свистом пуль звуков, издаваемых сапогами сержанта, Тихон не услышал. Был Баранов – и нет его. А и был ли? Может, привиделся?
Не открывая глаз, он тронул щёку рукой и ойкнул. Показалось: ошибся сержант, не царапнуло Тихона – ранило. Волной какой-то неописуемой радости прокатило от живота к горлу: можно в медсанбат, а там, глядишь, так и в госпиталь – отлежаться.
Двигаться мыслям дальше Тихон не позволил: стоп – раньше времени! Изнутри – языком – тронул зубы, вздохнул: целые. Также изнутри тронул и щёку – выругался:
– Язви её!
Глаза открыл медленно.
На ладони была кровь. Его кровь, Тихона. На щеке – не рана, царапины.
По спине прополз холодок: надо подниматься, браться за винтовку. Кстати, где она?
Винтовка, прикладом в землю, стволом в серое октябрьское небо, стояла рядом – словно живая, вслед за Тихоном сползла с бруствера в траншею и теперь вот терпеливо ожидала хозяина.
Тихон обтёр ладонь о шинель – не глядя, куда придётся, рукавом, уже не бережно, жёстко шаркнул по щеке, чтобы стереть кровь и с неё.
Мимо, уже обратно – возвращался с правого фланга – хотел пробежать Баранов, да приостановился:
– Что, ожил? Давай, поднимайся, нечего рассиживать! Стрелять надо! Там, – махнул рукой вправо вдоль траншеи, сообщил, как бы мимоходом, – Зубова убило. И троих ещё ранило.
– Кого? – Тихон еле разжал губы – так свело с чего-то, подумалось: ведь и его могло – не ранить, убить.
– Петьку, Зарифа и Кривулю, – быстро перечислил сержант – вновь торопился на левый фланг.
– В санбат ушли? – говорить не хотелось, но и молчать было нельзя, хотелось, чтобы рядом кто-нибудь был – живой чтобы, а то ведь до соседей справа и слева по десять метров шагать: от взвода одно название – полтора десятка человек за неделю осталось, командира взвода, младшего лейтенанта, фамилию которого Тихон и запомнить не успел, в первый ещё день в медсанбат отправили, потом других; убитых вот пока не было…
– Остались! – махнул рукой Баранов нервно, спешил и потому нетерпеливо притоптывал сапогами. – Всех по лёгкому – в руки. А Петьке в башку, но хорошо, что скользом. Зариф ему такую чалму из бинтов накрутил! Сам раненый, а накрути-ил! – Сержант коротко хохотнул, хлопнул Тихона по плечу – по старому смятому погону. – Давай, постреливай!
И вновь, как до этого, не услышал Тихон звука шагов Баранова; был сержант и нет его. Только трещат пулемёты с автоматами, щёлкают винтовки и свистят, свистят во все стороны пули.
«А и то ладно, что не пушки, не миномёты!» – пришла короткая мысль, и уже в следующее мгновение Тихон снова смотрел в поле, раскинувшееся перед ним.
С утра поле покрывала седая куржевина, а теперь, за полдень, виднелись на нём – пятнами – ссохшаяся от времени и холода трава, реденькие кустики с обгрызенными будто, а на деле сбитыми пулями ветками, холмики немецких тел – упокоившихся уже и ещё живых Гансов, фрицев, наверное, вальтеров, и прочей нечисти, об именах которых Тихон до войны и слыхать не слыхивал.
А на войне Тихон был уже полгода и до того ему везло: и призвали только в сорок третьем, и учили в запасном полку долго, и даже когда уж вовсе на фронт попал, на передовую отправили не сразу – доучивали всяко, держали во втором эшелоне.
Про фронт Тихон слышал разное – слушал да запоминал: и как под пулю дурную не попасть, и как от бомбёжки уберечься, и как, если уж ранило, поскорее в санбат попасть и в госпитале потом задержаться. Как командиров слушаться, как поближе к ним быть да к кухне – к еде да к жизни. Про подвиги тоже слушал, но как-то от тех рассказов становилось не так – знобко становилось, зябко.
Домой хотелось Тихону – ох, как хотелось! К Аннушке – жене, пусть и пустоцветной, а всё одно родной, широко раздавшейся за полтора десятка совместной жизни лет, к тёплому пышному её боку, к пирогам её праздничным. В избу свою хотелось Тихону, где всё своими руками было поставлено. На речку хотелось – пескариков половить, покурить на утреннее солнышко…
– Закуришь, Тихон? – Баранов с кисетом в руках, будто никуда и не уходил, навалившись на слегка оттаявшую с края траншеи землю, стоял рядом, смотрел в поле. В вечернюю осеннюю мглу. – На сегодня, кажется, всё. Я смотрю, – то ли просто спросил, то ли осуждал, – ты нечасто стрелял.
У Тихона мурашки по спине пробежали – поёжился.
– Это верно, – через паузу сержант похвалил. – Нечего зазря боезапас расходовать. Если цель не видишь, не стреляй. Ну, в крайнем случае, пугани разок-другой, отведи душу, и хорош.
Тихон с облегчением выдохнул – не осудили, кашлянул, ответил:
– Закурю! – Полез в распахнутый кисет, взял предложенный на самокрутку клочок газеты. – Отчего ж не закурить!
– Ты ведь в колхозе бухгалтером работал, – издалека начал Баранов.
– Не! – мотнул головой Тихон. – Счетоводом. Да чаще по бригадам помогал – то на овощах, то плотничал.
– Но писать-то умеешь! – сержант улыбался. Улыбался как-то виновато. – Тебя ж печатали!
– Так это… – вспомнил Тихон свои общественные обязанности селькора. – То, как председатель скажет, то и писал.
– В газету ведь, – уточнил Баранов.
– В газеты, – поправил Тихон.
– Ну, тогда вот что, товарищ красноармеец, – перешёл сержант на официальный лад и… сбавил. Опять к душевному разговору вернулся. – Некому больше. А надо. Письмо написать. Родным Зубова. Оно, конечно! – Баранов нервно курнул свою самокрутку, выпустил изо рта и носа чадный дым: – Оно… похоронку им пришлют. Это как положено. А вот письмо бы… Знаешь, такое, что не от шальной пули…
– Так я… – развёл руками Тихон. – Я ж его толком и не знал. И про домашних его…
– Жену Анной звать, – выдохнул сержант.
«Надо же, как мою!» – подивился про себя Тихон.
А сержант продолжал:
– Детей у них трое: Семён, Владимир, Татьяна. Работал в лесхозе – лес валил. Сибиряк.
«Сколько знает!» – приподнял брови Тихон, и от Баранова не ускользнуло это движение.
– Плох тот командир, что своих солдат не знает! – пояснил сержант. И опять виновато улыбнулся: – Ты в землянку мою сходи. Я здесь побуду. А там Петька с Зарифом. У Петьки тетрадь и карандаш.
Уже уходя, Тихон обернулся к Баранову, махнул рукой в сторону поля:
– Там справа бугорок небольшой, поглядывать надо. Как бы не подползли туда. Немцы.
– Хороший ты солдат, Тихон! – прицокнул сержант. – Серьёзный. Я за тобой погляжу ещё немножко, да может, перед ротным… на отделение порекомендую. Командиром!
Вслух Тихон ничего не сказал, а про себя выдал: «Ну да!» Шагал по траншее и чувствовал, как голова наливается жаром – краснеют уши, лицо, даже шея.
…Петька, а на самом деле Уразбек, как и Зариф, татарин, виновато развёл руками, когда Тихон забрался в землянку:
– Так-сяк думал, ничё не пишется! По-своему хорошо думается, а по-русски – на бумагу не ложится.
– Давай уж! – выдернул у него Тихон бумажный листок. Забрал и карандаш, почти новый, оставшийся от прежнего командира взвода – младшего лейтенанта.
Самодельная лампа, сделанная из гильзы от патрона крупнокалиберного пулемёта, чадила, но свет давала относительно ровный.
Столом Тихону служил патронный ящик.
Строчки ложились на листок аккуратно, с мягким наклоном вправо:
«Здравствуйте, уважаемая Аннушка.
Пишут Вам и Вашим деткам – Семёну, Володе и Танюше – боевые товарищи Вашего мужа красноармейца Зубова. Писать долго не позволяет боевая обстановка, так как находимся мы на самом переднем крае, но не написать нам нельзя, потому как многие из нас обязаны Вашему супругу своими жизнями».
– Не совсем верно, но красиво, – заглянув через плечо Тихона, заметил Петька.
Зариф, обнимая левую руку – раненую и перевязанную – правой, сидел на корточках в дальнем углу, у печки, качал головой и мурлыкал под нос какую-то непонятную мелодию.
– Цыть! – отогнал Петьку Тихон. – Не мешай!
«Был Ваш супруг человеком замечательной души, настоящим боевым товарищем. Рядом с ним каждый чувствовал себя как за каменной стеной. Помогал всегда чем мог: и делом, и словом, и махоркой последней».
– Не курил он вовсе! – заметил Петька, вновь подкравшись к Тихону.
– Цыть, я тебе сказал! – повысил на него голос Тихон, но замечание принял.
«Курить он, конечно, не курил. Но поскольку махорку у нас выдают всем и исправно, то делился ею с курящими и ничего в обмен не требовал: ни хлеба, ни сахара. А уж как рассказывал хорошо про Вас и Ваших с ним деток! Как вспоминал Сибирь с её лесами и землёй! И про лесхоз рассказывал – всех туда после войны звал. И мы, кто жив останется, обязательно приедем: поклониться Вам за Вашего мужа. То, что мы фашистов победим, не сомневайтесь. Победим! И отмстим за вашего мужа, нашего боевого товарища, обязательно».
– Верно пишешь! Ой, верно! – Петька, стоя за спиной Тихона, качал головой, поджимал губы. – Ой, мы им!..
Цыкать на него Тихон не стал, продолжил писать:
«В последнем своём бою красноармеец Зубов стоял на рубеже обороны до последнего дыхания. До последнего патрона бил ненавистного всем врага. И погиб в бою как герой, ни пяди земли не уступив фашистам. Рядом с ним были ранены его товарищи, но огнём своей винтовки прикрыл ваш муж, Аннушка, их жизни. И пусть Вы и детки Ваши лишились супруга и отца, но знайте: погиб ваш муж и отец ради вас, чтобы вы могли жить и помнить, каким замечательным человеком был красноармеец Зубов».
– Ай, хорошо! – Петька вдруг выхватил тетрадный листок из-под карандаша Тихона. – Дай! По траншее пробегу, пусть все подпишутся! Весь взвод! И карандаш дай…
На своё место Тихон возвращался неохотно, но почему-то обрадовался, увидев сержанта. Сказать, правда, ничего вперёд не успел, Баранов опередил.
– Петька уже был. Молодец ты, – похвалил сержант бойца. – Вот в самую точку написал! Ни прибавить, ни убавить – всё по делу.
– Товарищ сержант, – начал было Тихон.
– Подожди! – остановил его Баранов. – На сегодня отдохни. Я на часы ребят помоложе поставлю. А ты иди в землянку, поспи.
– Не надо, – мотанул головой Тихон. – Я это… Лучше сам здесь… Посмотрю. Постою. – И закончил свою мысль: – Вы меня командиром не назначайте. Мне сперва солдатом надо стать.
– Ага?! – то ли удивился, то ли обрадовался Баранов.
– Ага, – совсем не по-солдатски ответил Тихон.
…Минут через пять после того, как сержант ушёл проверять оборону, прибежал Петька. С письмом.
– Ты-то сам не подписал! Подпиши!
Тихон взял карандаш, попросил:
– Подсвети! – И, дождавшись, когда Петька щёлкнет кремешком зажигалки, и пламя осветит бумагу, поставил в конце длинного списка – полтора десятка – фамилий свою: – Ну, вот и всё.
Петька ушёл не сразу. Погасив зажигалку, спрятав её в карман шинели, стоял рядом, переминался с ноги на ногу.
– Чего тебе? – как-то неласково поинтересовался Тихон.
– А ничё! – отозвался Петька. Но через мгновение, склонившись к плечу Тихона, прошептал. На ухо: – Вдруг меня убьют, так ты моим письмо напиши. Как Зубову. Погиб в бою. И Зарифу отдай. Он переведёт как надо. Напиши ты, ладно?

ПЯТЬ ЛЕПЕСТКОВ
Рассказ
Танк был нашим, с красной звездой и надписью «Смерть фашистам!» на башне. Петро не поверил увиденному, забыв про оружие, протёр кулаками глаза.
Да, уже неделю грохотало совсем рядом. Да, командир ещё полмесяца назад сказал, что скоро Красная Армия придёт в район, но чтобы так! Так неожиданно!
– Ура! Наши! – крик сам вырвался наружу.
Забыв об осторожности, Петро выскочил на полевую дорогу и помчался к танку.
– Стой! Стрелять будем! – трое у танка, перестав возиться с гусеницей, схватились за автоматы, четвёртый забрался внутрь «тридцатьчетвёрки» и башня стала медленно поворачиваться в сторону бегущего парня.
– Я свой! Я партизан! – вопил Петро.
– Стой! Какой партизан?
– Свой! Я наш! Ура!
Уже знакомый за пару партизанских лет свист возник, казалось, из ниоткуда. Мгновение, и рядом с танком грохнуло. Столб земли поднялся в небо, по броне застучали тяжёлые комья.
– Чёрт! – Петро упал, перевернулся через голову и оказался в канаве.
Башня танка поворачивалась в противоположную от него сторону.
Снова свист и грохот. Новый столб встал с другой стороны «тридцатьчетвёрки».
«В „вилку“[14]14
«Вилка» – артиллерийский приём, при котором первый снаряд перелетает цель, другой – недолетает; после второго выстрела идёт стрельба на поражение.
[Закрыть] взяли! – подумалось Петру. – Сейчас третий раз пальнут, и каюк нашим!»
Но тот, который забрался в «тридцатьчетвёрку», оказался быстрее и точнее.
Со ствола танковой пушки сорвался язык пламени. Грохнуло. Затем застучал пулемёт. Дробью: тра-та-та, та-та…
Фашисты, выскочившие из бронемашины, залегли. Немецкая танкетка, двигавшаяся к краснозвёздной машине, дёрнулась и задымила чёрным.
– Ура! – снова закричал Петро.
Бронемашина дала задний ход.
Уцелевшие немцы, отстреливаясь из стрелкового оружия, поспешили скрыться в лесополосе.
Петро тоже стрелял в ответ. Недолго. В трофейном «эМПэ-тридцать четыре»[15]15
МР-34 – пистолет-пулемёт немецкого производства.
[Закрыть] закончились патроны.
И наступила тишина.
– Эй! – донеслось от танка. – Партизан! Ты жив?
– Жив! – отозвался Петро.
Через минуту он уже знакомился с танкистами.
Разведотряд гвардейского танкового корпуса, выполняя приказ командования, скрытно проник в неглубокий тыл противника, разгромил штаб одной из вражеских частей и захватил ценного языка – штабного офицера. Две бронемашины и танк – десант и экипажи – возвращались обратно, но…
– Траки крякнули, – говоря о порванной гусенице танка, молодой, чуть постарше Петра, года всего на два на три, командир разводил руками. – Думали быстренько справиться, да фрицы не дремали, вдогонку пустились. Сам видел.
– Видел, – Петро кивал головой. – А где бронемашины ваши, разведчики?
– Домой ушли, у них язык, документы.
Петро смотрел на танкистов и на его глаза сами собой наворачивались слёзы: наши! Наконец-то, наши! Наконец-то, жизнь наладится! Подлатаются дома-хаты, построятся новые, оживут поля, заработает школа…
– Это вы, значит, командир? – Петро потянулся к погонам на гимнастёрке.
– Младший лейтенант, – командир танкистов заулыбался. – Не видел ещё звёздочек?
– Не! – Петро мотнул головой и встрепенулся, заслышав приближающийся шум моторов. – Фрицы! Из Новосёловки, видно! Там у них большая часть: танки, бронемашины, пехоты много и полицаев – гадов – тоже!
Младший лейтенант Голуб досадливо сплюнул и глянул на танковую гусеницу, распластавшуюся в пыли:
– Ребята! Ну, что же вы?
Экипаж боевой машины, слушавший разговор командира с юным партизаном, кинулся к танку.
– Не успеете, – Петро поморщился, словно от зубной боли. – Уходить надо, пока можно. Лес недалеко. Пару дней партизанами побудете, а потом грохнут наши фрицев, и снова на танк сядете.
– Да ты что! – Голуб даже закашлялся от таких слов. – Ты что?! Танк бросать?! С боеприпасами, с горючим? Ты лучше вот что, – младший лейтенант тронул парня за рукав пиджака. – Может, быстренько сгоняешь до своих? Они нас прикроют, мы доремонтируемся, и немцев чуток ещё покрошим? А?
– У нас до базы часа два ходу, – вздохнул Петро. – Это если прямиком.
Механик-водитель, дядька в возрасте, сам старшина, выдал:
– Ты, пацан, давай тогда, не трать времечко. Дуй со всех ног и даже быстрее. Четыре часа мы может и сдюжим.
– Правильно, Курочкин! – похвалил старшину Голуб. – Правильно мыслите! – И повернулся к парню: – Дуй, Петро, и знай: мы на тебя, на твоих друзей очень даже надеемся!
Ветки деревьев, лапы елей хлестали по лицу. Петро не прикрывался, спешил, за спиной гремело и трещало – шёл бой.
Незаметная для непосвящённых тропинка вела к яру – огромному, заросшему дикой малиной оврагу.
– Стой, молодой! – нога в сапоге, будто сама по себе – живая – появилась из-за ствола вековой сосны.
Петро летел долго и всё носом вперёд. Вскочил на ноги, выплюнул изо рта землю вперемежку с хвоей, облизнул языком губы – солоно, кровь идёт. И зашипел, тронув рукой левый глаз – вот и фонарь будет.
– Ты куда это так быстро?
Полицаев было четверо. Троих Петро не знал, четвёртый был свой, из Колядово, бывший пленный, из концлагеря перешедший служить фашистам ещё в сорок первом. Он точно знал, когда и куда Петро ушёл из дома.
«Сдаст!» – мелькнула и пропала короткая мысль, но язык уже работал:
– Я, дяденьки, испугался! Ходил на поле траву собирать для бабки своей, она у меня травница, травами лечит, в Колядово живёт, а тут как даст! Как лупанёт! Со мной рядом – вжик! Вжик! Я тикать, а тут вы. Что я вам сделал? Отпустите!
– А врать-то горазд! – старший из полицаев качал головой. – Партизан ведь, по харе твоей наглой видно – партизан! Оружие где?
– Какое оружие? – Петро обрадовался, вспомнив, что ненужный «эм-пэ» оставил у «тридцатьчетвёрки». – Какой партизан? Я из Колядово!
Он хотел сказать что-то ещё, но вдруг столкнулся взглядом со «своим» полицаем…
В этот момент вдалеке, там, где шёл бой, здорово громыхнуло!
Все от неожиданности присели.
«Сдаст! Точно, сдаст! Сволочь!»
– Мужики, это наш, – полицай-предатель смотрел на Петра в упор. – Я его сперва не узнал, морду-то вон – упахал. Через дом от меня живёт.
Петро не поверил своим ушам.
И тут снова громыхнуло.
– Так, хлопцы, пора до дому, – старший потерял к Петру всякий интерес, повернулся к нему спиной. Вглядывался в лес, в направлении невидимого боя: – Как бы сюда не долетело. А господа немцы и без нас справятся.
Двое шагнули за старшим, третий повернулся к Петру:
– На!
Дальше всё произошло очень быстро. Понятный кивок головой в сторону трёх спин. И финка, которую взял Петро из ладони полицая, летит в старшего. Другой нож – «своего» полицая – взрезает спину второго.
– Догоняй!
В падении Петро ухватился за сапог уцелевшего врага, тот повалился на землю и захрипел. Чужая кровь брызнула на лицо…
– Вставай! – тот, которого Петро считал предателем, вытирал нож о куртку убитого. – Меня Иваном зовут… Здесь рядом на поляне ещё двое этих, с повозкой. На повозке пулемёт. Приказ у нас: из леса фрицев поддержать, в спину нашим.
– Нашим? – повторил за полицаем Петро. И неожиданно взъярился: – А ты кто?!
– Предатель, – полицай опустил голову и – поднял её снова. В глазах блеснул странный огонёк. – Я сегодня умру. Я знаю. И хочу человеком остаться. Веришь? – Не дожидаясь ответа, полицай скомандовал: – Бери винтовку, пошли.
Два выстрела слились в целое.
Двое – один рядом с лошадью, другой в повозке возле станкового пулемёта – мешками рухнули: первый в траву, второй в повозку.
Иван и Петро вышли на поляну.
Кто из них промахнулся, они поняли через мгновение.
Лежащий в повозке полицай вдруг приподнялся. И последнее, что запомнил Петро, был наган, зажатый в руке полицая, а затем раздался хлопок выстрела.
Немцы отошли.
– Ненадолго, – вздохнул Голуб. И взглянул на старшину: – Сколько времени прошло, как Петро от нас убежал? Мои часы долго жить приказали.
– А со своими я ещё правнуков понянчу, – добродушно ухмыльнулся Курочкин и, отложив в сторону автомат, полез в карман гимнастёрки. – Буре. Серебряные. На цепочке. Так… – Курочкин взглянул на стрелки, посчитал в уме. – Полтора часа всего минуло.
– Значит, до отряда он ещё не добрался. Быстро же нас фрицы в оборот взяли!
– А если его того, хлопнули? – стрелок-радист «тридцатьчетвёрки» озадаченно взглянул на командира. – Слышали ведь, в лесу из винтовок стреляли!
– Типун тебе на язык! – выругался Курочкин и, убрав часы обратно в карман гимнастёрки, из другого кармана достал железный портсигар. Открыл его, глянул, закрыл и выдохнул: – Живой парень! Точно живой!
Маленький отряд занимал круговую оборону. Танк, лишившись возможности двигаться, теперь и стрелять мог только в одном направлении – снаряд вражеской пушки заклинил башню. Два автомата почти без патронов, пистолет, снятый с «тридцатьчетвёрки» курсовой пулемёт да четыре гранаты-лимонки – всё, что оставалось у танкистов.
Фашисты за время боя потеряли танкетку, бронемашину и два бронетранспортёра.
– Последняя атака будет, – предупредил друзей заряжающий. – Вон, у опушки зашевелились.
– Я в танк, – сказал Голуб. – Вдруг кто под пушку подлезет.
Для последней атаки фашисты подтянули артбатарею и четыре орудия ударили по танку разом.
После первого залпа был ранен старшина Курочкин – в плечо и в ногу Заряжающий танка Шарифзян Сарташев, кинувшийся к механику-водителю перевязать раны, получил контузию – взрывной волной его бросило на броню. Стрелок-радист ефрейтор Семёнов, скрипя зубами, сам вытащил два осколка, вонзившихся ему в бок.
Больше всех повезло командиру – «тридцатьчетвёрка» выдержала восемь прямых попаданий; броня уральская не подвела, да и калибр фашистских пушек оказался не тот. Однако, залп, ещё один, ещё – танк полыхнул огнём.
Прекратив артиллерийский обстрел, фашисты пошли в атаку.
Курочкин несколько раз нажал на спусковой крючок и отложил бесполезный автомат в сторону:
– Всё, патроны кончились.
Семёнов погладил горячий пулемёт:
– У меня на одну очередь.
Сарташев стонал, держась за голову:
– Гранату мне дайте! Гранату!
Голуб, придерживая левой рукой правую, перебитую пулей, приказал:
– Живыми не сдаваться. Взять гранаты!
Пулемётная очередь раздалась в тот момент, когда фашистам до танка оставалось метров десять-пятнадцать. Расчёты немецких орудий были уничтожены сразу же.
– Гранатами по фрицам! – опережая командира, закричал Курочкин, и четыре «лимонки» полетели в опешивших фашистов.
– А-а-а! – Петро кричал, нажимая на гашетку станкового пулемёта. А-а-а!
Лежащий в повозке полицай вдруг приподнялся. Петро увидел наган, услышал хлопок. Человек, бывший предателем, сделал шаг вперёд, заслонив юного партизана.
Петро не знал, надо ли плакать, надо ли сожалеть, одно он знал точно: совсем рядом ведут смертельный бой четыре ещё живых человека.
Пулемёт замолчал так же неожиданно, как и застрочил. Может, закончилась лента, может, случился перекос патрона, может…
Уцелевшие фашисты, забыв про танк, про израненный экипаж, оставшийся без оружия, бросились к повозке. К Петру.
Курочкин вдруг достал портсигар, раскрыл его и улыбнулся.
– Старшина! Ты что? С ума сошёл? – простонал Голуб.
Пётр дождался, когда фашисты подойдут ближе, и снова нажал на гашетку.
Победу они встретили в Германии. Одним экипажем. Одного танка. Уже не старой «тридцатьчетвёрки» с семидесятишестимиллиметровой пушкой, а Т-34-85 – грозной боевой машины.
Разведотряд гвардейского танкового корпуса, доставив в штаб ценные документы и пленного немецкого офицера, вернулся на выручку отставшим танкистам. Но те справились сами.
Старшина Курочкин раскрыл портсигар так, чтобы его увидели все члены экипажа.
– Ромашка? – удивился Голуб.
– Когда первый раз с нами грохнуло… – начал Курочкин. – Ну, когда Петро «Ура!» закричал, на меня цветок этот упал. – Старшина помолчал, собрался с силами. – Сами видите – лепестков на ней пять, остальные взрывом, осколками поссекало. Я и подумал: вот нас пятеро теперь и лепестков пять. Вот этот – я буду, вот этот – командир, этот – Витька Семёнов, этот – Шарифзян, этот – пацан из леса. Четыре лепестка посечённые, значит, быть нам, товарищам, ранеными. Пятый лепесток целый, значит, быть Петру живым и невредимым.
– Постой-постой! – Голуб остановил механика-водителя, собравшегося закрыть портсигар. – Тут ещё лепесток имеется.
– Ну, то не лепесток – огрызок какой-то, – вздохнул-выдохнул Курочкин и без сожаления оторвал от жёлтой мякоти нежный белый кусочек.
– Там в лесу человек остался, – сказал Петро, покачиваясь от пережитого, встал рядом с танкистами. – Его… похоронить надо…






