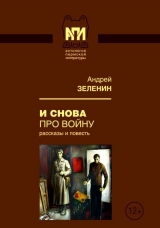
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Переменилась Зинкина жизнь. Ненамного, но переменилась. К лучшему. Работать её стали заставлять меньше. Большую часть Зинкиных трудов на плечи Марии и Ганны переложили. Кормить не один раз в день стали, а четыре. С господской кухни приносили: кушайте, битте-пожалуйста, только чтобы маленький немецкий наследник молоко материнское получал.
А молоко материнское маленький немецкий наследник, маленький немчик, как теперь его Ганна называть стала, получал в хозяйском доме. Теперь он там, а не в коровнике жил. Туда теперь Зинку каждый раз гонять стали, как только ребёнок грудь материнскую требовал. Ему и имя своё дали.
Вот только как кормить Зинка малыша собиралась, так вместо ненавистного немецкого имени произносила то, какое при рождении само на язык вышло. Ласкала, целовала, голубила. И ещё няньку, тоже не немку – словачку по рождению, а в прислуге у господина Вильгельма кого только не было, – просила:
– Ты ему, пожалуйста, говори: кто его родил, кто выкормил. Говори, как зовут его по-настоящему Где его бабушку с прадедом живьём сожгли и мать сжечь хотели…
В конце апреля тысяча девятьсот сорок пятого года случилась беда. Ранним утром, когда Зинка привыкла ходить в хозяйский дом, кормить сыночка, никто за ней не пришёл. И, вообще, коровник никто не открыл, молока с утренней дойки не потребовал.
Пробовали девушки кричать, звать кого – осипли только.
Что случилось? Что за беда-напасть?
А всё просто оказалось. Красная Армия близко-близко к землям господина Вильгельма подошла. Ещё стрельбы далеко слышно не было, а господин Вильгельм не будь плох: всё ценное с собой забрал, про внучка не забыл, прихватил и – будь здоров подальше от Красной Армии, к американцам с англичанами поближе. Спасибо, няньку-словачку не бросил. С другой стороны, как же он без няньки-то? Малышу какой-никакой, а уход нужен…
Два дня Мария с Зинкой из коровника выбраться пытались. Крепко немцы его построили, солидно. На третий день двери-ворота сами распахнулись. А на пороге…
– Наши! – Зинка охнула и на плечах у первого же солдатика повисла, целовать его принялась – от радости куда придётся: в лоб, в глаза, в нос, в усы, в губы, махоркой пахнущие. – Наши!
Мария рядышком другого воина обнимала, в голос ревела.
Куда Ганна под шумок делась, никто внимания не обратил.
Обратили.
Часа не прошло, появилась во дворе. Не одна. С офицером. Три звезды большие на погонах.
– Вот! – сказала торжественно и на Зинку пальцем ткнула. – Вот эта! С хозяйским сынком жила, с офицером немецким! Сынка ему родила, паскуда! Они её откармливали, в доме у них жила, а нас работать заставляли и день и ночь, беспробудно! – И в слезах зашлась, стерва.
Так Зинка снова в коровнике закрытом оказалась. Часовой её охранял. С автоматом.
Потом другой офицер пожаловал. На погонах четыре звёздочки, поменьше трёх больших. С ним ещё один парнишечка – на погонах вовсе не вызвездило, одна мелочь.
Потом трибунал был. Военный. И по законам военного времени определили Зинку в лагерь как изменницу Родины.
А дальше покатилось, зашлось – ахнуло!
Ахнуло в поле знатно. Почитай в каждом доме деревенском стёкла повышибало. Из тех, что до того оставались.
Ослабли ноги у мамки, подкосились. Упала она, встать не смогла. Слова не вымолвила, так губы свело…
* * *
– Пойдёмте! – Василёк офицеру немецкому сказал.
Тот команду своим солдатам отдал. Похватали фашисты оружие в руки, пулемёт ещё из машины достали и – вперёд за мальчишкой. За Васильком. Ходко. Восемнадцать нехристей, офицер девятнадцатым.
Офицер говорливым оказался. Пока за околицу выбирались, к полю подходили, много чего узнал. Спрашивал:
– Сколько тебе лет, мальшик?
– Семь! – Василёк отвечал.
– О! – говорил немецкий офицер. – Ходишь в школа?
– Сегодня в первый класс собирался.
– Ты пойдёшь первый класс! – обещал фашист. – Наше правительство решило создать вам школа. Из целых два класс! Первый и второй. С двумя предмет: немецкий язык и математик. Большего вам не нужно! Только понимать язык нас, козяев и считать до один тысяча! – и фашист принимался хохотать. – И никакой литератур! Кто уметь читать, тот наш враг! Тот должен быть – пух! И смерть!
– Ну-ну! – качал головой Василёк и пальцы его рук сами собой сжимались в кулаки.
– О! Ты умный парень! – восторгался Васильком офицер. – Ты сразу понял, как стать нужен немецкой власть! Ты быт обеспечен всем, что нужен для жизнь: дом, корова, работа. А кем ты хотел работат?
– Агрономом.
– Гут! Зер гут! – офицер собирался сказать что-то ещё, но Василёк его перебил.
– Осторожно! Тут начинается минное поле. Только не бойтесь! Я дорожку знаю, не один раз здесь ходил.
Насторожившийся было, офицер опять подобрел с лица и вновь принялся хвалить русского мальчишку:
– О, какой расчётливый мальшик!
А перед глазами Василька незримо вставал старшина-сапёр. И будто слышался Васильку его голос:
– …Мина, она сама по себе мала, а смерти в ней – не на одного человека может быть. Здесь таких смертей вокруг много будет. Вот так мы их в землю прятать станем. Вот так они сверху выглядеть будут: чужому взгляду неприметно, а вам понятно. Мы эти мины так положим: с краю по одной вразброс, а дальше так, что, если на одну наступишь, сработает сразу много. До неба земля встанет, лес вздрогнет – черно станет, страшно!
Мимо тех мин, что вразброс нашими сапёрами уложены были, провёл Василёк фашистов. Шёл, назад оглядывался: все ли за ним идут, все ли теперь на минном поле.
Все они друг за дружкой шли. Осторожничали. Шаг в шаг ступали.
Усмехнулся Василёк про себя: «Шагайте-шагайте!»
Уловил немецкий офицер мальчишечью усмешку, спросил:
– Что ест значит твой кривой улыбка?
– А то! – Василёк ответил.
И что уж перед его глазами пронеслось: жизнь ли его короткая счастливая. Папка ли, что на великое дело жизни своей не пожалел, от дома на войну ушёл. Мамка ли – та, с которой Родина начинается великая, а значит, сама Родина. Что перед глазами Василька промелькнуло – никто не знает. Только…
Оглянулся Василёк назад, убедился, что все фашисты там, где нужно, находятся, и сошёл с тропки ему одному известной в сторону. И на бугорок, для чужого взгляда неприметный, наступил.
И поднялась земля до самого неба! И вздрогнул лес недалёкий всеми своими деревами-кустами, каждой травинкой мелкой! И стало вокруг черно да страшно.
И долго ещё оседал на землю ветер. А когда осел, улёгся, распластался на чёрном да оплавленном, среди месива из крови, тряпок да металла, увидел ветер бумажный листок. И был на том листе мальчишка, карандашом нарисованный – будто живой, живее не бывает.
13
Там, в Москве, на перроне, немец, крепко держа старуху, нежно-нежно шептал:
– Мама!
И старуха отвечала, еле слышно шевеля губами:
– Василёк мой, Василёк…

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ИГРУШКА
Рассказ
Блокадников привезли среди зимы – детей. Сколько-то оставили в городе, других разместили по ближайшим сёлам и деревням. Кто мог учиться, по возрасту подходил, тех сразу отправили в школу: чего время зря терять? Ну, запустили полгода, так не беда – догонят. А если не догонят, значит, два года в одном классе просидят – тоже не страшно. Война, она спишет…
Первый класс изучал Мишку целый урок. И перемену ещё не трогали. И ещё один урок с ног до маковки обсматривали. На второй перемене подошли:
– Слышь, ты, ленинградец! Ты чего такой – молчаливый?
Мишка вздохнул, опустил глаза.
На полу лежал сухарик. Не сухарик даже – обломыш, с ноготь размером. Может, с прошлого дня остался – полы с вечера никто не помыл, вот и остался. Никто не замечал, а Мишка – увидел. Увидел, вздохнул ещё раз и начал оседать. Не теряя сознание, нет! Просто медленно так встал на колени и поднял обломыш, и протянул его всем – на ладошке:
– Хлеб! – И заплакал.
На третьей перемене он плакал снова. Дали кашу, чай и кусок хлеба. Никто не отнимал, но Мишка заревел:
– Хлеб!
Из третьего класса подошла девчонка, тоже из эвакуированных:
– У него в Ленинграде вся семья от голода умерла. Он всегда, когда хлеб видит, плачет.
Первоклашки разошлись, пожимая плечами и перешёптываясь: да, и у них было голодно, но что б так…
На другой день удивлялись снова.
Во втором классе учительница рассказывала про природу. И спросила про осадки. Все знают, что осадки – это снег, дождь, град… Вернее, все думали, что все знают. И учительница тоже думала, что объяснять ничего не надо, и спросила – у девочки из Ленинграда:
– Что падает с неба?
И девочка ответила:
– Бомбы.
Все подумали, что она шутит, и засмеялись. А девочка не засмеялась – заплакала. Как Мишка-первоклассник.
– Тихо! – прикрикнула на класс учительница. И попросила. Девочку: – Пожалуйста, не плачь. – И когда та успокоилась, задала другой вопрос, как бы наводящий: – А что ещё падает с неба?
И девочка, уже смелее, сказала:
– Падают снаряды!
– А что ещё? – растерялась учительница.
– Ещё мины и осколки, – отвечала девочка, – и ещё парашютисты…
Про снег, дождь, град она не смогла вспомнить…
В третьем классе самой яркой личностью в один момент стал Никита. Не потому, что у него был нож. Ножи у многих пацанов имелись – разные: настоящие и самодельные – острые! Для игры. Для – себя показать и другим пригрозить. Но Никита…
Сел Никита – после уроков – на крылечке, полешко из школьной поленницы взял и за полчаса такой пистолет вырезал! Как настоящий!
– Его чем-то чёрным покрасить, от настоящего не отличить, – сказал.
– А револьвер – можешь? – попросил кто-то.
– Могу, – согласился Никита. – Только немного дольше будет.
К вечеру у третьеклассников тако-ой арсена-ал бы-ыл! Пистолет, револьвер, граната-лимонка, граната противотанковая!
Мальчишки в очередь с заказами выстроились!
– А винтовку – сможешь?
– Смогу.
– Как настоящую?
– Как настоящую.
– Прямо, в самом деле, как настоящую?
– Как в самом деле.
– Что, настоящую видел?
– Видел.
– А пулемёт?
Девчонки не выдержали.
– Чего ты всё оружие да оружие? А куклу сможешь?
– Смогу.
И вот тут все ахнули!
В пять минут Никита куклу сделал – не то что девчонки, мальчишки даже руками развели: ну и игрушка!
Лицо у куклы – как у человека: нос, уши, волосы опять же. А дальше…
– А почему рот открыт?
– Кричит. Больно.
– А почему рука одна?
– Бомбой оторвало.
– А почему нога одна?
– На мину наступила.
– Да где ты такие игрушки видел?!
– В Ленинграде.
…И это были не игрушки – это были ленинградские дети: без рук, без ног, без глаз – и они плакали, и они кричали.

ДВА ОГУРЦА ЗА ГИТЛЕРА
Рассказ
Минька с Николашкой в войну играли. Точнее, собрались только. Начать – не получалось.
Надо же как? Надо, чтобы наши и фашисты. А выходит? Нашими оба хотят быть, а вот фашистами…
– Не буду я Гитлером! – Минька в конце концов заявил.
– А я чо, рыжий?! – Николашка выдал.
– Ты – цыган! – Минька про друга ляпнул, у того волосы чёрными были, завитками, и лицо – смуглым.
– Тем более! – Николашка рассердился. – Гитлер цыган расстреливает, а ты меня Гитлером хочешь сделать.
– Ничего я не хочу! – Минька глаза округлил. – Просто, если в войну играть, надо чтобы всё по правилам!
– Ага! – Николашка выдохнул. – А Гитлер по правилам на нас напал?
– Так ведь сволочь он!
– Конечно, сволочь!
Ребята, наконец-то согласившись друг с другом хоть в чём-то, на некоторое время замолчали.
Майское солнце, к полудню забравшись в самую синюю высь, слепило вовсю. Мальчишки щурились, но всё одно подставляли свои физиономии светилу, более всего напоминавшему им жареное яйцо.
– Пожрать бы! – вздохнул Минька.
– Ага! – поддержал приятеля Николашка. – Только нечего! – И предложил: – А может, давай, посчитаемся? На кого попадёт, тот и будет Гитлером.
– Ну… – задумался Минька.
– Начинаю! – не дожидаясь ответа, предложил Николашка. И зачастил: – Катилася торба с великого горба. Что в той торбе? Хлеб-поляница. Кому доведётся, тому и водиться! – Он ткнул Миньку в грудь. – Тебе Гитлером быть!
– Ты не так начал! – вскипел Минька. – Нечестно!
– А как честно? – повысил голос и Николашка.
– А так! – Минька сам начал счёт. – Катилася торба…
Счёт закончился на Николашке.
– Ты-ы! – протянул тот. – Ты специально!
– Чего – специально? Ты первый начал!
– Двину! – предупредил Николашка.
– Пододвину! – сурово шмыгнув носом, выдохнул Минька.
– Дам! – сжав пальцы в кулаки, выдохнул и Николашка.
– Поддам! – не сдавался Минька.
В следующий момент в калитке звякнуло кольцо.
– Мамка! – кинулся с крыльца Николашка.
– Председатель в район за ветеринаром послал, Манька слегла! – ошарашила мать. – Заскочила предупредить: ежели задержусь, не пугайся!
– А чо с Манькой? – озадачился Николашка; Манька была самой лучшей коровой в колхозе – молока давала много, исправно поставляла телят, которые удоями чуть только отставали от неё самой.
– В поле легла и не встаёт! Данилко пастушит – испугался, прибежал. Председатель-то там, туда умчал, а мне лошадь велел на конюшне взять и за ветеринаром! – мать быстрёхонько заскочила в сени, переобулась из лаптей в старенькие, оставшиеся от ушедшего на фронт отца, сапоги. – Поести захочешь, в чугунке щи.
– Какие щи? – удивился Николашка. – Трава же!
– Так ведь я туда картофелину изрезала! – тоже удивилась мать. – Целую!
– Так ведь мало! – чуть ли не простонал Николашка.
– Ну… – мать торопилась, но в калитке всё-таки встала. – Возьми огурец в парничке! – Пригрозила пальцем. – Один только! Слышишь? Один! – Потом, когда уже хлопнула дверца, и звук шагов её донёсся с улицы, докрикнула: – И воды наноси! На полив да в избу! К вечеру в огороде разполейся!
– Ладно! – рявкнул, что было сил в шестилетнем теле, Николашка.
– А мне тоже воды надо! – вздохнул Минька. – Мать с вечера ещё наказывала. Я забыл.
– А играть? – как-то робко напомнил Николашка.
– Давай с водой сначала управимся! – перевёл разговор на дело Минька.
Тропка к реке у них была общая, и огороды – соседские – забором не делились. К реке мальчишки бегали вдвоём – весело, громыхая вёдрами. Обратно – шли медленно: Минька нёс вёдра на коромысле, Николашка – в руках, у него на шее с зимы ещё чирей сидел и никак не сходил, хотя какими только заговорами не пользовались, каким только веником в бане не били. Взрослые говорили: с недоеда. Не наедался Николашка, вечно голодным ходил, а организм-то – рос и своего требовал. А как ему дать, когда всё, что в колхозе выращивалось, доилось да неслось, да в огороде вызревало, всё надо было в город отправлять, а там уже делили: что на фронт, что на заводы. Николашка печалился, но не унывал – у него отец живой был. Все остальные, кого из деревни в армию призвали, все с фашистами воевали – кто погиб, кто без вести пропал; к сорок четвёртому мало в живых осталось. А его отца на китайскую границу увезли – против японцев стоять, там уж какой год войны не было. К тому же мать у Николашки огурцами занялась – с самых ранних весенних дней, ещё и снег сходить не начал, парнички поставила. С окон в избе стёкла сняла, окна досками заколотила, а парнички устроила – за семена последнюю курицу отдала. Надеялась мать вырастить да поторговать в районе или в самом городе ранним урожаем. С того курочку вернуть, петухом обзавестись, а повезёт, так козой. Семья большая – без молока никак! Николашка-то не один у матери был. Впереди ещё трое росли: девять лет, десять да тринадцать – сами в колхозе уже работали, а тоже не хватало вдоволь наесться: война, что ж!
Миньке, Николашкиному одногодке, тяжелее приходилось. У него на отца не похоронка пришла – без вести пропал. Где-то под Ленинградом. И в семье – только мать в колхозе работала. А так – бабка старущая да сестрёнка малая. Корову в сорок втором на мясо зарезали – кормить нечем было. Курицы жили – и их подъели; в сорок третьем малая заболела, лечить надо было чем-то, вот и кончили курей – которую под нож, которую за лекарства.
Минька первым остановился. Не для роздыха.
– Давай палочки тянуть! – предложил.
– Чего? – Николашка сперва не понял.
– Кто короче вытянет, тому за Гитлера воевать! – Минька пояснил.
– Не! – мотнул головой Николашка. – Давай так: я тебе пару вёдер воды принесу – за так. А ты за Гитлера со мной повоюешь.
– Да я тебе два раза по воду схожу! – обрадовал друга Минька. – Давай!
– А я – Гитлером?! – попытался развести руки в стороны Николашка, но не смог – полные вёдра, ведь шёл с реки, не дали.
– Ну, хорошо, давай три раза схожу! – пообещал Минька. – А ты заодно отдохнёшь. Шея-то – болит поди.
– Болит! – согласился Николашка. И замотал головой: – Не! Не буду я так воевать!..
Во второй раз они остановились, когда каждому оставалось по одной ходке.
– Всё наносил? – спросил Николашка.
– Раз сбегать осталось! – отозвался Минька.
– И мне, – брякнул пустыми вёдрами Николашка. – Ты вот что, – он как бы задумался. – Есть ведь, наверное, хочешь.
– Ещё бы! – тут же признался Минька. – Пузо так подвело, выть хочется! А до вечера ещё далёко! Мамка вечером, как с поля придёт, болтушку сделает. Сказала, горсточку муки нашла.
– А щи будешь? – спросил Николашка и сделал такое лицо, будто сам удивился своей щедрости.
– Спрашиваешь! – выдохнул Минька, расцветая в улыбке. И тут же скис – догадался: – Ты это за Титл ера, да? Чтобы я ненашим был?
– Ну… – виновато пожал плечами Николашка.
– Эх, ты! – выдал Минька и бегом помчался к реке: в одной руке вёдра, в другой – коромысло.
Николашка побрёл следом – медленно-медленно, столкнулся с приятелем, когда тот уже поднимался в горку, уступил – сошёл с тропки, постоял, подумал…
Через полчаса Минька простил друга. Пришёл к нему, сидящему на крыльце. Сел рядом.
– Ну, играем?
– Ага! – будто и не было ссоры, согласился Николашка. – И сказал, шёпотом: – Ну не могу я за Гитлера! У меня отец – красноармеец, а я за фашистов играть буду?
– Так ведь – играть! – вскинул брови Минька.
– Не-е, – Николашка в который раз за день мотанул головой. И вдруг так выдал – как из пушки ахнул: – Я тебе огурец свой отдам! А?
– О-гу-рец?! – чуть ли не простонал Минька. – Настоящий?
– Ты же слышал, мамка разрешила! – Николашка аж привстал над ступенькой. – Ну?!
– Я… – начал было Минька, но Николашка уже добивал.
– Два огурца!
– Так тебе же один…
– Ну, мне же всыпят, не тебе!
– Так ведь по первое ж число!
– Ну, так не тебе же!
– Так ведь сидеть же не сможешь! – Минька искренне переживал за друга.
– Два огурца даю! – Николашка вовсе встал, сверху вниз глядя на друга.
Минька сглотнул слюну и взялся за живот – там урчало. Огурец – это тебе не лебеда, не листики, не кислица и уж тем более, не прошлогодние жёлуди, которые мать растолкла в муку и пекла из неё – не каждый день, а только по воскресеньям! – горькие лепёшки.
– Два огурца даю! – повторил Николашка, повысив голос.
Минька сглотнул слюну и тяжело поднялся. Теперь он стоял вровень с приятелем, глядел ему глаза в глаза. И взгляд у него был тяжёлым.
– Купить хочешь?
Такого взгляда Николашка испугался, вскинул руку в пионерском салюте, стукнул кулаком себе в грудь:
– Нет! – Опустил голову: – Гитлером быть не хочу.
– Два огурца! – произнёс Минька сурово. – За что?!
И тут же оба парня вздрогнули.
– Чегой-то – два огурца? – раздалось с улицы. – За что?!
Из-за забора на них глядел Семён Несторович – колхозный счетовод. Был он молод – двадцать исполнилось в минувшем декабре. Выглядел, правда, некрепко, но ведь из-за того и в армию не взяли: сердце его работало как-то не так, как у других. По крайней мере, он так людям объяснил, когда вернулся из района – после того, как повестку из военкомата получил и с этой повесткой в военкомат съездил. Привёз он с собой из района и бумажку с требованием освободить его от тяжёлых работ. И вот уже два года трудился в колхозной конторе, хотя до того – с четырнадцати лет! – вкалывал грузчиком в сельмаге. В общем, по всем понятиям мужик он был хоть куда, особенно в связи с отсутствием в деревне других, ему подобных, однако ж, вот же дело: за кем бы ни пытался ухаживать счетовод – за девчонками-невестами, да и за теми, кто чуток постарше – все давали ему от ворот поворот. Чем-то не глянулся он девкам. Но народ с ним здоровался, и он с людьми – тоже.
– Чего – два огурца? – переспросил Семён Несторович. И потребовал: – Ну-ка, объясняйте!
– Да мы играем, – робко начал Николашка. – В войну.
– Ага! – согласился Семён Несторович. – А огурцы причём?
– А у нас Гитлером никто быть не хочет, – хмуро пояснил Минька.
– Колька мне предложил два огурца, чтобы я за фашистов воевал, а он нашим будет.
– И? – спросил счетовод, будто не понимая сути.
– Так я Гитлером быть не хочу! – Минька всё ещё был сердит на друга и этой злостью плеснул на взрослого человека.
– А играть хочешь? – усмехнулся Семён Несторович.
– Хочу! – качнул головой Минька.
– А со мной играть будете? – вдруг спросил счетовод. И, воровато оглянувшись, сбавил голос: – У меня полчаса времени есть. Могу помочь.
– Правда? – в голос не поверили своему счастью мальчишки – забыв о ссоре, которая минутой раньше могла переродиться в вековую вражду, весело глянули друг на друга.
– Правда! – усмехнулся Семён Несторович. И скомандовал. Николашке: – Неси огурцы.
– З-зачем? – вытаращил тот глаза.
– Вам же нужен тот, кто против вас будет? – пожал плечами счетовод. – Ну, вот. Я Гитлером и буду. За два огурца.
Минька открыл рот, а Николашка вдруг сорвался с места и чесанул в огород, и вернулся – быстрее пули. В протянутой к счетоводу ладошке лежали два некрупных – зелёных и пупырчатых! – чуда.
Минька шумно втянул носом воздух:
– Пахнет-то как!
Семён Несторович, поднатужившись, перемахнул забор, прошагал к пацанам и сгрёб с Николашкиной ладони огурцы. И сунул в рот – один за другим: Хрум-хрум! Хрум!
– Хороши! – хлопнул он затем себя по животу. И расплылся в улыбке: – Ну, играем? – Визгливо вскрикнул: – Хенде хох! – И – за-коверкал язык: – Вы от меня тикай! А я вас – плен! Пуф! Пуф!
Ребята остались на месте. С открытыми ртами.
– Вы чего? – пожал плечами счетовод. – Ногами к земле приросли?
Минька, не говоря ни слова, глянул на Николашку и кивнул головой в сторону взрослого:
– А?
– Ага! – без слов понял тот друга. И подвёл итог: – За два огурца Родину предал!
– Чего-о? – протянул счетовод. – Идите-ка вы! – Он сердито сплюнул: – Родину!.. Дураки вы! – ругнулся он и ушёл. Уже через калитку, а не через забор. – Мелочь пузатая!
…К вечеру вся деревня знала, что Семён за два огурца согласился стать Гитлером.
Возвращаясь домой из колхозной конторы, Семён Несторович всякий раз приподнимал кепку, покрывавшую голову – приветствовал стариков и старух, попадавшихся ему на улице: «Наше вам!» – и всякий раз встречал в ответ тишину и тяжёлый, не лишённый злобы, а то и вовсе ненависти, взгляд.
…Николашка встретил мать с вицей в руке – протянул вицу, сам спустил штанишки и повернулся спиной, наклонился, подставляя зад:
– Я огурцы у тебя… Того… Два… Бей!
И впервые в жизни его не тронули.
А Семён уехал из деревни к осени – испросил разрешение у председателя, якобы на учёбу, и уехал; и до того у него с людьми особо не ладилось, а после огурцов Николашкиных и вовсе будто врагом всем стал.








