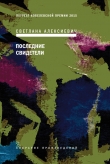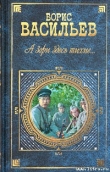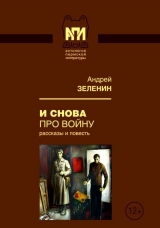
Текст книги "И снова про войну (Рассказы и повесть)"
Автор книги: Андрей Зеленин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ СОЛДАТА КОНЬКОВА
Рассказ
Есть такие специальные мины: на них наступаешь – щелчок, и ничего. Не взрывается. Но только ногу поднимешь – тут же рванёт. Страшное дело. Страшные мины.
Тимофей Коньков на такую напоролся. Бежал с донесением в штаб и, нет, чтоб по дороге, а срезать решил! Заскочил в лесок – тропку заметил, метров с пятьдесят, наверное, протопал, и всё. Как услышал, что под ногой правой хрустнуло, так и замер. А глянул вниз – ёлки-палки! – не сучок с дерева: мина!
На спину сразу будто кто ушат воды родниковой – ледяной – вылил. А голову наоборот жаром обхватило – словно в печь сунули.
Кричать, на помощь звать Тимофей не стал: до дороги далековато, да и ходят по ней не часто. Кроме того: а вдруг немцы услышат? Оборона-то наша не ахти какая, мало ли фрицы где прорвались, опять же разведчики их могут шастать.
Подумал так Тимофей Коньков и…
Лучше бы не думал!
Из кустов на тропку – трое! В маскхалатах. В руках автоматы. И рожи довольные: как же! Готовый пленный!
– Хенде хох!
С карабином за спиной да на мине стоя, не то что с тремя – с одним фрицем не справиться.
Поднял Тимофей Коньков руки вверх.
Один немец сразу за спину зашёл, карабин с Тимофея снимать начал. Второй в карман нагрудный – в гимнастёрку – полез, красноармейскую книжку достал. Третий в сторонке остался – товарищей своих прикрывал.
Когда второй книжку красноармейскую пролистал, на свой манер фамилию Тимофея переделал.
– О, Конкоф! – сказал. – Гут! – сказал. – Ком! – сказал, мол, пошли, давай, с нами.
– Не могу! – Тимофей одним словом выдохнул.
Немец на него удивлённо глянул, на своём что-то лопотнул.
– На мине стою, – Тимофей разъяснил, и глаза вниз скосил.
Фриц – разведчик опытный, сразу дело понял. Сперва, правда, отскочил: дрогнул – что и его разорвать может. Затем вернулся – заржал, как жеребец у командира полка, где Тимофей служил. Напарникам своим сказал, на своём, – те тоже посмеялись.
«Ну, вот и конец, – подумал Тимофей. – На кой я им такой? Книжку красноармейскую взяли, карабин забрали – шлёпнут, на тот свет отправят, да и дальше пойдут».
Однако немцы не торопились. Второй закинул свой автомат за спину, полез к Конькову в другой карман, за пазуху… Тут Тимофей и обмер: донесение ж! Доклад комбата: сколько бойцов в каждой роте, где позиции заняли, кого-чего не хватает… Ёлки-палки!
Фриц донесение глянув, глазам не поверил. «Гут-гут!» – заповторял, товарищам своим махнул, сказал им что-то. Те тоже обрадовались: вот ведь удача для них какая! Затем замолчали они, на Тимофея глядя, видно думали, что с неудавшимся «языком» делать. Дальше опять переговорили и – захохотали, спинами повернулись. Зашагали по тропке к себе, к своим. Один, правда, руками помахал, показал, что с Коньковым будет. Потом.
И выходило, что два варианта жизненных Тимофею выпадало, а конец – один: если не сам подорвётся, то наши же расстреляют – за потерю особо важного на сей момент донесения и личного оружия.
Говорят, в последний момент жизни у человека перед глазами все его года за миг проносятся, все беды да радости. Неправда то. Тимофею только одно припомнилось: конец сорок третьего, когда он, семнадцатилетний, два года в колхозе отработав, добровольцем в армию уходил. Мать одна провожала. На отца ещё в сорок первом похоронка пришла. И хоть Тимоша у матери один оставался, но сказала мать: «Живым придёшь – встречу, а если погибнуть судьба, только чтоб без позора!»
А здесь, тут…
«Да лучше пусть меня в клочья разорвёт! – Тимофей решил. – Главное, чтобы немцев осколками достало, пока далёко не ушли!»
И шагнул Тимофей Коньков с мины в сторону.
И хлопнуло сухо и коротко – эхо по лесу пронеслось да замерло.
Взрывной волной бросило Тимофея в кусты, откуда немцы на него вышли – ветками лицо поцарапало, гимнастёрку в трёх местах порвало.
Долго он там – в кустах – лежал: всё не верил, что жив остался.
Боялся ногой-рукой пошевелить: а вдруг что оторвало? А когда решился, да из кустов назад выбрался, опять же долго на тропке стоял – смотрел, глазам не верил.
– Смешная, однако, история… – сам себе говорил.
После того осторожно, каждый сантиметр вокруг себя глазом обшаривая, чтобы вновь не встать куда не надо, карабин взял, книжку красноармейскую с донесением подобрал – и на дорогу вернулся.
…В мае сорок пятого вручили Тимофею Конькову, который всю свою войну в вестовых у комбата провоевал, медаль «За боевые заслуги». Наверное, за то, что приказы выполнял точно и в срок. За то, что, наверное, жив остался.
Кстати, командир полка медаль вручал. Правда, другой уже. Того, который на жеребце любил покрасоваться, перед Одером убило. Вместе с жеребцом. Одним снарядом.
Да и комбата у Тимофея немцы тоже отмечали – два раза в санбате побывал.
А вот Конькова и пули и осколки миловали.
Про историю в лесу Тимофей никому не рассказывал. Хватило ума. Иначе всяко могло выйти. Особый отдел шутки не шутил. И долго хранил Тимофей свою тайну – аж до восемьдесят девятого[24]24
Восемьдесят девятый – здесь: 1989 год.
[Закрыть], когда его, ветерана, на встречу к молодым ребятам, будущим строителям, в училище пригласили. Одному из них там и открылся, когда провожался уже…
Не сработала мина, на которую Тимофей Коньков в лесу встал. Вот не сработала, и всё! А то, что хлопнуло-рвануло – то немцы-разведчики бдительность потеряли, посмеялись над пацаном-красноармейцем и другую мину не заметили. Сами наступили.
Такая история.
Смешная.

КОМУ НА ВОЙНЕ ТЯЖЕЛЕЕ
Рассказ
Старый спор был затеян лишь для того, чтобы скоротать время до начала атаки. А само начало назначено было на шесть утра – на самый мороз и вражий сон. Командиры предупредили, что артподготовка будет солидной и долгой. Под её шум должны заработать танковые двигатели. Танков в лесу, что прикрывал тылы наших траншей, имелось достаточно – те, кто ходил в штаб, в санвзвод да по другим делам, подтверждали: машины есть, и не мелочь какая-нибудь, а «тридцатьчетвёрки» и тяжёлые самоходы-«зверобои». Говорили, что, как начнут бить орудия, с воздуха по немцам ударят штурмовики, а глубину обороны обработают бомбардировщики. В общем, наступление намечалось серьёзное, а потому в траншеях, несмотря на отсутствие видимого движения, было неспокойно – нервно. Кое-кого так и вовсе поколачивало.
– Тяжелее всего на войне пехоте-матушке, – вполне серьёзно и без всяких предисловий начал невидимый в темноте командир отделения – сержант, прошагавший сквозь огонь Отечественной не одну сотню километров, не один раз раненый, имевший орден и две медали. – Как ни крути, а без нас ни оборониться, ни взять ничего – везде штык да граната нужны. А у кого штык? У нас, у пехоты! Шагать нам, братцы, ещё и шагать – до самого Берлина! А земли сколько перерыть придётся! Тракторам столько не справится – сломаются. А на спине сколько перенести, да на руках – лошади помрут. Тяжело пехоте!
– Я до пехоты в артиллерии служил! – отозвался сержанту кто-то из недавнего пополнения. – Подносчиком был. Артиллеристам тяжелее. Что пехота? Винтовка да автомат. На спине нести – что? Сидор солдатский, ну, ежели помочь ещё, и всё! А окопаться – как? Себе да товарищу помочь! А пушкарям! Ежели орудие на лошадиной тяге, за конями следить: поить, кормить, обтирать, от огня укрывать, да подковы набить – тоже дело! А ежели машина есть? За ней ухода сколько? А окапываться? Себя – одно, а ты пушку окопай да замаскируй! А снаряды подтащить, да не один-два, а десяток ящиков! А после боя, если жив остался, позицию прибрать! А там одних гильз!.. Опять же, как начнёт пушка стрелять, так все фашистские артиллеристы за ней охотятся, самолёты наводят, танк, если что, на неё же идёт! Не пехотинца же давить! Пушка, она страшнее! Так что, артиллеристам тяжелее!
– Ну, сказал! – буркнул третий солдат. – У меня брат до войны на тракторе работал. Как в армию призвали, механиком-водителем стал. Так уже три раза в госпитале лежал: два раза горел, как есть живой – ни волос на голове, ни бровей на лице не осталось, а другой раз обе руки осколками перебивало. Сам четыре танка поменял и восемь товарищей похоронил. А по ком фашисты в первую очередь стреляют – по пехоте что ли, если танк на них прёт? А ты говоришь: пушка!
– Ну… – отозвался бывший артиллерист несколько растерянным голосом.
– А лётчики! – подхватил разговор ещё один боец. – Я вот шесть классов кончил, решил: хватит. В колхозе работы много было, так я конюшил: и пахал, и сеял, и табун пас. А приятель мой, Мишка, дальше пошёл. До города добрался, с десятилеткой справился, а потом – в училище лётное. В госпитале вместе совпали, бывает же! Меня в руку тюкнуло, а он – с неба на землю: сбили.
– Плохо летать выучился! – съязвил кто-то невидимый; зимняя мгла по-прежнему не позволяла видеть человека.
– Дурак! – отозвался тот, кто работал конюхом. – Зениткой сбили! Так вот, – продолжил он, – меня в руку тюкнуло, пулей, а ему ноги переломало, рёбра да челюсть! У нас, пехоты, обстрел – зарылся в землю и лежи. Бомбёжка – то же самое. А у них куда? Нет, лётчикам тяжелее!
– А мне братишка письмо прислал, – зазвенел вдруг в траншее молоденький голосок. – Ему четырнадцать всего, учиться бы в школе, а он – на завод! Смены у них знаете, по сколько? Двенадцать часов! А на обед что дают, знаете? Щи, где капусты не найти и мяса не бывало, а если картошка попадётся, то праздник, и кусок хлеба чёрного! Кусок на ладошке помещается, и муки в нём – меньше половины: то жмых, то трава. А он пушки делает! Пацан! Пушки! Пишет, живот надсадил, детали тяжёлые, а работать всё одно: надо! А тут ещё заказ срочный с танкового завода пришёл: пушек на самоходки нужно больше. Так он уже неделю дома не ночевал! У станка спит! Пацан! Кому тяжелее?
– Да-а!..
– Ну-у!..
– Эх-х!..
Заворочались, закрякали, запереживали в темноте солдаты. Кто-то вспомнил сестру, оставшуюся с ребёнком, кто-то – жену, оставшуюся с двумя.
И вдруг раздался ещё один звонкий голос:
– А вы представьте, как тяжело сейчас моей маме! Она врач-педиатр. До войны она лечила детей, а сейчас работает в госпитале и каждый день помогает выздороветь раненым. У нас нет отца, и я у неё единственный сын. Был. Теперь у меня есть брат и сестра. Моя мама усыновила двух ленинградских детей. Их вывезли из блокадного города еле живых. Теперь каждое утро она собирает их в школу, во второй класс, днём прибегает на полчаса домой, чтобы покормить их и сказать, что она с ними, потому что они боятся, что снова останутся без мамы. А потом мама снова бежит в госпиталь. А там пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лётчики, моряки… Ночью у неё тоже бывает дежурство и, если выпадает свободная минутка, она пишет мне письма, где говорит, что у неё всё замечательно. А сама, я знаю, сама она переживает: как я здесь, жив ли, не устал ли, копая окопы, не потерял ли я шарф и варежки, которые она связала мне перед отправкой на фронт! А утром она приходит домой, кормит ребят и ведёт их в школу. И – снова в госпиталь! Потому что у тех, кто там лежит, тоже есть мамы, и они надеются на неё, что она поможет!
Голос сорвался, и в траншее наступила тишина, нарушаемая свистом ветра.
Потом все услышали сержанта.
– Штыки все примкнули? – глухо спросил он. И добавил: – Как до этих, – и все поняли, до кого, – как до этих дойдём, коли и бей. Бей и коли.

МА-МА
Рассказ
Над Найдёновым почти весь полк смеялся. Но, смеяться-то смеялись, а многие минутку-другую улучали, чтобы к этому самому Найдёнову пожаловать и что-нибудь гостинцем принести: сухариков, сахарку, а то и вовсе редкой – однако чего только на фронте не бывает! – карамели.
Прославился Найдёнов в полку не сразу. И среди бойцов появился не с первого боя – пристал, когда отступали. Его и брать сперва не хотели – старик, пятьдесят ещё в тридцать седьмом стукнуло, возраст непризывной. Но тут конь у начштаба захромал – подкову о камень сбил, и Найдёнов – чего только у него по карманам ватника старого, да в таком же затёртом сидоре, иначе мешке заплечном, не нашлось! – подкову в пять минут обратно поставил. Конь не шелохнулся – сразу чужака принял, хоть и слыл в полку самой своенравной животиной: не то чтоб к себе подойти, мимо пройти не давал – кусал, если дотягивался.
Начштаба тогда спросил:
– Что ещё умеешь?
Не у коня, известно, спросил, у Найдёнова.
Тот плечами пожал:
– Всего помаленьку.
Так и остался при штабе.
Оформили его связистом, звание дали солдатское: красноармеец.
С осени сорок первого до конца сорок второго прослужил Найдёнов в полку – простой солдатской жизнью. Три начальника штаба при нём сменились, четыре командира полка, да и сам полк не один раз обновлялся – и отступали, и наступали, и в обороне стояли – всякое бывало. И всегда Найдёнову дело находилось, а не находилось – сам находил: обрыв провода под огнём фашистским исправить надо? – исправлял. Донесение к окружённому батальону доставить, когда уже четверо из посланных полегли? – доставлял. Раненого с поля боя вынести? – выносил. Сапог у напарника прохудился, а старшины с запасом нет? – сам латку ставил. И махоркой последней делился, и газеткой… А когда командир дивизии в полк без приглашения явился и никто побеспокоиться не успел, самовар с кипятком неведомо откуда а принёс: вот, мол, побалуйтесь чайком, товарищи командиры.
Как всё успевал?
Неразговорчив, правда, был. Ну, так не у всякого на войне душа к разговорам лежит…
В самом начале сорок третьего отбил полк у немцев нашу деревушку. От неё и печей не осталось – всё фрицы взорвали. Взорвали, да дёру! Ну, полк вдогонку – ещё одну деревню взяли, с ходу-то. Там фашисты тоже похозяйничали, но сжечь да взорвать успели не всё – постреляли только. Всех. Всех, кто из жителей в деревне оставался: стариков со старухами, женщин с детьми – поиздевались ещё над телами, известно же: гады!
Найдёнов по деревне освобождённой связь тянул – катушку с проводом раскручивал, да у палисада одного, танком поваленного, остановился.
За палисадом дом пустой с окнами битыми, у дома бойцов – полтора десятка: судачат, галдят, – шумят, в общем.
– Что такое?
Глянул Найдёнов – сердце захолонуло: у крылечка, на снегу, женщина лежит – без одежды почти, молодая и… красивая была бы, да вся пулями пробита, в крови вся. Фашисты по ней стреляли. А она собой дитя укрывала. Да ладно так укрывала – все пули ей, а пацану – нисколечко.
Мальчишечка рядом с телом стоит – будто не видит ничего, не слышит будто. Махонький сам: год-то есть, а двух – ещё не стукнуло.
Зовут его бойцы, каждый по своему, а он не отзывается: встал – застыл.
– Ваня… Стёпа… Лёша… Оська… – Ни к кому не идёт.
– Сёмка, – Найдёнов позвал. Наугад сказал: – Сёмка.
Дрогнул мальчишка, глаза распахнул и шагнул. К Найдёнову. Руки навстречу протянул:
– Ма…Ма…
Других слов, ясно, не знает.
И вот тут плакать бы надо, а, глядишь ты, смех пошёл.
Стоит солдат Найдёнов: валенки размера сорок пятого, шинель полами до земли, шапка со звёздочкой на брови надвинута, шестой десяток солдату, старик сам, усы колючие, щетина отросла – бородой кажется, и вот: мама.
И куда тут деваться?
Бросил Найдёнов катушку со связью, шинель скорее распахнул – принял пацана к телу, чтобы теплее…
Командир за связь, за её отсутствие ругать не стал. Сперва, правда, и матернуться думал, а мальчишку увидел – враз оттаял:
– Иди-ка сюда, – руки протянул. – Иди…
Обвил мальчонка шею Найдёнову своими ручонками да как зальётся в голос:
– Ма-ма! – испугался, что отнимут сейчас.
Майор и растерялся:
– Кто-о?
В тыл пацана не отправили – не успели. Фашисты полк от дивизии отрезали, штаб полка в окружении оказался. Двое суток наши отбивались: до последней гранаты, до последнего патрона. Потом захваченным у фрицев оружием сражались, благо того было – во все стороны смотри. Да в штыковые ещё сколько раз ходили, врукопашную.
Найдёнову врукопашную биться не довелось – не пустили. Комполка приказал за малышом смотреть. Найдёнов на того все портянки свои спустил, рубашку нательную опять же… Ну, а что с пацана возьмёшь, коли ума на год с небольшим ещё? Только и позовёт: «Мама!» – а как подбежишь, уже сырой – уфурился.
Однако когда фашисты уж вовсе впритирку подошли, и Найдёнов свои обоймы расстрелял: Сёмку в сидор, мешок заплечный, посадил, на спину себе закинул, и давай из карабина по фашистам:
– Бах! Бах!
Сёмка – сзади – сперва орал: «Ма-ма!» – потом кто-то ему кусочек сахара в ладошку сунул, так он его в рот и замолчал, а там… Танковая бригада – наша – подошла, кольцо немецкое разорвали. Соединились полк с дивизией.
Полк на отдых отвели.
За два дня в землянке у связистов кого только не перебывало! Не протолкнуться было! В очередь перед землянкой стояли – понянькаться.
Сёмка милость не во всём проявлял: гостинцы – те, да, все забирал, а вот если на руки кто хотел взять, тут же к Найдёнову кидался:
– Ма-ма!
Так на второй день, в землянку заходя, даже комполка спросил:
– Мама-то на месте? – Потом приказ отдал: оставить малыша у местного населения. Деревушку на карте указал – в двух верстах всего, где люди живые остались. Лично от себя кусок мыла передал, банку консервов да плитку шоколада: – Пригодится. На первое время.
Старшина для Сёмки портянок на портки выделил, кашу-концентрат…
В общем, когда поутру Найдёнов с пацаном из полка уходили, ноши у Найдёнова было столько, что горбился солдат. Впрочем, горбился не только от ноши – за несколько дней прикипел сердцем к Сёмке. Так бы и остался с ним! Да нельзя солдату как сердце просит, можно так лишь, как командир приказывает. А командир приказал: оставить.
Вернулся Найдёнов к вечеру. На все вопросы отвечал скупо, хмурился:
– Оставил… Дом целый… Хозяйка – добрая… Серьёзная – за тридцать уже… И свой есть…
Дней через пять, полк опять на передовой был, связь нарушилась. Кого послать? – и вопроса не случилось: Найдёнова.
Провод телефонный от штаба полка до первого батальона через речушку небольшую тянулся – по льду. Фрицы из пушек и батальон обстреливали, и речку. Так и разорвало провод: один конец на берегу, другой в полынье.
Пополз Найдёнов по льду мокрому – не добраться до второго конца иначе как через полынью, нырять нужно. Нырнул. Раз. Другой. Третий…
Есть связь?
Есть!
…К вечеру ужин подвезли. К кухне полевой идти надо. Все пошли – Найдёнов с лавки, что в штабной избе, подняться не смог.
Фельдшер пришёл к Найдёнову – глянул: в жару мечется.
Смотрит Найдёнов на фельдшера – не узнаёт, видит и не видит ровно, так простуда взяла. Взяла – и не отпустила: ни таблетки не помогли, ни укол. А под утро и вовсе затих. Совсем.
Так вышло: погибших в полку в новый день не случилось – хоронили Найдёнова как положено: не в братской могиле, а в отдельной. И даже салют дали: солдаты из винтовок с карабинами, командиры из пистолетов с револьверами.
Холмик могильный аккуратно досочками от снарядных ящиков обложили, столбик деревянный в ноги установили, звёздочку жестяную – сверху.
На столбике – на табличке – писарь штаба старательно вывел и фамилию, и звание, и год смерти…
К вечеру на передовую другая часть подошла – снялся с позиций полк, отправился в тыл, на переформирование.
Кому вздумалось дополнить смертную табличку, неведомо, но когда исчез в навалившихся на мир сумерках звук последних шагов, затих скрип снега, под витиеватыми росчерками про красноармейца Найдёнова, оставленными рукой писаря, оказалось ещё одно слово – химическим карандашом – крупно, в две строчки, с переносом:
МА-
МА.

ДОБРЫЙ ФРИЦ
Рассказ
Всё произошло неожиданно и быстро: весть о начавшейся войне, уход отцов и старших братьев в армию – на фронт. И вот… Вечером в деревне были красноармейцы, а к полудню другого дня везде хозяйничали фашисты. Они не спрашивали: куда хотели – заходили, что хотели – брали. Стон и крик стояли над деревней.
В их дом, построенный за месяц до войны колхозом – за ударный труд родителей и двух старших братьев – немцы ввалились пьяной оравой. Однако похозяйничать не успели. Стащили только полотенца, что висели у рукомойника, да наследили порядком. А потом…
Потом в доме поселились два офицера с денщиками.
С хозяевами они не церемонились: выгнали в сарай. Да ладно что не на улицу!
Сарай, кстати, тоже был свежей постройки – крепкий, не стылый. А иначе – беда! Беда, если малые простынут. А их, малых, у матери на руках трое оставалось: Ванечке два годика, Лизавете – четыре, Да-шутке – седьмой.
Старших – Петра и Павла – тринадцатилетних близнецов, что год после шести школьных классов в колхозе отработали, с началом войны вместе с другими подростками и стариками покрепче отправили в тыл. Не отдыхать. Работать: копать противотанковые – длинные и широкие, против вражеской бронетехники – рвы.
Отец, не дожидаясь повестки из военкомата, ещё раньше сыновей сам ушёл в армию. Срочную служил в артиллерии, решил, что без него на фронте никак. Про близких – жену и малышей – думал-надеялся: колхоз, если что, поможет.
Помогать вышло некому. Двое из оставшихся мужиков – бухгалтер да конюх – пробовали за обиженных сельчан заступиться, да фашисты долго не раздумывали, что с ними сделать. Расстреляли. И бухгалтера, и конюха.
Не церемонились фашисты.
«Фрицы» – так их называла мать. Всех. По имени одного из денщиков, что поселились в доме и по-хозяйски принялись распоряжаться чужим.
Этот фриц заставлял её работать на себя и офицеров: мыть полы в доме, стирать грязное бельё, готовить, носить воду от реки – добрый километр, колоть дрова, прибираться во дворе…
А ещё фрицы били мать, если дети её подавали голоса. Маленьким было позволено только одно: молчать и не показываться на глаза фашистам.
Впрочем, был ещё один запрет: нельзя было просить есть. И просто: есть.
Мать кормила детей тем, что оставалось в горшках после готовки. Однако фрицы ели хорошо. А если что и оставалось, суп или каша, сливали в помои.
Мыть горшки и тарелки мать уходила во двор. Зальёт кипятком и… Этим кипятком и кормила. И Дашу, и Лизу, и Ванечку. Счастье, если к стенкам горшка пристывало несколько крупинок каши или прилипал кусочек картошки!
Днями офицеры пропадали в разъездах – на автомобиле с гусеницами вместо задних колёс объезжали окрестные деревни и отбирали у людей всё съестное и тёплое, что не забрали до них. Реквизировали для нужд германской армии. Так это у них называлось.
Дома оставались денщики. Они играли в карты, пили вино, которое воровали у своих офицеров, или гоняли деревенских – кто попадёт под руку. Даже стреляли из винтовок. Хорошо, правда, поверх голов.
Больше всего Фриц – мелковатый, рябоватый, с прищуром на левый глаз немец – измывался над матерью. Продукты для офицеров он, как старший из денщиков, получал в штабе. Машину для перевозки офицеры ему не давали. Носить коробки и банки самому? Для этого Фриц брал с собой мать. По разбитой в болото дороге она, гружёная так, что мотало из стороны в сторону, шагала порой час-полтора. От обуви – старых резиновых калош – осталось одно название. В этом «названии» Фриц гонял мать и зимой. Валенки он отобрал и у матери, и у малых. Под дружный хохот своего начальства. Уж кому там в немецкой армии обувка четырёхлетней девчонки да шестилетней пригодиться могла?
У Ванечки валеночек с рождения не было. Он на ножки слабым уродился, вместо обувки у него носочки вязаные ножки грели. Да не согрели…
Однажды утром загудела деревня. У фашистов паника поднялась.
После того бегали со двора во двор – собирали всех местных. От велика до мала. По сараям и ямам: чтобы все, как один, на площадь явились.
Ванечку и Лизу, когда стояли в толпе, мать держала на руках. Да-шутка, чтобы не упасть, не потеряться, цеплялась за край материнской юбки, сквозь дыры в материи чувствуя холод родных голых ног.
На площади перед бывшей школой, ставшей фашистским штабом, на снегу лежали трупы немецких солдат. Убиты они были видно ещё ночью – тела их застыли, холод превратил лица в страшные оскаленные маски.
У старшего офицера, что появился перед деревенскими, один вопрос был. Через переводчика спросил-протявкал:
– Кто? Это! Сделал!
Никто не сознался. Может, выдавать не хотели. Может, и в самом деле не знали.
Офицер грозил, кулаками зло потрясал. Только вот что грозил, мать не расслышала – Ванечка заплакал, она утешать принялась.
Домой их, в сарай, денщики гнали. Фриц шёл – подпинывал, винтовкой грозил.
Потом мать назад повёл – за продуктами для офицеров. Там со своими – немчурой – разговорился.
Гоготали фрицы, мать со всех сторон охлопывали:
– Фрау гут! Фрау старк! Фрау фойе! – Руками махали, изображая что-то, что от земли к небу тянется. Потом за собой потянули: – Ком, фрау! Пф-ф…
Фриц мать не отпустил: нагрузил коробками да опять привычной дорогой погнал.
Во дворе остановился. Долго на поленницу смотрел. Дрова ещё с прошлого года припасены были для тёплой – доброй – жизни.
Смотрел Фриц, смотрел – думал, что ли… Затем заставил топить баню. За водой не погнал, велел в бак снега набрать. Проследил, чтобы дров в подтопок легло много. Потребовал баню топить жарко.
Дров из поленницы мать несколько охапок в баню сносила, но с поленницы почти не убыло.
И тогда Фриц, предварительно распахнув все окна в доме, заставил мать топить русскую печь.
Его товарищ, другой денщик, закатывался со смеху, глядя, как уставшая женщина носится со двора в дом и обратно, а Фриц понукает её толчками в спину, мол, плохая хозяйка – в доме холодно…
Приготовить поесть для фашистов и покормить детей мать не успела. С ужасом ждала наказания, ведь малые в сарайке ревели в голос. Да ещё беда: всю поленницу до последней щепочки пришлось истопить в доме да в бане…
Вечером, в густеющей тьме, из дальней деревни приехали офицеры. Замёрзшие и голодные, они, злые, накинулись на денщиков.
На ком сорвали свой гнев денщики?
Фриц вытащил из сарайки всех её обитателей и, не обращая внимания на мольбы матери, замахнулся на малышей топором. Ругался долго и грязно; офицеры, стоя на крылечке, аплодировали.
И выходило так, что матери вместе с детьми надлежало отправляться в лес. За дровами. В ночь. В надвигающуюся метель, – по деревне вовсю уже носилась позёмка.
Санки, которые дал им Фриц, были большие и тяжёлые. «Доверху!» – знаками показал фашист, сколько дров нужно привезти из леса. И – пинками погнал со двора.
Посадив самых младших на санки, мать потянула санки за собой, криком позвала старшую:
– Дарья!
– Не пойду! – ни с того ни с сего заявила та. – Холодно!
Мать и сама видела, что дети могут не перенести ночной дороги – кинулась к Фрицу, упала на колени:
– Пожалуйста! Деток поморожу! Пусть здесь останутся! Они плакать не станут! Они тишком…
– Век! – коротко рявкнул фашист и толкнул мать в плечо, мол, пошла!
Затем, видя, что упирается в основном только одна девчонка, Фриц подошёл к Дарье, легко оторвал её, с голода почти невесомую, от земли и, как есть, запустил через забор на дорогу: В лес! Все!
Потом снова погнал мать и младших. Пинал их до тех пор, пока те не выбрались со двора.
Дашутка лежала на спине, раскинув руки. Мать кинулась к ней: жива ли?
Девчонка оказалась живой. Только правая нога – сломана. Как раз под коленкой. Так уж упала…
– Так и не срослось по хорошему, как нужно, – Дарья Васильевна потёрла правую ногу – через толстый чёрный чулок, вздохнула. – Восьмой десяток идёт, сколько врачей смотрели, говорят, ничего не исправишь. Говорили, вот если бы раньше! Или предлагали заново кость сломать, да в гипс. Не хочу.
– А что дальше было? – перебил я старушку. – Что с тем фашистом стало? Убили его?
– Да Бог с тобой! – вскинулась Дарья Васильевна. – Каждый день Господа молю! Не знаю, конечно, жив ли, но – за здравие молю. Да добавляю потом тише: коли не за здравие, так дай ему, Господи, Царствия Небесного.
Тут я и поперхнулся:
– Это как? Это за что? За то, что он Вам ногу сломал?! За то, что издевался?!
– За то, что жизнь сохранил, – Дарья Васильевна снова вздохнула, и видно было, что воспоминания тягостны ей, и рассказать-поведать – хочется.
…Той ночью мать не смогла вернуться в деревню. Из-за метели сбилась с пути. Ночевали в лесу – на еловых ветках под еловыми же лапами – крепко-крепко прижавшись друг к другу. И всё равно замёрзли. Не вусмерть, но крепко.
Метель бушевала и на другой день. Мать, походив вокруг ели, ставшей её семейству жилищем, набрала сколько-то шишек, ободрала кору с недалёкой осины: плакали да ели. Другого-то – ничего не было! Воду мать из снега в ладошках натапливала – по капельке-две каждому. Потом животы у всех свело. Ванечка, маленький, сильнее всех мучился. На другое утро умер.
Дров на санки мать немного кинула. Положила на них Ванечку и Дашутку, попросила сестрёнку братика держать. Лизку посадила на загорбок и – домой: авось, не убьют, а убьют, так уж и не маяться…
Фрицев в деревне не оказалось. Ни одного. И местных – тоже. Ни души. И домов – одни – трубы печные: какие целые, какие порушенные. И чёрное всё. И гарью пахнет.
Тут мать и ахнула. Только тут и сообразила, какими карами старший офицер из немцев деревне грозил, о чём фашисты говорили, что жестами показывали: огонь!
Сожгли фрицы деревню. Всю. С жителями вместе. За своих.
Косточки человеческие потом по всем пепелищам находились: какие побольше – от взрослых, какие поменьше – от деток…
– Мы потом снова в лес ушли, там до наших жили. А отчего Фриц ненавидел нас, да мать особенно, так это, мать один раз как-то проговорилась, за то, что по женской части его к себе не допустила, мужу верна осталась. А муж… Отец с фронта не вернулся. В сорок втором убило. Это уж после войны узнали. Петьку, брата старшего, ещё в сорок первом поранило бомбой. Он недолго прожил, в двадцать один год схоронили. Жениться, правда, успел. Но детишек не случилось. А Паша в начальники выбился – в райисполкоме работал: не главным, заместителем, но тоже – важная должность. Лизка в колхозе осталась, на ферме, вместе с матерью там трудились. А я вот – в школе. Училище педагогическое закончила, сразу после школы, и всю жизнь затем по кругу: первоклашки, второклашки, третий класс. Потом снова: первый, второй, третий… Кабы не тот Фриц, никого бы нас не осталось: и меня не было бы, и дочек моих, и внучат опять же. Фриц тот добрым всё же оказался.