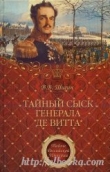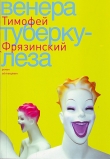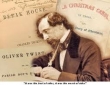Текст книги "Эпизод из жизни ни павы, ни вороны"
Автор книги: Андрей Осипович-Новодворский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
– Да вы поэт! – воскликнула я от чистого сердца, но сейчас же раскаялась. Он смутился, покраснел и начал нервно пощипывать свою бородку. Ему очень не к лицу, когда он краснеет. Это с ним случилось чуть не в первый раз с того времени, как мы возобновили наше знакомство. Тогда я не обратила внимания, но теперь мне кажется очень странным: отчего он не попробовал отшутиться и посмотрел на меня такими глубокими, серьезными и добрыми глазами? Более красивого лица, как было у него в ту минуту, я и вообразить себе не могу. Но вдруг он тряхнул волосами, по лбу у него пробежала и скрылась какая-то тень, на губах застыла обычная полуулыбка, и лицо приняло обыкновенное выражение. Впрочем, что ж я на этом так останавливаюсь! Он мог что-нибудь вспомнить и, может быть, даже не видел меня, хоть и смотрел во все глаза!
Я прервала молчание:
– Вы, кажется, хотели говорить об исторической иллюзии? Что это такое?
– А это уж с очень высокой точки зрения. Как-никак, а все-таки рано или поздно все упомянутые речки (уж позвольте мне продолжить «поэтическое» сравнение) – погибнут. Всё ведь погибнет, даже Земля на Солнце упадет. Положим, до всего этого нам дела нет, но моя струйка признает только жизнь, бесконечную жизнь. Это раз. Во-вторых, она всегда несколько ошибочно представляет себе будущее, потому что, по необходимости, исходит из настоящего. Видит грязный омут – и старается его обойти, воображая, что завтра будет всё, что могло бы быть и сегодня, если б не этот омут: лимонные рощи на месте жидкой лозы, изумрудные луга вместо болота и прочее; там увидит плотину и думает, что послезавтра, и так далее. В своих представлениях о будущем она отводит слишком большое место собственной чистоте, любви и прозрачности, так что вызывает улыбку недоверия. Вот что я называю исторической иллюзией. Вы видите, что это нисколько не изменяет ни характера, ни скорости поступательного движения, а между тем доставляет отраду, потому что приятнее идти к ясной, чем к туманной, цели.
– А у остальных ничего подобного нет? Они сравнительно свободны от иллюзий?
– Нисколько. Их иллюзии такого же типа, только меньшей силы. Стоячее озеро уверено, что завтра уничтожится это несносное движение вокруг, вся природа замрет, и неподвижные облака раз навсегда остановятся над его позеленевшей поверхностью; бурый от грязи и очень нервный поток очень возмущается песнями, которых нет в его собственном репертуаре, и мечтает о будущем с точки зрения своего негодования и так далее. Это – закон исторической инерции. Вот вам, барышня, и сказочка! – заключил он.
– Как! – разочаровалась я, – значит, ваша избранная, струйка – тоже продукт инерции?
– Конечно.
– Так я ровно ничего не понимаю. Чем же она в таком случае отличается от других? Никто ни в чем не виноват, как бы себе ни жил!!
– Это – как посмотреть…
– Скажите лучше, что вы не желаете говорить серьезно! Вы затем так забавно противоречите себе, чтоб меня злить? По-вашему, например, сожгли, как в Средние века бывало, ни в чем не повинного человека – и все правы?
– А вы не горячитесь, барышня! Я только указывал на факт и не приводил его нравственной оценки. Если бы вы могли сказать устроителю костров и кандидату в герои, что оба они продукт исторической инерции, то есть неизбежное следствие известных причин, то первый от этого все-таки не перестал бы быть, по-своему, правым, а второй, по-нашему, заблуждающимся. Америка открыта благодаря заблуждению Колумба, который, как вам известно, был в полной уверенности, что едет в Индию. Теперь проследите историю этого заблуждения. Оно не свалилось с неба готовым; оно слагалось веками, путем длинного ряда предшествовавших заблуждений, от низшего порядка к высшему. Нужно было, чтоб люди представляли себе Землю как неопределенную площадь, стоящую на трех слонах или рыбах; нужно было, чтоб эта форма уступила место большому блину, плавающему в воде или всё еще на рыбах, а то, быть может, и прикрепленному к твердому небесному своду, устроенному так дивно, что ни один смертный не может отыскать там ни малейшей трещины; нужно было, чтоб Земля превратилась потом в шарообразный центр Вселенной и так далее. Высший порядок заблуждения предполагает собою и его уменьшение. Вместе с этим шел и другой ряд. Средневековому попу казалось, что шарообразная форма Земли – фокус диавола, чтоб завлекать несчастных людей в ад; поп времен Галилея так же точно относился к движению Земли и так далее. Общее начало обоих этих рядов с их разветвлениями относится к тому туманному прошлому, когда в организме, от которого мы происходим, голова отделилась от желудка; а более или менее ясно обрисовались они с того времени, когда головы в свою очередь разделялись на две категории: те, что больше о собственном желудке помышляли, и другие, с некоторым лишком мозговой деятельности. Последние создали мифологии, религии, науку, причем постоянно открывалось множество мест и вакансий, немедленно занимаемых людьми первой категории, и в последний исторический период вернулись снова к желудку: ясно и определенно выдвинули вопрос, так сказать, о гармонии человеческих желудков… Здесь уже практические интересы единиц и групп не поддаются такой удобной маскировке, как, например, в эпохи религиозных движений; они назойливо и неотступно требуют того или другого ответа от всех и каждого, и потому правота одних и заблуждения других выразились чрезвычайно резко. Теперь уже нельзя жить исключительно личною жизнью: человек всецело принадлежит своей группе, своей струе и несет часть ответственности за ее преступления, прошлые, настоящие и будущие… Он уже не может умереть с сознанием, что не сделал ни добра, ни зла, что жил скромным и безразличным куском мяса; нет безразличия; либо добро, либо зло. Кусок мяса – целая история миллиона жизней, борьбы, страданий и труда. Ориентироваться среди различных направлений и сознательно примкнуть к одному из них – сделалось теперь задачей воспитания и жизни всякого, кто настолько умен, что не желает погибнуть в бесплодной борьбе с собственной головой. На эту работу он затрачивает много сил и энергии, но если покопаться, то окажется, что он иначе и поступать не может и результат, к которому он приходит, есть именно тот, к которому ему и нельзя не прийти. Но это опять уж очень высокая точка зрения».
Наталья Семеновна не всё поняла в скучноватых отвлеченностях Алешки, но все-таки убедилась, что он с нею не расходится, и этого для нее было вполне достаточно. Она крепче прижалась к спинке дивана, подобрала под себя ноги, наклонила голову, плотней, на самые глаза, надвинула накинутый на плечи платок и смаковала то приятное настроение, какое испытывала только ребенком, когда, бывало, сидя вечером на соломе у затопленной печки, она прильнет к старушке няне и, следя за переливами огня, слушает ее волшебные сказки. Что за минуты! Какая-то нега и теплота разливается по ее детским членам; легкий треск слегка шевелящейся соломы, красноватый отблеск пламени и густые тени по углам и потолку комнаты возбуждают и без того сильную фантазию; воображение мало-помалу уносит ее далеко-далеко и от печки, и от няни к прекрасным царевнам и ужасным змеям, и душа замирает от страха и наслаждения. Но то был волшебный мир, куда даже ребенок вступает недоверчиво и робко; а в его сказке, то есть – как бы сказать? – не сказке, а в тех чувствах и образах, которые возбуждал тон его рассказа, всё было так реально, так возможно и сулило такое счастье, что, казалось, стоит только протянуть руки – и ты получишь всё, чего захочешь, и не в воображении только, а на самом деле прочно утвердишься… в замке.
«– Остается еще прибавить о завязке и развязке. Завязка – уяснение их солидарности, а развязка… ну, чахотка, а не то замок.
Я вздрогнула. Он произнес это как-то очень неожиданно, словно подслушал мои мысли.
– Какой замок? – спросила я почти бессознательно; но мне вдруг почему-то стало страшно, и я поторопилась предупредить его ответ: – Прекрасно. Об вашем романе понятие имеется. Но я могла бы заняться более обыкновенным героем?
– Э, барышня, – отвечал он раздражительно, – мы с вами, кажется, скоро к сказке о белом бычке перейдем! Понятно, могли бы. Никто и не спорит! Когда счастливое семейство соберется зимним вечером у камина и отец рассказывает анекдоты, а мать вяжет чулок, то это очень мило и естественно. Но наше время, я полагаю, не похоже на безмятежный вечер у камина… Дряхлым инвалидам и глупым младенцам не возбраняется и анекдотами забавляться; только ежели бы я считал вас инвалидом или младенцем, то не стал бы с вами и разговоров разговаривать.
Оригинальный комплимент!»
«Он говорит: „идея, логика истории…“ Где же она? Откуда ей взяться, когда между людьми нельзя найти и двух человек, смотрящих на жизнь совершенно одинаково?… Но, конечно, он прав. Ах, как я мало знаю! Нужно учиться, учиться… Нельзя терять времени: я его ужасно много потеряла. Романом вздумала „баловаться“! Теперь мне совестно и вспомнить об этой затее. Буду изучать историю. Какая грандиозная картина зарождения, укрепления, роста идеи, которая, несмотря на всевозможные препятствия, будничные заботы, страдания и несчастия человечества, все-таки ведет его к развитию, совершенствованию, счастью!.. Господи! если бы мне удалось принять хоть крошечную долю участия в этой гигантской работе! Но я совсем говорить не умею; не могу выразить и десятой доли своих чувств… Я дрожу и не могу писать. Неужто только нервы? Ну и пускай их… Не буду успокоивать: мне во всяком случае дорого такое расстройство…»
В записной книжке:
«– Что значит знать историю?
– Знание истории равняется возможности ясно представлять себе роман из любой эпохи, то есть положение «героя» и развязку его романа.
– Вы говорили: «Задача воспитания живого человека – ориентироваться среди различных направлений». Но разве движения масс предполагают какое бы то ни было ориентирование в каждом из своих участков?
– То стихийный, коллективный герой; я говорил о единичном. «Движение», собственно, и начинается от места их встречи, а роман с того момента, когда «герой» окончил свое воспитание и принялся за практическую деятельность».
В дневнике:
«Есть два величайших произведения человеческого духа: легенды о Фаусте и Вечном Жиде. Они будут иметь значение, пока живет человечество. Фауст относится к целому человеку, к человеку-животному; он ближе и понятнее нам. Вечный Жид выражает отвлечение одного только человеческого начала нашего существа; он ждет еще гения, который воспроизведет его в ярком художественном. образе. Такой образ даст картину исторического развития путем страдания за то, что считается истиной. Фауст – продукт раздвоения, противоречий, обнаружившихся в отдельном человеке, если его рассматривать как самостоятельный мир. Вечный Жид – плод несоответствия в воззрениях человека и общества. Первый находит отголосок и сочувствие в людях всевозможных цветов, партий и направлений; второй является отщепенцем… Но когда это большинство состарится и умрет и дети начнут копаться в наследстве отцов, с улыбкою недоумения выбрасывая вон разный негодный хлам, он, спровадивший своих врагов на кладбище, останется жить, чтобы, через известные промежутки времени, совершать такое сопровождение… вечно». Подписано буквою А.
«Как это скоро, неожиданно случилось!.. До сих пор опомниться не могу от счастья…
Он пришел бледный и озабоченный. Я это сразу заметила и испугалась.
– Что случилось… Алеша? – У меня невольно вырвалось это слово; до той минуты я всегда называла его Алексеем Иванычем.
Он улыбнулся.
– Ничего особенного… Я пришел проститься с вами.
– Как! Вы уез… – У меня вдруг оборвался голос и похолодели руки. Я чуть не упала; он поддержал меня…
Но нет! Не могу второй раз пережить этих впечатлений: они слишком сильны… Да и не к чему записывать; я их никогда не забуду».
«Странный мне сегодня снился сон! Я была маленькой девочкой, лет семи, и стояла на крыльце нашего домика. Возле меня сидела на скамейке мать и няня. Хутор был пропитан запахом цветущей липы. На зеленом дворе паслись гуси и телята; в ворота въезжал Прохор на паре бурых лошадей и вез сено; собака вертелась возле телеги с веселым лаем. День был ясный, теплый. Вдруг отец вышел тоже на крыльцо и говорит: „А посмотрите-ка, что это речка как будто вздулась?“ Мы оглянулись направо, где за плетнем, внизу небольшой отлогости, протекала маленькая речка и вертела единственное колесо старой мельницы на низкой плотине. На наших глазах вода стала прибывать, прибывать, бурлить, сорвала плотину, снесла мельницу и приблизилась к самому дому. Мутная и сердитая, она высоко подбрасывала свои зеленоватые волны и взбивала пену на их вершинах. По ее клокочущей поверхности узенькой молнией прорезывалась серебряная полоска, как будто боролась с гребнями и направлялась прямо ко мне. Я почувствовала, что это она за мною идет, и бросилась ей навстречу. Но отец и мать задержали меня: они догадались, что я хочу сделать. „Не ходи, говорят, милая! Не бойся, мы тебя защитим. Смотри, как ты быстро растешь…“ (Мне всё прибавляются года, и наконец я совсем выросла. Картины быстро менялись; я пережила все впечатления детства, даже как будто уезжала, словно окунулась, в гимназию, и снова вернулась к тому же месту, и вода всё так же стояла, грозная, неумолимая.)
«Смотри, ты уже невеста… Мы ли тебя не берегли, не холили? Дай нам полюбоваться на твое счастье… Мы тебе хорошего человека в женихи найдем, деток твоих понянчим…» Они смотрели на меня с любовью и плакали. Крупные слезы падали на землю, и в них отражалось солнце. Мне представилось, что вся их тихая жизнь похожа на этот день: утро, полдень, вечер – и конец, – только то, что делается само собою, без всякого их участия. Я вырвалась от них, убежала и проснулась.
Добрый отец! Он так верит в сны!.. Но и меня это тревожит… Я прекрасно знаю, что сон ровно ничего не значит, ничего не пророчит; меня удивляет только эта сила воспоминаний до мельчайших подробностей. Например, я совсем забыла про своего любимца, старого Жучку, а во сне вспомнила; еще у него было ухо откушено, чужая собака откусила. На няне был тот самый платок – черный, с красными крапинками, – что мать в день моих именин подарила. Тогда к обеду был суп, жареная утка и пирожное желе… Говорят, такая мелочность и связность воспоминаний бывает у утопающих и преступников в минуту казни… «Хорошенькие женщины и преступники особенно чувствительны к постороннему взгляду…» Откуда это я взяла? Я почти пугаюсь этих строк… Как будто, помимо моей воли, во мне говорит что-то другое, вполне от меня независимое… Вздор! Не надо поддаваться слабости.
Напишу домой… Милые мои, простите, не осуждайте меня! Я люблю вас всей душой, люблю больше, чем когда бы то ни было, но должна расстаться с вами…»
Этим заканчивался (в начале апреля) дневник, очень небольшой и заведенный, по-видимому, исключительно для «героя». В книжках тоже ничего больше не было о любви. Но оставался еще неразъясненным вопрос: что же Вольдемар? Я еще раз перелистал его notes и вдруг в самом конце заметил письмо. Оно было написано незнакомым, видимо измененным и искусственным почерком, но тем не менее ясно выдавало автора. Вот оно:
«Милостивый государь! Долг честного гражданина заставляет меня обратить ваше внимание на девицу Наталью Семеновну Кирикову, проживающую по Болотной улице, в доме № 18, кв. 6, которая, во-первых, занимается проституцией без надлежащего на то от полиции разрешения и узаконенного билета, а во-вторых, отличается неблагонадежным образом мыслей. Чтобы вы, милостивый государь, не сочли моего заявления голословным и не отказались принять относительно вышеименованной проститутки надлежащих мер, прилагаю при сем ее записную книжку и дневник, которые, надеюсь, слишком даже докажут верность моих слов».
Когда он добыл и как потерял такие драгоценные документы, написал ли новое письмо, возымело ли оно какое-нибудь действие, а также стал ли он после этого издавать газету – дело темное. Во всяком случае, он выдал расписку, что его роман кончился.
1881
МЕЧТАТЕЛИ
(Рассказ)
Часов восемь майского утра. Воскресенье и прекрасная погода, почему городок N, рано просыпающийся вообще, выглядит особенно оживленно и весело. Накануне был дождик, и роскошная пыль, обыкновенно покрывающая длинные и прямые улицы густым слоем, не туманит прозрачного воздуха и не беспокоит глаз. Окна белых, смазанных глиной или известкой домиков, с соломенными крышами, большею частью раскрыты. Деревья садов, изобилующих в N, и кусты палисадников сверкают за живописною каймою всевозможных заборов свежею, яркою зеленью. На всем лежит светлый, ласкающий колорит, и лысина толстого «полковника» Закржембского блестит, как медный шар. Полковник Закржембский стоит у своего частокола и наблюдает уличное движение. Ему не жарко, потому что по утрам он не имеет обыкновения обременять себя излишним платьем и, презентуя прохожим расстегнутый ворот ночной рубахи и рукава синего пиджака, во всем остальном уповает на высоту и скромность ограды. Сухощавый «майор» Зубов занимает такой же обсервационный пункт у своего плетня, vis-a-vis, но одет очень парадно: на нем легкое коричневое пальто, соломенная шляпа, а на руках черные перчатки. Он православный и приготовился идти в гимназическую церковь. Полковник Закржембский католик и ходит в костел, где служение начинается позже. Отсюда следует тот вывод, что, во-первых, город, о котором речь, находится в юго-западном крае, а во-вторых, что в нем есть гимназия.
По направлению к базарной площади медленно двигались малороссийские телеги, на лошадях и волах, – с дровами, сеном, хлебом, овцами, телятами и поросятами в мешках. Звонкие, протестующие голоса юных пленников так пронзительно раздавались в неподвижном воздухе, что собаки, смирно лежавшие у ворот и калиток, не выдерживали и принимались аккомпанировать громким лаем и воем. Бабы шли пешком и несли на рынок кур, яйца, свертки холста, сукна и горшки с колотухой сметаны, молоком и прочим.
– Бабко! що несешь? – от времени до времени справлялся полковник.
– Сметанку, паночку!
– А яец нема?
– Нема, проше пана.
– Ну, ну, иди з Богом! – Эй, молодуха! у тебе що? – останавливал он другую.
– Яйця, паночку.
– А сметани нема?
– Нема, голубчику; у мене, Господь зна чого, коровка занемогла…
– Ну, ну, иди з Богом!
Полковник останавливал и мужиков, справлялся о товаре и цене и вообще обнаруживал большое любопытство. Майор вел себя сдержанно, как человек, находящийся по части закупок и домашнего хозяйства в строгой зависимости от суровой супруги.
Когда движение на минуту стихало, наблюдатели перекидывались фразами, продолжая начатый разговор:
– Да, да! Так так-то, майор.
– Да-а!..
– Удивительно!..
– Что и говорить!
– А как вы думаете, майор: не произойдет ли из этого войны?
– Кто его знает! По газетам будто не похоже…
Телеги стали попадаться реже. Их заменили брички окрестных помещиков, арендаторов и управляющих. Первыми показались г‹оспода› Нагоскины из Затишья, муж и жена, которым в сумме было полтораста лет.
– На почту едет, – заметил майор, – на его имя деньги из банка получены.
– И зачем ему, старому, деньги? а?
– Кому не нужны деньги!
С этим мнением полковник охотно согласился.
Потом, как вихрь, промчался пан Залесский из Зарубинец в эффектно-простой тележке, но на великолепной паре пегих, с такою массою побрякушек и бубенчиков, что полковник невольно отшатнулся от забора и воскликнул:
– Ого!..
– Финтит! – равнодушно заявил майор. – Будущий урожай жиду продал, а новых лошадей купил… Прогорит!
Четверкою, цугом, торжественно проехали панны Изопольские, в количестве двух вполне взрослых, одной средней и одной маленькой, в изящной коляске, купленной, как всем было известно, десять лет тому назад в Киеве, на контрактах, за 900 руб. сер. Лихой кучер, в черной свитке и красном поясе, хлопнул три раза бичом, как из пистолета, правой рукой, потом ловко перебросил вожжи и проделал то же самое левой и, с легкой краской благородной гордости на мясистых щеках, замер в величественно-неподвижной позе.
– Ловко правит, мошенник! – сказал полковник.
– Правит, каналья, ничего, – прибавил майор.
Коляска плавно удалялась и своим мелодическим гулом привлекала к окнам любопытные и завистливые глазки N-ских барынь и барышень.
– А паненки-то, майор? а?… Ха-ха!
Полковник поцеловал кончики пальцев, а майор робко оглянулся назад и ничего не отвечал во избежание семейных неприятностей.
Улица на время угомонилась. Торжественно зазвучал церковный благовест, и через минуту послышался тоненький звон гимназического колокола, которым ученики созывались по будням в классы, а по праздникам в церковь. Торопливой походкой прошмыгнуло несколько гимназистов, из которых один вчера сидел в карцере, один получил нуль из латинского, а прочие ни в чем замечены не были. Потом степенной походкой выступил высокий учитель словесности (имел привычку никогда не садиться в классе, потому что раз ему засунули в стул булавку); хозяйки возвращались с базара с покупками; лениво пробрела директорская корова, и, наконец, в отдалении показалась медленно приближавшаяся фигура кругленького человека в парусинной накидке, фуражке с кокардой и палкою в руке.
– А! генерал! здравия желаем! – крикнул ему полковник зычным басом.
– Господину советнику… нижайшее! – произнес майор умеренным тенором.
«Генерал», он же и «советник», приветливо закивал головою, прибавил шагу и скоро очутился как раз посередине между частоколом полковника и плетнем майора. Он остановился в минутной нерешительности – к кому подойти, потому что, в сущности, «полковник» и «майор» были одинакового, далеко не важного чина.
– Пожалуйте ко мне, генерал! – решил его колебание полковник. – Я, знаете, по вольности дворянства… Ха-ха! Выходите-ка и вы, майор! Вот мы теперь всё и решим!
Майор с генералом приблизились, все обменялись рукопожатиями и сразу приступили к делу:
– Слыхали, генерал?
– Изволили слышать, господин советник?
– Откровенно вам сказать, господа, еще ночью узнал. Прибежал Лейба и всё доложил… Да, дела!..
– И как же вы думаете?
– Тут и думать нечего: дело ясно…
– Что ж такое? – спросили полковник и майор в один голос.
Генерал чего-то смутился и бросил на полковника испытующий взгляд, но скоро оправился и сделал таинственное лицо.
– Одни говорят, что англичанин интригует, другие – будто жиды мутят… Ну а я, по правде сказать, не знаю. Так, про себя, в мыслях, – он помахал рукою около лба – конечно, разные соображения приходят, а чтобы наверное утверждать – этого я не могу… Однако прощайте, господа! Вечерком на пульку пожалуйте? Милости просим!
Он сделал ручкой, перепрыгнул через гирлянду будяков, отделявших заборы от дороги, и зашагал дальше, оставив приятелей в настроении величайшего недоумения и напряженного любопытства.
– А, майор?
– Мда-а…
– Знает он что-нибудь или врет?
– Неизвестно… Может, знает, а может, и не знает…
– И торопится-то – просто удивительно! У людей праздник, а он – по жидовским делам… живодер!
– Да-а, любит денежки… Однако и мне пора. До свидания, полковник!
Майор удалился, а полковник посмотрел ему вслед презрительно и проворчал:
– Тоже таинственность на себя напускает… башмак этакой!
Потом плюнул, зевнул и ушел в комнату.
Кругленький «генерал» между тем дошел до церкви, осенил себя троекратным крестным знамением, протолкался к алтарю и поставил свечку пред иконой св. Николая; затем снова направился к выходу и через черневшую народом, как муравейник, площадь углубился в мещанскую часть города, где, как гнезда ласточек, лепились по спуску к пруду, одна возле другой, мазанки сапожников, тележников, столяров, бондарей, мелких торговцев, с оборотным капиталом не больше десяти рублей, торговок, с необыкновенным упорством просиживающих дни на площади возле столиков с товарами (в зимнее время они имеют обыкновение помещать горшки с горячим углем под юбки), выкрикивая: «Иголки, нитки, бусы, тесемки, мыло, сера хорошая, синька, крахмал» и так далее. Всё это с удобством может поместиться в большом кармане и стоит грош. Далее следовали факторы, долгие извозчики и тому подобный люд, главным образом двух исповеданий: иудейского и православного. Он остановился возле накренившейся набок и вросшей в землю избушки с куском полинялой вывески на почерневшей, поросшей травою крыше: «С…х дел мает…», вошел в низкую дверь и обратился к косматому, растрепанному хозяину, сидевшему на голой скамье, у голого стола, среди голой обстановки в самой сосредоточенной позе.
– Здравствуй, Максимыч! Ну?…
– Вот чтоб мне с «эстого» места не встать! (Максимыч очень проворно вскочил с места.)
– Э, дружок, так нельзя! Который уж раз? За это, я тебе откровенно скажу, господин судья не хвалит… Очень даже не хвалит!
– Явите божескую милость!.. Вот ужо ярмарка будет – беспременно… Вот вам крест святой! Чтоб мне провалиться!
– Гм… Чернила есть?
– Чернил – сколько угодно! Это мы с удовольствием… Эй, Матрена! что буркалы-то выпучила? Сбегай скорей, чернил достань!
Матрена стремглав бросилась к соседям за чернилами, и через минуту Максимыч старательными каракулями изображал свое имя, отчество и фамилию под «бумагой» такого содержания:
«По сему моему векселю повинен я уплатить отставному надворному советнику Евгению Нилычу Цветаеву или кому он прикажет»… столько-то и к такому-то сроку. «Руку приложил».
Евгений Нилыч спрятал вексель в объемистый кожаный бумажник, хранившийся вместе с носовым платком в боковом кармане парусинного пиджака, испустил глубокий вздох и направился к другой избе. Там произошел такой разговор:
– Ну?
– Это насчет чего-с!
– Срок тебе сегодня! Или забыл? Ах, голова, голова!.. Еще и спрашивает: «Насчет чего-с!..»
– Держи карман!
Строптивый должник лежал на печи и, надо отдать ему справедливость, был сильно пьян. Последнее обстоятельство делало невозможным рациональный обмен мыслей, несмотря даже на умиротворяющее женское вмешательство хозяйки дома.
– Так как же, миленький?
– А вот так же: наплевать!
– Тсс… леший!
– Молчать, баба! не то я тебе такую физику пропишу… восчувствуешь! Туда же учить лезет! Сам знаю! Я его не трону, не сумлевайся! Он мне ничего, и я ему ничего… Поговорили – вот и всё. А чтобы, например, драться – зачем? Так ли я, барин, говорю?
Евгений Нилыч, вместо ответа, вытер пот со свежего и румяного, но в ту минуту огорченного лица, погладил ровненько подстриженные усы и бакенбарды, с легкой проседью, затем сделал какую-то отметку карандашом в записной книжке и вышел, хлопнув дверью.
Такие маленькие неудачи не особенно, впрочем, печалили его с денежной стороны, потому что в векселях красовались значительные суммы больше для красоты слога; на самом же деле, каждый долг в отдельности был ничтожен, и в общем операции ссуды давали все-таки солидный барыш. Притом главные его фонды хранились частью в банке бумагами и частью были розданы помещикам под веские обеспечения. А этой мелюзгой он занимался так, чтоб иметь какое-нибудь занятие, твердо помня, что праздность – мать всех пороков. Евгений Нилыч рассчитал, что сегодняшний день, если даже выключить сомнительные получки, даст около шести рублей чистой прибыли. Это его значительно успокоило и с нравственной стороны, и он в новой избе произносил свое лаконическое: «Ну?» – таким добродушным тоном и с такой улыбкой, словно не испытал ни малейшей неприятности.
Аккуратность евреев была выше всякой похвалы, а хохлы вели себя со свойственным этой нации юмором.
– Спасибi, паночку! Дай вам Боже, щоб наша праця на утiху та на щастя… I дiточкам вашiм, i жiньцi,шьид, i неньцi, i тiтцi… Яке ви нам добро робите, таке нехай i йим…
Евгений Нилыч окончил деловой обход и с легким сердцем бодро зашагал по направлению к плотине, ловко лавируя между навозными кучами, в которых копошились куры, и отбросками обывательского пищеварения, которыми владели свиньи на правах монополии. Прохожие почтительно кланялись ему и уступали дорогу; он благосклонно кивал им головою и грозил палкою жиденятам, имевшим привычку сидеть живописными группами возле домов в состоянии детской невменяемости.
Евгений Нилыч дошел уже таким образом до вывески Сруля-шорника, но тут вдруг вспомнил недавние малороссийские пожелания, и лицо его омрачилось. Не любил он этой тонкой ядовитости! Кто его знает, на какой час попадешь! Лет пять тому назад на этом самом месте он встретил стару Оксану. Как раз такой же хороший день был. Она должна была ему три с полтиной, сама вынесла деньги на улицу и как-то особенно назойливо повторяла: «I дiточкам, i дiточкам… Дай йим Боже!.. Нехай ростут такi ж гарнi та хорошi, як i ви…» Тогда с ним случилось несчастье: приходит домой – сынишка мертвый лежит, с дерева упал. Лет шести мальчик был… Не могло быть ни малейшего сомнения, что старуха – ведьма… Ну да что об этом толковать!
Солнце так ослепительно светило с ясного неба, что представления о темных силах не могли долго удержаться ни в чьей голове. Евгений Нилыч тряхнул головою, посмотрел вдаль, на белую, веселенькую хату г-жи Неструевой («капитанши»), и постепенно растянул рот в широчайшую улыбку, как говорится, до ушей…
Славная девушка – Катя Неструева! Бойкая, живая и работница, какой поискать! Язычок только больно уж резок бывает – ну да это и извинить можно: молода еще! Как только Евгений Нилыч войдет, она сейчас же и накинется: «Что, много денег сегодня нацапали?» – «От трудов своих, Катерина Ивановна, от трудов своих! – станет он отшучиваться, по обыкновению. – По совести да по закону никому не возбраняется… А вот придется вам своим домком обзавестись – сами узнаете, что такое денежки…» – «Домком своим я обзаводиться не буду. А подло – и больше ничего…» Странно, право! Ведь скажи это кто-нибудь другой – насмерть, кажется, изобиделся бы; а начнет она этим грудным голоском, даже нахмурится и сверкнет черными глазками, якобы, значит, сердита, – и ничего; всё равно что ребенок болтает. В сущности, предобрая она. Улыбка так и не сходит с розового личика… «Кофе будете пить, что ли?» Матери только не боится – вот что нехорошо. Очень нехорошо! Всегда, милая, родителей почитать надлежит! Она хоть, по правде сказать, никуда не годится, старуха-то, но все-таки… И вообще к старшим уважение надо иметь. Ох, дети, дети! У нее светлые, белокурые волоса – распущенные или в две косы заплетает – темные брови, и груденка совсем тово… Эх, Катя! Вот только что шесть рублей получены: хочешь на булавки? Ты сердишься? Мало тебе? Бери тысячу, две, три – всё!