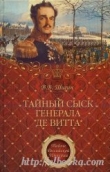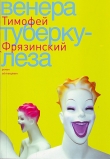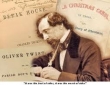Текст книги "Эпизод из жизни ни павы, ни вороны"
Автор книги: Андрей Осипович-Новодворский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Пока Наталья Семеновна приходила в нормальное состояние духа, я, нижеподписавшийся, перечитывая ее дальнейшие строки, всё больше и больше волновался: из дневника выглянула одна знакомая черта, другая, и, наконец, как живой, выпрыгнул Алешка и бросился ко мне на шею. Я сначала было обрадовался старому знакомому, но потом вспомнил, что с его появлением всяким художественным выкрутасам в моем изложении – капут, и пришел в значительное уныние. Где Алешка – там угловатость и тенденция. Я в этом убедился грустным опытом.
Помню, когда он еще в университете был, вышел такой случай. Мы вместе проводили каникулы в деревне. У меня была знакомая соседка-помещица, очень милая дамочка, с эстетическими стремлениями и аппетитною грудью, и эта грудь ужасно томилась, потому что кругом всё были неудовлетворительные кавалеры.
– Просто вы не поверите, – жаловалась она мне, – хоть бы один человек… Всё мумии какие-то! Карты, охота… Двух слов путных не услышишь!
Я немедленно попросил позволения представить Алешку… Приятель мой. Так его все товарищи называют: Алешка да Алешка. Очень живой человек.
– Алешка-то! Да ведь это какая-то ходячая тенденция. Я о нем слыхала… Впрочем, познакомьте! – прибавила она.
Я познакомил, а он, не будь плох, барыню с пути истины совратил. То есть не то чтобы совсем совратил, но она в акушерки поступила.
Малый большого роста, брюнет. Впрочем, знакомые никогда не говорили о нем – «брюнет», а почему-то – «черномазый», а о волосах – «волосатый», о лице – «рожа». Я не разделял такого мнения: лицо как лицо, даже очень недурное лицо, выразительное, с прямым носом, небольшими усами, бородой и несколько хитрой улыбкой. Платье – самое партикулярное и полинялое; голос двоякий: тихий и мягкий, с ироническими нотками в разговорах так себе, вообще; но громкий и глубокий, когда дело шло о материях повыше. Впрочем, за время нашего знакомства второй голос у него прогрессивно уменьшался.
Это признак зрелости. Многие молодые люди обладают только вторым голосом. У таких лицо восторженное или свирепое, глаза горят и смотрят серьезно, неподвижно, как у богов, и словно командуют: «Равняйсь!» И собеседник равняется; чувствует, что ему ни вправо, ни влево своротить или пошалить не дозволяется; а если, Боже сохрани, хоть крошечное низменное шило где-нибудь высунется, тогда одно спасение: уходить поскорее. Молодой человек обдаст его таким презрительным взглядом, что хоть сквозь землю провалиться! Алешка скоро освободился от такой односторонности. Он, некоторым образом, подобно Прудону, мог с большим аппетитом обедать в обществе, например, станового, который ошибочно принимается молодыми людьми за простое вместилище всяких мероприятий. Все мы люди, все человеки, и у станового, сверх мероприятий, всегда найдется достаточно материала для юмористических наблюдений.
Несмотря, однако, на такую обходительность, Алешка нигде не уживался долго и всегда делался героем какой-нибудь «истории». Был секретарем какой-то управы – «история»; учителем был – опять «история». И не то чтобы скандал какой или разругался, а так вдруг убедятся в одно прекрасное утро, что его держать невозможно – и конец. И дело понимает, да всё как-то обобщать любит. Ему бы, будем так говорить, только записать что или справку выдать, а он сейчас этакое общее освещение, тенденцию. Кончилось тем, что его никуда не принимали. Он нанимался в чернорабочие, но и тут выходили «истории»: обобщает.
Случился довольно странный фокус: люди, изгонявшие Алешку за «обобщения», словно заразились, сами начали обобщать самым отчаянным образом. Дано, положим, дело. Сейчас возникал вопрос: а как на это Алешка посмотрит? Будет ли вот это решение в обиду ему или в удовольствие? С тем и сообразовались. К Алешке сводились все вопросы; Алешка стал популярен. Для него лично это значило: хоть с голоду помирай. Но к такому суровому приговору обстоятельств он относился с равнодушием философа и кое-как жил, отнюдь не переставая обобщать.
– Ты бы, дяденька (имя рек), представил меня публике в надлежащем виде, – обратился он раз ко мне, – а то ведь им же хуже… Смех смотреть, как убиваются, чтобы моего одобрения не заслужить.
Мы были в саду. Я послеобеденный моцион совершал, а он по каким-то вечным «делам» пробирался для сокращения пути. Нужно было видеть гордую осанку этого человека в кожаном картузе, истертом пальто, стоптанных сапогах и с связкой книг под мышкой. Мне захотелось его осадить.
– Ну ты, кажется, много возмечтал о себе! Не по недоразумению только, а и на самом деле такую важную персону из себя изображаешь!
– А то как же?
Всякие сомнения по этому поводу казались ему таким ребячеством, что я не решился спорить и только ограничился замечанием:
– Как мне тебя представить? Теперь не твое время. Нынче, брат, мужик…
– Что мужик? – перебил он. – Ха-ха! Уж не думаешь ли ты психологические или другие открытия делать в среде «меньшей братии»? То-то насмешишь!
– Кого насмешу?
– Меня. О ком же еще может быть речь?
Опять это «я»! Почти до самой калитки мы шли молча.
– Так ни о ком, кроме тебя, не может быть речи? – сказал я, чтоб не оставлять за ним последнего слова.
– Отчего же? Вино, женщины, лошади… мало ли о чем! Или цветы. – Он нагнулся и сорвал какой-то цветок: anemone nemorosa. – Ты ничего в ботанике не смекаешь?
– Ничего.
– Жаль. Что цветок – то предмет для «речи»… Впрочем, можно обойтись и без них!
– Без них можно, а без тебя нельзя!
Я с понятным неудовольствием заметил, что в этом маленьком обмене мыслей играю роль дурака, и стал прикидывать способы, как бы восстановить в его глазах свою репутацию, но он распрощался со мною и ушел, оставив меня в очень неловком положении.
Но вопросы вопросами, а жить тоже как-нибудь надо! Как приятель Алешки, я страдал вдвойне: и его жаль было, и на мне неблагоприятное об нем мнение довольно сильно отражалось. Я не раз пытался его «в надлежащем виде» представить; но мои попытки были так тяжелы и бесплодны, что одно упоминание об них приводило меня в раздражение. Да, много огорчений причинил мне этот человек!
Он оказался товарищем детства Натальи Семеновны. Отец его был дьяконом в соседнем селе. Она его уже лет восемь не видала. Тогда ему было семнадцать, а ей одиннадцать. Он постоянно дразнил ее и прятал ее куклы. Теперь вздумал обращаться чуть не по-тогдашнему. «Ну что, барышня? Как вы? спасаетесь? В искусства ударились или науку штудируете? У вас на лице этакая как будто меланхолия видна…» и так далее. Терпеть не может она эти манеры! Был в деревне, – у него только мать осталась, – посетил ее «стариков». Воображает себе Наталья Семеновна, как он их напугал!
Ужасно бесцеремонен. В первый визит сидел так долго, что ей чуть дурно не сделалось. Она уже и так, и этак, и голова болит, и занятий много, – он и внимания не обращает. «Когда, говорит, я вам надоем, то, пожалуйста, скажите. А то вы, чего доброго, еще стесняться вздумаете».
Но нет, я умываю себе руки. Пусть себе Наталья Семеновна берет его и разделывается, как сама знает!
«Однако как трудно отделаться от мелочных церемоний! Легче, кажется, сделать что угодно, чем сказать гостю: „Уйдите, вы мне мешаете“. Не знаю, как бы он отнесся, если б ему сказать это? Должно быть, засмеялся бы. И в самом деле было бы смешно: человек делает над собою громадное усилие, чтобы избавиться от неприятного посетителя, который мешает ему заняться своими маленькими-маленькими, самыми крошечными печалями… Конечно, крошечными: В. (Вольдемар) не заслуживает, чтобы об нем сильно убиваться… Ах, тоска, тоска!..»
«Вчера снова был А. Это уже четвертый раз. Он очень умен, хотя по временам бывает невыносим. Но нужно подробнее записать его разговор: он мне пригодится для романа. Вошел, по обыкновению, самым беззаботным образом и расположился, как у себя дома.
– Ну, как дела, барышня? что это вы как будто нос повесили?
Я взглянула на него с удивлением. Мне действительно было как-то не по себе; но ему-то что за дело?
– Неопределенные порывы одолели?
– Ну, одолели. Так что же?
Я старалась попасть под его тон.
– Гм…
– И больше ничего? Зачем же вы спрашивали? Чтоб посмеяться над «порывами» «барышни»? Так я и без вас знаю, что это очень комично!
– «Любить бедняжечке пора!..» – запел он вдруг довольно приятным баритоном и стал закуривать папироску.
– Что это значит?
Я почувствовала, что краснею.
– А то и значит, что, мол, любить пора.
– Да о ком вы это говорите?
– Об вас, разумеется.
Он бросил потухшую спичку и начал зажигать новую, а я воспользовалась паузой, чтобы собраться с силами и по возможности отомстить.
– Любить-то всегда пора, – сказала я как можно холоднее, – да жаль, любить некого…
Я хотела сказать, что все мужчины очень пошлы, но и начало фразы вышло так глупо, что я готова была расплакаться.
– Как некого? А вот хоть бы меня?
Он смотрел на меня смеющимися глазами и как будто наслаждался моим смущением. Противный! Я совсем растерялась. Это было уже слишком!
– Вот еще! Вы – «субъект»!
Мне делается жарко при одном воспоминании об этой выходке. Всё бы, кажется, отдала, чтобы вернуть нелепую фразу. Отец и не подозревает, какую злую шутку подшутил надо мною.
– А вы разве не «субъект»? Ха-ха-ха!..
Он заржал и долго смеялся, то затихая, то снова без пощады разражаясь хохотом, а я нагнулась над тетрадью и молчала. Наконец он успокоился.
– Что это у вас за тетрадь, барышня?
– Тетрадь. Чего вам больше? Видите.
– Дневник небось?
– Ну хоть бы дневник?
– Гм…
Я молчала.
– Я, кажется, вас рассердил? Ну простите… Я обращаюсь с вами без церемоний, потому что смотрю на вас как на товарища. Поговоримте серьезно: ведь вам, я вижу, ужасно хочется, что называется, душу отвести? да?
Притворство это или нет? В голосе его было столько искренности, что я в эту минуту почувствовала к нему полное доверие и – может быть, это показалось ему смешным, но он не обнаружил – протянула руку в знак полного прощения.
– Вот то-то… Скажите, пожалуйста, зачем вы от родителев ушли?
– А скажите прежде, зачем вы говорите «от родителев», а не от родителей?
– Ах, какие мелочи! Не буду же я для вас своего штиля менять! Притом «от родителев» звучит не совсем то же, что «от родителей». Впрочем, этого я разбирать не желаю.
– Как хотите… Отчего ушла? Оттого, что там, на хуторе, делать нечего.
– Верно. Матушка варенье варит да чулки штопает, а вам это уже не пристало, потому что машинные чулки и покупное варенье обойдутся дешевле. Одним словом – политическая экономия. Это теперь носится даже в чистом деревенском воздухе, стало быть – старая история. Мне так и папаша ваш докладывал: «Что ей, говорит, у нас делать! Ни общества, ни чего этакого…» Но здесь вы нашли себе дело?
– Я готовлюсь на педагогические курсы. Разве вы не знаете?
– Знаю, но это ничего не значит. Рассчитываете на место учительницы?
– Ах, я об этом пока не думаю!
– Прекрасно. Я, знаете, очень интересуюсь «субъектами» из молодежи, которые о «местах» не думают. Но о муже вы уже мечтали-таки? а?
– А вы о жене никогда не мечтали?
Я решилась быть хладнокровною.
– Отчего же? Случалось… Так, значит, мечтали? Этот муж, а то и проще – он, конечно, красив, умен, честен, благороден и, главное, обладает секретом, которого вы не знаете: ему известно, что ваша душа желает, и он может повести вас под ручку «куда-то»… «Wo die Citronen blьhen». Чего вы покраснели?
Господи! неужто мои мысли – впрочем, это даже и не мысли, не знаю, как назвать, – так глубоко элементарны, что всякий может сразу отгадать чуть не подлинные выражения, в которых они были выражены? Он смотрел на меня такими ястребиными глазами, что, казалось, видел всё, что во мне происходит. Так ли он и на других влияет? Мне всегда кажется очень важным его одобрение или неодобрение. В его словах слышится что-то большее, чем личное, ни для кого не обязательное мнение человека, что-то такое, что не дает покоя, пока его не опровергнешь или не примешь целиком. К счастью, он продолжал:
– Только я вам прямо скажу: если вы возложите всё упование на него, то ничего отсюда, кроме любви, не выйдет.
Он произнес слово «любовь» так, как будто это было ругательство.
– Не выйдет так не выйдет, – говорю, – любовь и сама по себе может наполнить жизнь женщины; любовь – закон природы… Как это вы пропели: «Любить бедняжечке пора»? Спойте еще раз!
– Я вам лучше спою из другого романса: «Лови, лови часы любви», только это потом, а пока в прозе скажу то же самое, и совершенно серьезно. Но зачем вы отвлекаетесь? Когда надоест, так вы прямо скажите. Видите ли, мы с вами различные любви понимаем. Закон природы! Но человек, я думаю, тоже не вопреки законам природы возвысился до способности критически мыслить! Я вовсе не о той любви говорю, которая всю природу обнимает, как закон: то любовь растений, любовь животных; а за вычетом животного остается еще человек. И прекрасен этот остаток, если он представляет значительную величину. На него недаром работала зоологическая лестница всего живущего миллионы лет, с самого начала жизни на земле. Его любовь посложнее будет. В инстинкты, имеющие целью поддержание вида и особи, он вносит другие, только ему принадлежащие: вечно живущий и беспокойно шевелящийся инстинкт правды, какие-то неопределенные стремления, какую-то беспредметную неудовлетворенность – вообще то, что немцы называют Sehnsucht'oм. Из этих элементов, при надлежащей обработке, образуется высшая, чисто человеческая любовь. И это расцвет и весна жизни; это минута, которою мы обязаны пользоваться. Но она нелегко дается; она требует большого, самостоятельного труда. Если же человек весь сосредоточивается на любви к ней или к нему, то это шаг назад. И чем лучше такой человек, тем хуже: любовь экзальтируется, ей предлагаются требования, пред которыми она по необходимости пасует; является поэтическое, но бесполезное разочарование, затем новые поиски такой же любви и так далее. Так уж устроена наша психика: нервы привыкают к возбуждению в определенном направлении.
Он тяжело перевел дух, остановился и как будто сконфузился, что увлекся такой азбукой. Так именно он смотрел на свои слова. Это проглядывало в тоне его голоса, слегка раздражительном, словно он досадовал на себя за защиту и доказательство истин, вроде «дважды два – четыре». Такое отношение к избитой истине показалось мне очень новым и симпатичным. В нем много силы и жизненности. Эта сторона речи А. делала ее для меня уже не азбукой. Нет ничего противнее того бесстрастного, словно зевающего, тона, каким обыкновенно произносятся общие правила морали.
– Всё это мне и самой приблизительно известно, – сказала я, чтобы дать остыть теме разговора, – а вот вы лучше скажите, какой это большой и самостоятельный труд, что ведет к «весне жизни»?
– Вам понравилось это выражение?
Он посмотрел подозрительно.
– Понравилось.
– Большой труд? Это критический взгляд на вещи вообще и самокритика в частности, уничтожение в себе иллюзий, развитие правильного мировоззрения.
Теперь была моя очередь произнести: «Гм».
– То есть вы хотите сказать: что такое иллюзии и не иллюзии? что такое правильное мировоззрение? где ручательство за правильность именно того, а не другого? как иллюзии уничтожаются? Да?… То-то я и говорю, что это дело трудное, да едва ли вполне и достижимое…
– Так чего ж вы хотите?
Мне показалось, что он спутался, но он продолжал, вдруг повеселев:
– А уморительное вышло бы зрелище, если бы с людей моментально все иллюзии соскочили! Вот была бы картина всеобщего конфуза и замешательства! Многие столбы и камни оказались бы выеденными яйцами; кабацкие вывески заменили бы собою немалое количество знамен и пышных надписей; большинство внезапно просветленных оптимистов узрело бы источник своих ликований исключительно в собственном желудке; многие пессимисты вместо воплей и скрежета зубовного прибегли бы просто к касторовому маслу. Мертвые ушли бы в свои гробы; остались бы только живые, да и те в измененном виде… Чтобы быть совсем без иллюзий, нужно жить вне условий времени и места, то есть вне исторических условий. Но есть иллюзии, без которых человек немыслим в данную историческую минуту, и есть такие, с которыми он немыслим как живой, а не мертвый человек.
А. заторопился, и наш разговор остался недоконченным. Надо будет его пригласить».
Зима давно покрыла землю толстым, консервативным слоем снега. Люди, кто мог, запаслись топливом, заперлись в своих квартирах и ушли в себя. Наталья Семеновна приобрела плед (10 руб.); Вольдемар покрыл новым сукном свою енотовую шубу; Зизи плотно закуталась в шаль и по целым дням просиживала у камина. На дворе злилась вьюга, ветер бросал в окна снежную пыль и бушевал в трубе, как расходившийся большак в недрах отупевшего от повиновения семейства; обнаженные, обледенелые ветви деревьев с треском ударялись одна о другую; воробей – тот самый воробей, который и прочее, – озабоченно копался в навозе или, нахохлившись, сидел под крышей с самым недонжуановским видом. Но в камине тепло и кротко пылал огонек; голубые, красные и желтые языки лизали дрова и возбуждали в душе Зизи такое усидчиво-нежное настроение, что Вольдемару стало наконец за свою шубу страшно. Он несколько раз пробовал улизнуть, но Зизи задавала ему такую головомойку!.. Конечно, он не мог дольше выдержать.
«Милая… Высокопочитаемая… Ангел мой…
Марфе – 2 руб. Самовар – 12 руб.
Наталья Семеновна! Нас окружает ужасная интрига… Злые глаза следят за мною и не дают мне возможности видеться с вами. Пишу к вам уже второе письмо; первое было перехвачено… Я должен объявить вам тайну… Если к вам явится белокурая полная женщина, не первой молодости, и станет делать… говорить неприятности (она угрожает, от нее всё станется), то, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь… Это моя жена… Да! я женат, и это мое несчастье, потому что я безумно люблю вас… Если вы можете подняться над предрассудками… Если так называемая незаконная связь… Если вы не побоитесь… то сами назначьте день… или мы расстанемся навеки, и я не перенесу этого удара!!»
Эта фантастическая жена Вольдемара как громом поразила Наталью Семеновну. Она не знала Зизи даже по имени, но полная белокурая дама, не первой молодости, засела в ее воображении и не отходила от нее ни на минуту. Когда в голове дамы засядет другая дама, то томительнее ее положения и представить себе невозможно: оно, как говорится, хуже губернаторского, что, впрочем, и понятно, если хорошо взвесить то обстоятельство, что губернатор все-таки мужчина. Если б и случилось так, что в голове мужчины засел другой мужчина, то к услугам первого всегда нашлись бы «принципы», «вредные идеи» и другие верные средства избавиться от неприятного соседа; а неопытная девушка разве может выдумать что-нибудь подобное? Никоим образом и в голову ей не придет. Всё, что она может сделать, это строго проанализировать свое и его душевное состояние, сравнить права соперницы с собственными правами (о, конечно, с правами! Кроме формальной законности, есть еще кое-что другое, должно быть другое, если справедливость не пустое слово!) и на этих данных построить философию, которая дала бы твердую точку опоры для практического решения вопроса так или иначе; другими словами, ей остается серьезно засесть за роман.
Первое дело – он. Теперь уже нет нужды до мелочных наружных описаний. Пусть себе и курит и даже халат надевает! Важно не это: важен его внутренний мир. Надо туда заглянуть критическим, беспристрастным оком…
Гм… «О чем он думал?…»
«Странное дело! не могу написать ни одной строчки! Как только возьмусь за перо, сейчас представляется насмешливое лицо А. (Алешки), и я бросаю. Мне даже слышится его голос: „Что, барышня, чувствительные кружева плести хотите?“ Я никогда не слыхала от него этой или подобной фразы, но мне почему-то кажется, что он непременно выразился бы таким образом, если б узнал, чем я занимаюсь. Каждый раз я чуть не громко отвечаю на этот воображаемый вопрос: „Не плету, а распутываю…“ Его что-то давно не видать. Хотелось бы мне говорить с ним обо всем откровенно. Я привыкла к его обществу. С ним можно ладить, стоит только не обращать внимания на первую половину его визита, когда он как-то ломается, говорит с подчеркиваниями, с претензией на остроумие и иронию, и спокойно ожидать, пока, сначала будто нехотя, а потом всё больше и больше увлекаясь, он заговорит о чем-нибудь горячо и страстно. Он, в сущности, очень добр. Я как-то спросила, что значит „экспроприация“ и „дивиденд“. Он объяснил и назвал меня Аркадией. „Самых, говорит, современных слов не знаете“. Это хорошо. Аркадия так Аркадия! Лучше, чтоб он имел обо мне настоящее представление. Я часто скорее догадываюсь, чем понимаю его, и мне было совестно: а ну он вдруг заметит! Как будто надуваешь его… А как он умеет говорить! Замечательно, что сильное одушевление выражается у него только блеском глаз, а щеки бледнеют. Нравится мне в нем эта убежденность и самая резкость языка. Оттого в его словах даже не новые мысли получают новое освещение, новый смысл. Если б кто-нибудь другой сказал при мне: „Весна и расцвет жизни“, то такое выражение показалось бы мне натянутым; но у него это вышел не риторический оборот: он сам в эту минуту олицетворял собою весну жизни, и стоило только взглянуть на него, чтобы почувствовать, какая это, в самом деле, прекрасная минута… Но я что-то очень его расхваливаю… Не начинаю ли я…
Нет… Милый, дорогой! Никакая привязанность не вытеснит тебя из моего сердца! Напротив, при виде этой силы и самоуверенности мне становится еще дороже твое задумчивое, печальное и нежное лицо! Я обязана прийти к тебе на помощь, бедный страдалец, поднять, ободрить, оживить тебя…»
Последняя тирада относится к Вольдемару. В халате серого драпа (40 руб.), с сигарою в зубах, причесанный и напудренный, но с разбитым сердцем, бедный страдалец сидел в эту минуту у камина, с терпением, достойным лучшей участи, поддерживая прислонившуюся к нему Зизи, и утешал себя размышлениями в следующем вкусе:
«"Все женщины одинаковы: „героини“ – когда их чести не угрожает опасность, дети – когда защищают ее, и фурии – когда мстят за нее"… Последнее немножко пересолено… Как их назвать, когда „под вечер осени ненастной“ они несут плод „несчастной любви“ к добрым людям или в воспитательный дом?»
Нет, как угодно, друг Грацианов, то бишь Горацио, а в мире, кроме непосредственно видимого и осязаемого, есть еще нечто, без которого были бы совершенно непонятны факты вроде такого совпадения в мыслях влюбленных.
«К числу выражений, употребляемых в самом неопределенном смысле, – писала Наталья Семеновна, – надо отнести и „честь женщины“. Что это такое: лоск, приличие, поведение, имеющее целью „партию“? Вздор!
Честь – внутреннее сознание своей правоты, спокойствие совести. Я не понимаю, что значит «партия»? Для меня красота носит корону. Дети?… Есть ли незаконные дети?…»
Ай-ай!.. Алешка! где ты, братец? Беги скорее, а то беда! Наделает барышня глупостей, а потом на тебя всю вину свалят! Шепни ей, что ты вовсе не рекомендовал замены одних иллюзий другими, худшими. Не оставляй ее на полпути!
Но, кажется, у них ничего не вышло, потому что должны же охладиться всякие настроения и решения, возникшие под влиянием любви к призраку, когда этот призрак предстанет в виде господина в золотых запонках из кассы ссуд, в галстуке с золотой булавкой из того же источника, с головою, преисполненною любовью самого игривого свойства! По крайней мере Наталья Семеновна зачеркнула крестом свои рассуждения и снова вернулась к роману.
«Не знаю, в состоянии ли я буду записать сегодняшний разговор: в моем изложении слова А. (Алешки) выходят какой-то карикатурой, и я боюсь, как бы не исказить его мыслей, тем более что голова моя словно в тумане. Никогда еще не испытывала я ничего подобного… И хорошо мне, и страшно; должно быть, оттого, что он многого не договорил. Если б от меня зависело, я, кажется, продержала бы его до утра…
Когда он вошел, я сидела за начатою главою, но у меня ровно ничего не выходило. Я ему очень обрадовалась, потому что вздумала его поэксплуатировать.
– Скажите, пожалуйста, – начала я, как только он сел, – вы никогда не пробовали писать романа?
– Вот выдумали! Что за вопрос?
– Вопрос как вопрос. Чему тут удивляться?
– Я удивляюсь, барышня, вашим превратным обо мне мнениям. Я… и роман!
Он как будто обиделся.
– Я не знала, что это такое постыдное занятие – писать роман…
– Кто вам говорит – постыдное! Но мало ли что есть непостыдное! И трогать сердца прекрасных леди и мисс в качестве какого-нибудь оперного tenore dolce нисколько не постыдное занятие. Даже выделывать грациозные па в балете и тем возбуждать в упомянутых леди и мисс представления о пластической красоте – нимало не постыдно. Но вот вы, например, кроме простоты и неиспорченности, ничего пока собою не изображаете, а не спрашиваю же я вас: как, мол, вы насчет балетной карьеры полагаете? Надели бы трико, поднимали бы ноги – очень даже публика осталась бы довольна…
Я ничего не отвечала на эту умышленно глупую выходку. Он замолчал на минуту и потом продолжал гораздо мягче:
– А вы не тово… не сумлевайтесь. Я малость виноват: не сообразил, что вы, барышни, собственно, на романах воспитываетесь и чувствуете к ним как бы дочернее почтение… Но опять-таки почему вы спросили? сами, что ли, вздумали баловаться?
– Да, вздумала и надеялась, что вы мне поможете.
– Что ж, занятие ничего… вроде как рукоделье. Так бы сразу и сказали. Помочь можно. Вы будете писать, а я – критиковать.
– Больше от вас и не требуется. Прежде всего давайте общие критические соображения. Почему, во-первых, вы ставите роман наряду с рукодельем и даже с танцами?
– А вот напишите, так сами почувствуете. Для кого вы сей роман будете писать? Для меня? Так я вам доложу, что по части драматических положений, анализа и группировки жизненных фактов, которые должны составлять основу романа, знаю вдесятеро больше вас. Для какой-нибудь барышни, еще более бедной опытностью, чем вы? Так чему же вы ее поучать будете? Что ежели, например, девушка, вопреки желаниям папеньки с маменькой, на курсы поступит, то еще нельзя сказать, что она пропащая девушка? Что лучше быть независимой, чем жить у других на хлебах? Что если кто не разделяет наших мнений, то его еще незачем сжигать на костре? Что ж! Всё это очень мило… Так же мило, как, повторяю, рукоделье, танцы, различные «маменькины рассказы» и так далее. Это, если хотите, даже почтенно и необходимо, как азбука, склады и прочее. Только примите во внимание следующее. Паровой молот, сплющивающий сотни пудов железа, может, как вам известно, весьма удовлетворительно колоть орехи; но что бы вы сказали, если б какой-нибудь чудак устроил такой молот специально для орехов? От маленьких же щипчиков большого приложения силы и не спрашивается. Значит – что кому. Вы выбрали орехи… Так приступим?
– Нет, погодите! Итак, я вас поучать не могу; но вы меня можете?
– Мог бы, конечно.
– Ну так что ж? У вас это выйдет уже не рукоделье?
– Беспременно рукоделье. Могло бы выйти и другое, да мало ли что могло бы! Дело в том, что так оно выйдет. Хотите, можно вам это наглядно показать? Пишите; я вам продиктую план.
Я, смеясь, взяла лист бумаги и написала под его диктовку:
«Жила-была некоторая девица, которая захотела чего-то и стала стремиться куда-то. И уж так захотела и так стала стремиться, что умерла от чахотки».
– Вот вам и роман. Разведите подробностями – и дело в шляпе.
Он засмеялся, а мне вдруг стало грустно. Бедная, в самом деле, «девица»! Как смешны эти «что-то» и «куда-то»! А между тем они действительно могут довести до чахотки…
– Дело будет в шляпе, – сказала я серьезно, – когда вы хоть приблизительно определите, куда стремилась и чего хотела девушка; с кем она боролась и отчего не победила.
– Извольте. Захотелось ей… Я не говорю: нового платья или любви как таковой – это уж слишком «маменькины» мотивы – а, положим, кухни… «Дайте, говорит, мне устроить кухню для бедных, а не то выйду в рубашке на мороз, простужусь и умру». Вот.
– Какую кухню? Зачем ей эта кухня понадобилась?
– С благотворительною целью. А зачем она ей даже до смерти понадобилась – я и сам не знаю.
– Перестаньте смеяться! Это начало раздражать меня.
– Я не смеюсь. Но не могу же я показать вам настоящую героиню! Ведь эта героиня начнет, пожалуй, такие фразы пущать, такого ей захочется, что публично нам с вами об этом и говорить было бы неловко… Я говорю: публично, потому что не понимаю романа, даже в смысле забавы, который был бы рассчитан только на одного читателя. Как эта боролась? Я могу ответить только вообще: строгою последовательностью мысли, последовательностью поступков, честным отношением к компромиссам, то есть допущением только тех сделок с совестью, которые, при ее условиях, абсолютно неизбежны. Отчего погибла? От этого самого. С кем боролась? Конечно, с препятствующими и препятствиями…
– Но разве герой должен быть непременно героичен?
– Как вам сказать? Это очень условное понятие – «героизм» или «героичность». Есть люди, для которых нужно быть героем, чтоб не украсть, что плохо лежит. В романе, претендующем на современное значение, положительный герой должен быть героичным, вернее – он непременно будет таким.
– А отрицательный?
– Отрицательный предполагает ясное представление о положительном и освещает его с другой стороны.
– Хорошо. Значит, во-первых, герой должен быть – или по необходимости будет – героичен. А относительно иллюзий «живых» и «мертвых»?… Помните?
– Весь из заблуждений состоит! Его иллюзии именно только те, без которых невозможен живой человек в данную историческую минуту; зато он и представляет собою как бы воплощение исторической иллюзии своего времени…
Я не поняла. Он заметил это.
– Не совсем понимаете? Как бы вам пояснить?… Я представляю себе жизнь в виде бесчисленного множества ручейков, речек, потоков, текущих в одном направлении… в океан, который их поглотит. Они переплетаются, сталкиваются, некоторые временно поворачивают назад, образуют мимоходом стоячие озера, вонючие болота, дают множество второстепенных разветвлении; но между ними есть непременно чистая серебряная струйка, текущая прямее других и по самому удобному месту; она со временем сделается главною рекою, восторжествует над остальными. В этой струйке как будто сосредоточена идея, логика истории, и кто смешал ее с побочными, часто грязными, течениями, кто, за беспорядочным гулом и клокотанием, не различил ее мелодического журчания и не откликнулся на него – тот даром прожил жизнь.