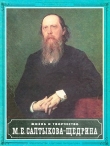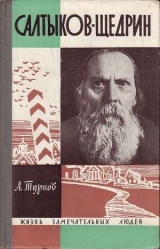
Текст книги "Салтыков-Щедрин"
Автор книги: Андрей Турков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Каракозовский процесс придал Глобе особую энергию: ведь и сам Каракозов, и Ишутин, и многие другие участники кружка – Странден, Ермолов, Юрасов, Петерсон – были пензенцами, учились кто в местной гимназии, кто в дворянском институте. Судьи интересовались, кто из учителей оказал на них «развращающее» влияние, а придурковатый принц Ольденбургский выпытывал, не было ли среди пензенских педагогов… Чернышевского.
Робкие провинциалы не без страха припоминали своих былых однокашников и знакомцев, другие же метали громы и молнии против «опозоривших» губернию заговорщиков.
– И кто только берется их защищать на суде? – негодовали в Дворянском собрании.
Вряд ли они знали, что в свои наезды в Петербург Салтыков виделся с одним из адвокатов, возбуждавших это негодование. Его давний приятель по лицею и тоже «кандидат в Пушкины» Виктор Павлович Гаевский защищал едва ли не самого подозрительного, по мнению судей и «Московских ведомостей», подсудимого – Ивана Александровича Худякова.
Щуплый и болезненный Худяков казался многим главной пружиной заговора. Правда, он не верил в то, что цареубийство принесет пользу, но Каракозов виделся с ним по приезде в Петербург и брал у него деньги, на которые потом купил пистолет. Ишутин же уверял, что именно Худяков сообщил ему о существовании Европейского революционного комитета (имелся в виду I Интернационал) и что он называл себя представителем какой-то значительной партии в Петербурге.
Худяков ездил за границу, посещал там Герцена и Огарева, а также некоторых эмигрировавших членов «Земли и воли». Шпионы доносили, что он дружит с Елисеевым, от которого, по многим показаниям, исходила мысль освободить Чернышевского, поддержанная ишутинским кружком.
Но сам Худяков только однажды сделал неосторожное признание и тут же схватил предательский листок бумаги, пытаясь проглотить его. Жандармы чуть не разорвали ему рот. После этого Худяков в отличие от малодушничавших ишутинцев твердо стоял на своем.
Драгоценная для следствия ниточка безвозвратно оборвалась, и от этого Худяков вызывал у судей и катковской своры особую ненависть.
Гаевский с возмущением говорил на суде о статьях «Московских ведомостей», напечатанных еще до следствия; они как бы заранее рекомендовали сделать из его подзащитного главного вдохновителя покушения. Нужна была немалая смелость, чтобы дать такой отпор Каткову и насмешливо заявить, что редактору «Московских ведомостей» по его политической подозрительности всюду мерещатся революция и измена. Это звучало почти как повторение мнений закрытого «Современника»!
Искусно построенная речь Гаевского произвела большое впечатление даже на судей. Сам Худяков считал, что только энергия защитника спасла его от петли.
И Салтыков в Пензе вступился за одну из жертв той шпиономании, которая обуяла Россию в это время. Директор пензенских народных училищ уволил учителя, который, по словам доносчика, пожалел о неудаче каракозовского покушения. Узнав об этом, Салтыков взял проштрафившегося к себе на службу, сделав вид, будто не знает об истинной причине увольнения.
Однако долго выжить в Пензе было невозможно.
– Дай другую губернию! Не могу больше с этим мерзавцем служить! – заявил Салтыков о своем желании расстаться с Александровским Рейтерну.
В Тулу, куда его перевели на ту же должность, он прибыл накануне Нового года и первое время, казалось, угомонился, даже мирно играл с губернатором М. Р. Шидловским в пикет.
Однако эта идиллия продолжалась недолго. Мало того, что Шидловский во всю жизнь либерального словечка не сказал; он привык вмешиваться в дела губернских учреждений и посылать форменные доносы в Петербург на всех неугодных ему чиновников. Даже там выходили из себя и требовали не обременять министерство внутренних дел напрасной перепиской. Однако он не унимался. Своими беспрерывными жалобами на казенную палату он вынудил сменить предшественника Салтыкова, весьма дельного чиновника.
Вскоре посыпались доносы и на Салтыкова, тем более что он со свойственной ему решительностью пресекал все вмешательства губернатора и посылаемых им чиновников. «Личные объяснения его со мной отличаются такою резкостью, что я вынужден избегать их», – жаловался Шидловский Рейтерну. Поведение Салтыкова шло вразрез не только с желаниями самого Шидловского, но и с намерениями правительства, которое как раз в эту пору увеличивало власть губернаторов.
В завязавшейся борьбе каждый из противников действовал своими средствами. Салтыков заручился поддержкой Щедрина, который написал фантастический рассказ о том, как у губернатора была фаршированная голова, как предводитель дворянства, плотоядно обонявший соблазнительный запах, не выдержал и съел ее, из-за чего пришлось соорудить новую голову с незамысловатым органчиком, способным издавать одну-две фразы, не больше. А Шидловский обратился сначала к П. А. Шувалову, а затем и к самому царю, посетившему Тулу, с заявлением, что просит избавить его от «беспокойного» управляющего.
И Салтыков снова попал в Рязань, где была свежа память о нем как о вице-губернаторе. Старожилы губернских учреждений предупреждали, чтобы новички не составляли себе мнения о Салтыкове на основании его вспыльчивости и резкости. Подчас сами его выговоры носили комический характер, а потеряв терпение иметь дело с каким-либо бестолковым чиновником, «свирепый» управляющий… озабоченно приискивал ему выгодное местечко.
Из уст в уста передавался рассказ о том, как Салтыков вызвал «запьянцовских» отставных чиновников для разбора старых дел, чтобы дать им хоть какой-то заработок, а когда они, несколько остыв к порученному занятию, принялись пить в самой канцелярии, юмористически напустился на них со словами:
– Вы все здесь дебоширите, смотрите у меня… республиканцы!
Однако соверши Салтыков на службе все двенадцать подвигов Геракла, он бы все равно не смог снискать себе благоволения петербургских сановников. Рязанский губернатор Болдарев запомнился сослуживцам лишь блестящими зубами и хорошим французским произношением, а в историю попал впоследствии лишь в качестве уголовного преступника. Но он оказывался всегда правым, когда его споры с новым подчиненным доходили до Петербурга. Салтыков мог сколько угодно доказывать, что Болдарева за глупость в губернаторы поставили. Рейтерн был с ним в душе согласен, но министру финансов уже надоело выгораживать своего неугомонного протеже.
В апреле 1868 года министр внутренних дел Тимашев и шеф жандармов Шувалов обменялись письмами по поводу донесения Болдарева «о противодействии, оказываемом ему в успешном управлении вверенной ему губерниею некоторыми из служащих в Рязани лиц». Список этих «лиц» открывался именем Салтыкова.
Шувалов, человек с маленькими медвежьими глазками и непомерным честолюбием, не забыл, как Салтыков поспорил с ним по вопросу о реформе полиции в конце 50-х годов. В представленном царю докладе шеф жандармов аттестовал управляющего рязанской казенной палатой как «проникнутого идеями, не согласными с видами государственной пользы и законного порядка».
Решено было не только удалить Салтыкова из Рязани, но и воспретить ему впредь занимать какие-либо государственные должности.
14 июня 1868 года служебная карьера «красного» чиновника закончилась отставкой, хотя ради соблюдения приличий ему были пожалованы чин действительного статского советника и пенсия в тысячу рублей.
VI
– Новый адрес Некрасова слыхали, а?
– Нет, а что?
– В том же доме, только этажом выше. Переехал к Краевскому.
Острословы всячески изощрялись по поводу «странного брака» между бывшим редактором «Современника» и владельцем «Отечественных записок» Краевским. (В доме, принадлежавшем Краевскому, поэт жил с 1857 года.)
Тут было что вспомнить! Двадцать лет назад Краевский рвал и метал, когда, став во главе «Современника», Некрасов и Панаев перетянули от него главную и нещадно эксплуатируемую силу – Белинского.
«Ни одна статья гг. Белинского, Панаева и Некрасова не будет напечатана в «Отечественных записках» до тех пор, пока этот журнал издается нами», – возвещал журнальный коршун, обнаружив побег истерзанного им Прометея, дотоле прикованного горькой денежной зависимостью к «скале», как именовал Белинский журнал Краевского.
Со своей стороны, «Современник» не оставался в долгу и не упускал случая лишний раз обличить беспринципного литературного дельца.
«…Если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос» (также издававшейся Краевским. – А. Т.), – иронически писал Щедрин в 1863 году, – тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень (известный французский республиканец. – А. Т.). И напрасно Андрей Александрович Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да весь вышел, – я не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александровича…»
Андрей Александрович и на этот раз блеснул пресловутой «стойкостью» и охотно позабыл не только свою клятву насчет Некрасова, но и пропасть, разделявшую их взгляды. Перед его глазами маячили внушительные цифры подписчиков на прежний некрасовский журнал (7 125 в 1861 году, и даже в клонящемся к закату «Современнике» 1865 года от 6000 до 4600, в то время как «Отечественные записки» с трудом наскребли около двух тысяч!), соблазняла перспектива сладостной стрижки купонов, поскольку Некрасов становился полновластным, хотя и негласным, редактором.
На худой конец Андрей Александрович всегда мог выйти сухим из воды, свалив всю вину на редактора с его запятнанным прошлым.
Некрасов отлично понимал эти расчеты и все-таки шел на то, чтобы пополнять и без того уже немалый капитал Краевского: ни попытка воскресить «Современник», предпринятая от имени вдовы его владельца П. А. Плетнева, ни расчеты получить в свое распоряжение через подставных лиц газету «Неделя» не удавались. Даже в праве состоять гласнымредактором «Отечественных записок» поэту отказывалось до самой смерти.
Пришлось и Салтыкову с Елисеевым примириться с мыслью иметь Краевского компаньоном, хотя Михаил Евграфович сначала об этом и слышать не хотел.
Охотно и радостно потянулись в журнал прежние сотрудники «Современника», вдосталь хлебнувшие лиха после его закрытия: прозаик Глеб Успенский, критик А. М. Скабичевский…
На обеде у Некрасова чуть ли не рядом со Щедриным оказался его недавний противник и хулитель Писарев, несколько смущенный столь неожиданным соседством.
Оно оказалось недолгим не только за обедом, но и в самом журнале: не успел Салтыков обосноваться в Петербурге, как Писарев утонул.
Кое-кого из своих прежних сотрудников Некрасов недосчитывался.
При первых же запросах по поводу перехода журнала в его руки Николаю Алексеевичу пришлось убедиться, что условие, предъявленное Третьим отделением еще в канун закрытия «Современника», остается в силе. Антонович и Жуковский заранее исключались из числа будущих редакторов журнала.
Некрасов опасался, что такая же участь может вскорости постичь Салтыкова и Слепцова, «…насколько они обнаружатся благонадежными, покажет только время», – писал он в декабре 1867 года.
Предстояли тягостные объяснения с обоими прежними сотрудниками. Оба они имели о себе самое преувеличенное понятие, особенно с тех пор, как статья «Вопрос молодого поколения» вызвала шумный судебный процесс против Жуковского.
В знак солидарности с Жуковским отказался от участия в редакции и Пыпин.
Некрасов старался втолковать своим бывшим сотрудникам, кто виноват в происшедшем. «Администрация смотрит все еще на Ваше имя с ужасом и заставляет нас перепечатывать страницы, где встречается фраза, упоминающая Ваши статьи», – писал он Жуковскому.
Но к его объяснениям отнеслись недоверчиво, тем более что многие либералы возопили о перемене убеждений Некрасова, без которой, дескать, он не смог бы войти в соглашение с «презренным» Краевским. Возможно, что бывшие сотрудники сочли доводы Некрасова пустыми отговорками, а Антонович в особенности болезненно воспринял, что в новую редакцию «Отечественных записок» вошел Щедрин и что – после жестокой полемики «Современника» с «Русским словом» – Некрасов пригласил в сотрудники Писарева. Все это казалось ему явным свидетельством политиканства и беспринципности: отставляя от дела «верных учеников Чернышевского», редакция открывает двери настежь перед людьми, подозрительными по своим взглядам! Трудно было Антоновичу забыть и колкости Щедрина, и всенародное объявление Писарева, что ведущий критик «Современника», каким считал себя Антонович, – всего-навсего «лукошко российского глубокомыслия», и то, что Елисеев его тоже «недооценивал», порой предпочитая его статьям щедринские.
Обиженные Антонович и Жуковский решили, что их «святой долг» – вывести на чистую воду «плутни» Некрасова и предостеречь доверчивых читателей, которые будут наивно считать «Отечественные записки» преемником «Современника».
В 1869 году они выпустили книгу «Материалы для характеристики современной русской литературы». В ней, по определению председателя петербургского цензурного комитета, доказывалось, что «хотя Некрасову долго удавалось пользоваться в нашей журналистике знаменем коновода либерального направления, но впоследствии сделалось очевидным, что этот либерализм был напускной и что его литературной деятельностью всегда руководил денежный расчет».
Книга эта, где в своих «святых» целях авторы использовали откровенные сплетни, вызвала удовольствие не только в цензурном комитете, но и среди всех, кто недолюбливал передовую русскую журналистику и демократическую литературу.
«…Если хотите узнать всю подноготную современной нам литературы, прочтите брошюрку Антоновича «Материалы для характеристики современной русской литературы», – писал П. А. Вяземский. – Вот исповедь и донос самые назидательные».
В апреле в «Вестнике Европы» были опубликованы тургеневские «Воспоминания о Белинском». Прежний друг, разошедшийся с «Современником» из-за тяготения Некрасова к Чернышевскому и Добролюбову, теперь приписывал Николаю Алексеевичу двусмысленную роль по отношению к Белинскому, которого он якобы «постепенно и очень искусно устранял» от участия в журнале.
Грянул гром и из навозной кучи: князь Владимир Мещерский, «молодой человек весьма ограниченных способностей и с весьма большим тщеславием», как его аттестовал Валуев, прочел в семье П. А. Вяземского, а затем и напечатал пьеску «Десять лет из жизни редактора журнала», метившую в некрасовский «Современник». Редакция журнала выглядела в ней как притон поджигателей, которые не скрывают радости от возникновения Апраксинского пожара 1862 года и сожалеют, что не выгорел весь Гостиный двор.
Все это создавало очень напряженную обстановку для новой редакции «Отечественных записок».
Разрешение Некрасову хотя бы негласно издавать журнал отнюдь не было со стороны правительства в лице П. А. Валуева знаком снисхождения к «проштрафившемуся» редактору.
Более гибкий, чем многие из его коллег-министров, Петр Александрович давно пришел к той мысли, что «управлять исключительно при помощи следственных комиссий и жандармов невозможно» и что Россия «молчать по-прежнему… уже не способна». Отыскивая пути привлечения общества на сторону правительства, он пытался как-нибудь незаметно изменить «минорный» тон литературы на «мажорный», заставить ее петь по-своему. Тут в ход шли и денежные субсидии, и угроза дамоклова меча карательной цензуры, и даже «дружеские» советы «в интересах самого журнала». Сыграли свою роль и жалобы некоторых консервативных или умеренных журналистов вроде И. Аксакова, А. Краевского и В. Скарятина на то, что крутые меры против нигилистической печати привлекают к ней внимание и даже создают ей ореол мученичества.
Что касается «Отечественных записок», то, по свидетельству одного из цензоров, Валуев «находил более удобным сосредоточить бродячие литературные силы бывшего «Современника» в одном журнале, полагая, что в противном случае они разбредутся по другим изданиям, что поставит в еще большее затруднение цензурное ведомство».
Хотя введение новых цензурных правил 1865 года и освободило ряд изданий от предварительного просмотра, Главное управление по делам печати с благословения Валуева практиковало частные сношения с редакторами, которые бы пожелали заранее узнать возможную правительственную реакцию на то или иное произведение.
Стремясь получить в свои руки журнал, Некрасов в переговорах с влиятельным членом совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстым выразил готовность подвергнуть свое издание этой негласной цензуре.
Валуев и его преемник Тимашев лелеяли надежду, что таким образом они получат серьезную возможность контролировать направление «Отечественных записок».
Но Некрасов, чувствуя себя в положении коменданта осажденной крепости, под стены которой предпринят тайный подкоп, сам начал вести подземные ходы, чтобы обрушить на противников мину, заготовленную против него.
Еще будучи в «Современнике», он завел ряд полезных знакомств. Его соседи за карточным столом или товарищи по охоте только диву давались при мысли, что этот азартный игрок и неделями пропадавший в лесах и болотах стрелок может редактировать столь серьезный журнал. А Некрасов всегда был рад объяснить, что он к журналу давно охладел и ведет это дело скорее по привычке и, конечно, не без выгоды.
«Головорез карточного стола», по выражению Тургенева, он пристрастился к игре еще в то страшное семилетие (1848–1855), когда в закупоренной николаевским режимом России его поэтический талант рисковал так и пропасть под спудом (писать «в стол» Некрасов органически не мог). Потом же он часто использовал свое излюбленное занятие для того, чтобы свести компанию с «нужным» человеком и даже «ненароком» проиграть ему.
Холодными арбенинскими глазами наблюдал он за попадавшимся в расставленные сети чиновником, любезничал с ним, подбивал писать в журнал и щедро платил, как, например, Ф. М. Толстому за музыкальную критику.
Создавая такого рода непринужденные отношения, оказывая разнообразные услуги, редактор «Отечественных записок» делал довольно трудным соблюдение чисто официального тона в случаях, когда ему приходилось обращаться к тем же людям с деловыми просьбами по журналу.
Он играл на естественно возникавшем у них чувстве неловкости, выражал сочувствие их нелегким обязанностям и исподволь подсказывал им аргументы, которыми можно было оправдать потачки тем или иным статьям «Отечественных записок».
Сама обстановка редакции дышала миром и больше походила на убранство помещичьего дома средней руки, чем на «притон нигилистов». Письменный стол уживался здесь с бильярдом, вместо бюстов или портретов красовались чучела птиц и зайца-русака, словно демонстрируя, к чему больше привязано сердце «редактора поневоле», и черный пойнтер со скучающим видом бродил по комнате, как будто в ожидании скорого отъезда хозяина.
Некрасов казался куда более в своей стихии как радушный хозяин роскошного пиршества или за карточным столом, хвастающий тремя убитыми наповал медведями.
Только ближайшие сотрудники догадывались о той внутренней гадливости, с которой он якшался со своими «заклятыми друзьями» цензорами, и о напряжении, какого требовали его дипломатические маневры. Николай Алексеевич как-то признался, что, пока решалась судьба одного из номеров журнала, его нервы «были прогнаны сквозь строй».
А когда речь о том, что он вообще вытерпел от цензоров на своем веку, зашла однажды в лесу у костра, то собеседник Некрасова был потрясен выражением его глаз: так глядит на приближающихся охотников смертельно раненный медведь.
Но он выдавал себя редко. Скрытность и выдержка позволяли ему безупречно разыгрывать принятую на себя роль.
Щедрин же с большим трудом выносил ту долю редакционного «гостеприимства», которая приходилась на его счет.
«Это было некрасивое зрелище, – вспоминал про один из некрасовских приемов сотрудник «Отечественных записок», критик и публицист Н. К. Михайловский. – Из ненужных людей, кроме меня, был только Салтыков. Остальные все нужные. Правда, это были dii minores [11]11
Второстепенные боги (лат.).
[Закрыть]Олимпа нужных людей, но все-таки значительные, почтенные люди. Некрасов накормил нас хорошим обедом, напоил хорошим вином, потом сели играть в карты на нескольких столах. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасов был очень мил и любезен, но его такт избавлял его от каких-нибудь заискивающих форм любезности. И все-таки мне было как-то не по себе, как-то чуждо и жутко, точно я в дурном деле участвовал. Между прочим, играл в карты и Салтыков, по обыкновению раздражаясь на неудачный ход партнера, на плохие карты и проч. За его спиной стал один из неигравших гостей, значительный седобородый старец, и посоветовал ему какой-то ход; Салтыков проворчал что-то вроде: «Ну да! советчики!» Однако послушался. Но когда ход оказался неудачным, Салтыков грубо выбранил советчика и бесцеремонно потребовал, чтобы он отошел от его стула и не совался в игру. Эта вспышка, очевидно, портила политическую музыку Некрасова, но мне, признаюсь, Михаил Евграфович был в эту минуту необыкновенно мил и дорог».
После таких казусов Некрасову приходилось удваивать свою предупредительность, да и Щедрина уговаривать на следующий раз быть полюбезней с каким-нибудь «поганым фуксенком», как честил тот члена совета Главного управления по делам печати Фукса. «Быть любезным – это совершенно не моя специальность», – ворчал Салтыков.
Господа из цензурного ведомства уже не походили на тупоумных Фрейгангов, Красовских и Бируковых николаевской поры, с их крохоборческими придирками зачастую совершенно анекдотического свойства.
Нынешние, подобно своему начальнику Валуеву, заслуживали прозвища «Виляевых». Некоторые из членов совета Главного управления по делам печати сами подвизались на литературном поприще. В. М. Лазаревский после малоудачных прозаических опытов написал несколько любопытных книг об охоте, а Ф. М. Толстой даже сбился одно время на «либеральную стезю», за что некоторые его повести еще в 1866 году похвалил сам Писарев.
Дружба с Некрасовым льстила им, они принимали за чистую монету его внимательное отношение к их замечаниям.
«Вот Вам искренний совет человека с развитым изящным вкусом (Вы сами неоднократно признавали за мною это качество)», – писал Некрасову Феофил Толстой. «Положитесь на мое артистическое чутье и политический такт», – настаивал он в другой раз.
Несомненно, что влиятельные «друзья» Некрасова считали себя тонкими политиками, намереваясь оказывать на него определенное влияние и склонять к весьма умеренному либерализму.
«Вам следовало бы упрочить гражданское Ваше положение и доказать на деле, что основные принципы «Современника» были превратно истолкованы», – советовал Толстой в сентябре 1868 года. В этом «напутствии» гармонически сливались и «валуевская линия» (хотя сам он был уже в отставке) и трусливое опасение многих выцветших либералов, чтобы новые «Отечественные записки» не «раздражали» правительство.
«Говорят, будто бы Россия изнемогает под бременем либеральных поползновений, говорят, что эти поползновения обуревают ее до такой степени, что даже заставляют опасаться за ее драгоценное здоровье», – высмеивал этот согласный хор консервативных и мнимолиберальных предостерегателей Щедрин.
«Друзья» Некрасова присоединяли свои голоса к этому хору. Они пытались застращать поэта-редактора, указывая на «безотрадный фон» или «задорный колорит» издания, отзываясь о присылаемых им статьях, что они изготовлены «наилучшими Вателями [12]12
Знаменитый французский повар XVIII века.
[Закрыть]бывшего «Современника», и советовали ему «освежить бассейн изящной словесности… журнала чистою струею», чтобы заглушить «дурно пахнущие» реалистические произведения Наумова, Решетникова, Г. Успенского. Толстой рекомендовал в этих целях поместить… его собственную повесть и при этом, впав в игривый тон, невзначай дал великолепную характеристику и своим намерениям и своему созданию:
«Уговаривая Вас напечатать означенный роман, я преследовал только давно взлелеянную мною мысль, именно: слияние различных литературныхэлементов.
Мне хотелось влить в бурные, несколько красноватые волны Вашего журнала струю свежей беловатой водицы».
Друзья-приятели Некрасова из цензурного ведомства в глубине души не могли не сознавать, что играют роль весьма незавидную, и все-таки не умели отказаться ни от казенного содержания, ни от некрасовского хлебосольства. В размягчении душевном они договаривались до сочувствия крамольному журналу, сплетничали о глупости Тимашева, который был твердо убежден, что России нужна всего одна правительственная газета взамен всех существующих, а потом казнились, припоминая свои неосторожные слова. Оказавшись под нажимом министра, признавали зловредными мысли, с которыми в душе были согласны, и потом юлили, выгораживая себя перед «друзьями» литераторами.
«Цензоры – блюстители нравов. Следовательно, мы – члены совета (цензоры по преимуществу) – должны быть люди безукоризненно нравственные и, как нарочно, все мерзавцы», – записывал в дневник в припадке истерической откровенности Лазаревский.
Но сколько волка ни корми, он все в лес глядит. И советчики Некрасова время от времени заявляли свои «здравые суждения», указывая на отступления «Отечественных записок» от истинной благонамеренности.
Так, в сентябре 1868 года Феофил Толстой держал в совете речь о наблюдаемом «сродстве» новой редакции журнала с «Современником».
«Отрицание авторитетов, преклонение только перед юными, свежими силами молодого поколения и глумление, направленное против лиц, заведывающих администрацией, – вот принципы, начинающие проглядывать в статьях «Отечественных записок», – докладывал этот своеобразный агент-двойник, имея в виду прежде всего статьи Щедрина «Легковесные» и «Письма из провинции».
После годового перерыва он снова указал на отрицательное направление и «отъявленный космополитизм» Щедрина. Цензор Лебедев, со своей стороны, поднял вопрос о «глумлении над властью» в начавшейся печатанием «Истории одного города».
Действительно, произведения Щедрина весьма способствовали созданию в журнале «задорного колорита».
Еще не отзвучали пламенные речи по поводу «освобождения» крестьян – этих «бедных винтиков» государственного механизма, как выразился один красноречивый оратор.
Вовсю гремели славословия в честь «дарования» царем народу земских учреждений и суда присяжных.
Тютчев в дружеском кругу высказал подозрение, что царя, должно быть, коробит от похвал. Кто-то уже собрался было воздать должное скромности «Освободителя», но поэт продолжил свою мысль:
– Вероятно, в таких случаях государь испытывает то же самое, что каждый из нас, когда по ошибке вместо двугривенного даст нищему червонец: нищий рассыпается в благодарностях, прославляет ваше великодушие, отнять у него червонец совестно, а вместе с тем ужасно досадно на свой промах.
Однако нет недостатка и в сетованиях. С тех пор как «удар-скуловорот» перестал входить в число хозяйственных приемов, экономические таланты многих помещиков как-то увяли. В прах рассыпались надежды на то, что машины и новейшие агрономические приемы с лихвой возместят мужицкий труд. Оказывается, без него никуда не денешься; надо снова лаской и таской заманивать крестьян на свое поле. Впрочем, редкий помещик загодя, при размежевании земель, не устроил дело таким образом, что у «освобожденных» нет ни выгона, ни луга, ни леса. Пусть прежний сенокос теперь зарос бурьяном и вовсе не нужен самому владельцу! Расчет верен: некуда деться с коровенкой – приходится снова гнуть спину на барина.
«Пропустить крестьян через чистилище срочнообязанных отношений я считаю не только полезным, но даже необходимым, и не желал бы, чтобы дело совершилось иначе», – цинично откровенничал в годы подготовки реформы Б. Чичерин. И вот теперь миллионы крестьян барахтались в сотканной реформаторами паутине. А тем временем к ним подкрадывались новые пауки. В вековых аллеях по зарастающим дорожкам зашуршали грузные шаги толстосумов, которых еще недавно «господа» не пускали дальше крыльца.
Уже в 1858 году в разговорах запестрели новые слова: «акции», «концессии». К прежним выгодным финансовым операциям прибавились новые – подряды на строительство железных дорог. Восторженные публицисты уподобляли их кровеносным сосудам, усиливающим жизнедеятельность государства. Но пока что жители многих местностей, куда они продвинулись, ощущали себя так, будто им поставили пиявки.
«Вообще, железные дороги дали, конечно, громадный толчок развитию внешней торговли; – размышлял над происходящим в России Карл Маркс, – но в странах, вывозящих главным образом сырье,эта торговля усилила нищету народных масс; и притом не только потому, что бремя новой задолженности, взятое на себя правительствами из-за железных дорог, увеличило давление налогового прессана народные массы, но еще и потому, что с того момента, как всякий продукт местного производства получил возможность превращаться в космополитическое золото, многие товары, бывшие ранее дешевымииз-за отсутствия широкого сбыта… стали в значительной степени недоступными массам вследствие своей дороговизныи были, таким образом, изъяты из потребления народа» [13]13
К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. Издание первое, т. 27, стр. 32, 33.
[Закрыть].
Щедрин давно подметил некоторые черты этого процесса.
«Двадцать лет тому назад почти весь местного производства хлеб потребляли на месте; теперь – запрос на хлеб стал так велик, что съедать его весь сделалось как бы щекотливым. Свистнет паровоз, загрохочет поезд – и увозит бунты за бунтами куда-то в синюю даль. И даже не знает бессмысленная чернь, куда исчезает ее трудовой хлеб и кого он будет питать…» – говорил он в рассказе «Столп».
Новая гнетущая тяжесть ложилась на народ, еще не избавившийся целиком от прежней ноши. Помимо многообразной зависимости от помещиков, русский крестьянин тащил на себе всю неуклюжую административную колымагу, в которой к тому же появилось новое – пятое, по выражению сатирика, – колесо: земские учреждения.
«Все дано нам: и гласный суд, и земские учреждения, а сверх того многое оставлено и из прежнего», – с мнимой благодарностью отмечал Щедрин всю горечь исторической минуты.
Он спешит на помощь читателям, искренне недоумевающим при виде поразительной смены общественного настроения, исчезновения деятелей, еще недавно пользовавшихся общим вниманием, и «воскресения из мертвых» фигур, казалось бы, уже обреченных на презрительное забвение.
Многие сбиты с толку и почти готовы уверовать, что, как это утверждают перепуганные либералы, Чернышевский и его единомышленники сбили Россию с пути правильного развития, «спугнули» правительство, которое иначе, дескать, даровало бы обществу неисчислимые блага. «Неумеренное» стремление к прогрессу – вот, оказывается, причина наступившей реакции!