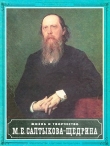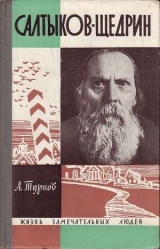
Текст книги "Салтыков-Щедрин"
Автор книги: Андрей Турков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)

Андрей Михайлович Турков
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
I
– Пошел!
– Но-о, милаи! С богом! – Огоньки в окнах качнулись от окрика и торопливо двинулись. Потом темный силуэт Арсенальной гауптвахты оборвался и ушел назад. В прошлое.
Тройка летела Литейным проспектом. Дома равнодушно проплывали мимо. Прохожие спокойнейшим образом шли по своим делам.
Впрочем, мог ли он ожидать сочувствия? Еще хорошо, что не ведут пешком под те же выкрики зевак, какие он заставил слушать Ивана Самойлыча.
– Должно быть, мошенник! – сказал, помнится, разглядывая Мичулина, франт в коричневом пальто.
– А может быть, и государственный преступник! – ответил ему господин с подозрительной физиономией, беспрестанно оглядывавшийся назад.
Иван Самойлыч Мичулин умер. Почти так же, как Акакий Акакиевич. Он вообще был ему родня. И у него тоже шинель украли, и он тоже цепенел, стоя перед значительным лицом.
Он бы умер второй раз, узнав, какого наделал переполоху.
Его императорское величество обратил внимание военного министра князя Чернышева на то, что у него в канцелярии служит чиновник Салтыков, дважды провинившийся.
Ибо без ведома начальства напечатал свои сочинения в журнале, что уже непорядок.
Ибо в этих сочинениях выказал вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших всю Западную Европу.
Военный министр принял близко к сердцу тень, которая набежала при этих словах на августейшее чело.
Титулярный советник Салтыков был арестован. Вся канцелярия шушукалась.
Чиновник особых поручений при военном министре Нестор Васильевич Кукольник приехал домой только поздним вечером. На нем лица не было: князь повелел ему быть секретарем следственной комиссии. Дело становилось серьезным: председателем сделали коменданта Петропавловской крепости генерал-адъютанта Набокова.
Семь лет назад Нестор Васильевич был извещен Бенкендорфом, что государь император изволил прочесть его рассказ «Сержант Иванов, или Все за одного» и повелел ему «на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства».
Потом грозу пронесло, да и рассказ был не чета салтыковской повести «Запутанное дело». Но участь, ожидавшая теперь молодого чиновника, участь, которую не могло смягчить его знакомство с сыном министра финансов Канкрина, ни с племянниками влиятельного министра государственных имуществ графа Киселева Милютиными, пугала Кукольника как напоминание о непрочности судьбы литератора.
Читая присланные ему книжки «Отечественных записок», Нестор Васильевич временами прямо-таки негодовал на неосторожного юнца: и дался ему этот Иван Самойлыч, который «от всей фигуры фортуны видел один только зад» и мыкался по столице, не в силах сыскать себе хоть какое-нибудь местечко!
Впрочем, и цензура тоже хороша. То всякие пустяки вычеркивают, а тут ведь прямо само в глаза бросается описание театрального представления, когда герой впервые угадывает: ведь эта, обычно вяло и равнодушно снующая по улицам толпа может быть совсем иной, слитой воедино гневным порывом:
«…И слышатся Ивану Самойлычу и выстрелы, и стук сабель, и чуется ему дым… С волнением смотрит он во все глаза на сцену; с судорожным вниманием следит за каждым движением толпы; ему и в самом деле кажется, что вот, наконец, все кончится; он хочет сам бежать за толпою и понюхать заодно с нею обаятельного дыма…»
Самое время пропускать в печать такие вещи теперь, в 1848 году, когда «обаятельным дымом» тянет из Франции по всей Европе!
Интересно, что сказал бы неразумный сочинитель, если бы ему пришлось понюхать «обаятельного дыма», когда займется его собственная усадебка? Поистине не ведают, что творят, эти молодые люди, которые бурно устремились по стопам Гоголя, этого зазнавшегося однокашника Нестора Васильевича по Нежинскому лицею.
Но Нестор Васильевич добр. Ему жаль двадцатидвухлетнего Салтыкова, хотя тот в начале другой своей повести, «Противоречия», и пустил ядовитую стрелу по адресу сочинителей «трескучих эффектов» и любителей «неистовых воплей и кровавых зрелищ».
Бог с ним, хулящим его пьесы вслед за Белинским. И не дай ему боже такого же возмездия, какое ниспослано этому зоилу, доживающему последние дни в жесточайшей чахотке.
Растроганный собственным великодушием, Кукольник ездил к Набокову и членам следственной комиссии, почтительно советовал гневливому Чернышеву снизойти к юности и неопытности автора.
И вот Михаил Салтыков не сдан в солдаты, как годом раньше Тарас Шевченко, не упечен под пули на Кавказ, ни даже в Сибирь.
Жандармский штабс-капитан Рашкевич везет его в Вятку.
В Царскосельском лицее Салтыков был одним из кандидатов в «продолжатели Пушкина» (каждый курс обзаводился своим претендентом!). И теперь можно было утешаться тем, что поэт почти в таком же возрасте был выслан на юг.
Правда, в жизни Пушкина хоть сама лицейская пора осталась почти не омраченною. Ему не приходилось прятать свои стихи в сапог от любопытства воспитателей, как его продолжателю! Теперь в лицее воцарилась совсем иная атмосфера. Лицеистам запрещалось даже иметь запертые ящики или шкатулки: у воспитанников не должно быть секретов от начальства! Этот педагогический прием живо напоминал Салтыкову проделку помещицы, которая остригла у своей крепостной «девки» ресницы, чтобы лучше видеть, не дремлет ли она за пяльцами!
Зловещая тень всемогущего Третьего отделения Его императорского величества канцелярии дотягивалась и до лицейских дортуаров.
Рассказывали, что, назначая начальником Третьего отделения графа Бенкендорфа, Николай протянул ему платок:
– Чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям…
Действительно, с тех пор до царя все реже и реже доносились рыдания и жалобы. Бенкендорф преотлично понял своего хозяина, – и Россия теперь хрипела с надушенным кляпом во рту.
Давно уже позади проспекты столицы и улочки ее предместий.
Позади гул расходившихся ладожских волн, черные от недавнего пожара улицы Костромы, где, глядя на ошеломленные лица погорельцев, Салтыков подумал, что сам, наверное, похож на них.
Тянулись по обе стороны дороги угрюмые леса – макарьевские, ветлужские. Штабс-капитан похрапывал, приваливаясь во сне к спутнику, и тот только досадливо морщился, но не отстранялся: Рашкевич и во сне как будто помнил, что отвечает за вверенную его бдительности живую кладь.
Случалось, что в окружающей чаще появлялись огоньки. Это не были «дрожащие огни печальных деревень». Прежде чем путник успевал что-нибудь заметить, лошади еще убыстряли свой и без того торопливый бег. Но зимнее ожесточение прошло, и волки просто любопытствовали.
Это были обыкновенные, немудрящие волки, знать не знавшие о своих сородичах, которые мерещились бедному Ивану Самойловичу во сне и в предсмертном бреду.
«– Мама! когда же убьют голодных волков? – спрашивал ребенок.
– Скоро, дружок, скоро…
– Всех убьют, мама? ни одного не останется?
– Всех, душенька, всех до одного…»
Это надо было вычеркнуть из повести. Не из осторожности. Ради истины. Ведь это лишь прекраснодушные мечты.
Волки по-прежнему ходят по площадям и улицам.
Волки стучатся в дома и, предупредительно щелкая шпорами перед помертвевшими женщинами, роются в кабинетах их сыновей, мужей, отцов, неодобрительно листают книги и журналы.
Министр народного просвещения граф Уваров полушепотом жалуется профессору Грановскому, что находится в положении человека, который, спасаясь от дикого зверя, одну за другой бросает ему части своей одежды, чтобы чем-нибудь занять преследователя и остаться целым самому.
Грановский невесело усмехается, думая, какой детали туалета уподобляет сиятельный собеседник его самого.
Откланявшись, он едет в клуб. Знакомые уже больше не удивляются, постоянно видя за карточным столом историка, чьи лекции завороженно слушала вся Москва.
Ждать нечего. Его публичные чтения остановились на средних веках. Пятьдесят томов речей и документов времен французской революции, которые прочел Тимофей Николаевич, лежат в его душе как опечатанные.
О 1789 годе не то что рассуждать – помянуть опасно. Полиция и без того уже наводила о Грановском справки.
До друзей, притихших в своих именьях, доходят слухи о его аресте. Они похожи на подсказку «дремлющим властям».
Он сидит за картами, и временами ему кажется, что волосы на затылке колеблются от звериного дыхания.
А другой историк – Костомаров уже мается перед жандармским генерал-лейтенантом, ожидая решения своей судьбы от этого человека, в чертах которого есть что-то волчье и даже лисье.
Генерал-лейтенант Дуббельт не спешит и рассматривает собеседника. Правда, на том уже нет ни полосатой пестрядинной блузы, ни длинного белого колпака, но год в Петропавловской крепости оставил на профессоре заметные следы. Нервно помаргивая, недавний узник напряженно прислушивается к словам собеседника (в камере его одолевали галлюцинации).
Дуббельт объявляет раскаявшемуся организатору тайного Кирилло-Мефодиевского братства, что тот может ехать в Саратов. И по своей привычке, не в силах не уязвить на прощанье:
– Знаете, мой добрый друг, люди обыкновенные, дюжинные стараются о собственной пользе и потому добиваются видных мест, богатств, хорошего положения и комфорта.
Он со вкусом произносит каждое из этих слов, словно показывая голодному лакомые кусочки.
– А те, которые преданы высоким идеям и думают двигать человечество, те, вы сами знаете, как сказано в священном писании: ходят в шкурах козьих и живут в вертепах и пропастях земных.
Вятские чиновники с любопытством посматривали на молодого, темноволосого, довольно высокого, но неуклюжего новичка, который на первых порах был определен заниматься простой перепиской бумаг.
Появление нового лица в губернском городе, где все всех знают, где любое семейное происшествие назавтра же становится предметом суждений всего общества, внесло в жизнь приятное разнообразие – нечто вроде острой приправы к ежедневным пресным кушаньям.
Старожилы вспоминали, что несколько лет назад на такой же должности, как Салтыков, очутился сначала и другой политический преступник – Александр Иванович Герцен.
А вновь прибывший, оказавшись на самой низшей ступени чиновничьей лестницы, мрачно засел в своей еще плохо обставленной квартире вместе со своим «Савельичем» – крепостным дядькой Платоном. Салтыков испытывал ощущение, которое прежде представлял себе чисто умозрительно.
Как и его герой Иван Самойлыч Мичулин, он воспринимал всю окружающую жизнь в виде чудовищной пирамиды:
«Кровь несчастного застыла в жилах, дыхание занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу… такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить. И действительно, стоявшая перед ним масса представляла любопытное зрелище: она вся была составлена из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных, так что голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера…»
То, что прежде было для Салтыкова метким образом, стало вдруг олицетворением его собственного существования. По сравнению с этими монотонными буднями даже атмосфера родительского дома, где детей отнюдь не баловали лаской, показалась ему притягательной, и тон его писем к матери сделался живее и сердечнее.
«Бывало, Михайла редко писал, а как укусил сырой земли, так милее не стало родителей, – победоносно оповещала Ольга Михайловна старшего сына, Дмитрия, – неделю не пропустит и пишет, неделю не получит от нас и скучает, видимо, горе умягчает жестокое сердце».
После чужих бумаг надобность написать собственное письмо казалась роскошью, отдыхом, и перо то и дело грозило выболтать даже такие мысли, которые уж никак не стоило выдавать ни родичам, ни посторонним читателям, через чьи руки письмо неминуемо проходило.
Первое время он просто бесился от перлов канцелярского стиля и с сердцем повторял слова Фауста:
Я, кажется, с ума сойду
От этих диких оборотов,
Как будто сотня идиотов
Городит хором ерунду.
Потом они стали напоминать ему трескучий бой барабанов, стремящихся заглушить вопли истязуемого.
Если смешно было читать в рапортах про то, как при встрече с взбунтовавшимися крестьянами окружной начальник «не смутясь (!) повернул и поскакал назад», то рядом это выражение фигурировало уже в самом зловещем смысле:
«Для приведения толпы в некоторое смущение, – читал Салтыков о походах прежнего вятского губернатора Мордвинова против не желавших сеять картофель, – губернатор велел дать залп из 46 ружей. 30 человек были повержены на землю».
Тогда-то, «убедившись в пользе мер правительства к разведению сего овоща», крестьяне пали на колени и просили прощения, и милосердное начальство отпустило их, «употребивши над некоторыми исправительные меры».
Слова падали равнодушно, как розги, трещали, как барабаны, лишь иногда из-за ровного строя щегольски выведенных буковок прорывался вопль, в котором отчаянье смешивалось с угрозой:
– Что нам солдаты – нас тысячи соберутся!
Но на этот яростный выкрик, словно веревки на живое, сопротивляющееся тело, ложились казенные фразы о том, что «строгий пример, оказанный над тамошними крестьянами, имел самое благодетельное действие на остальных» и что «не верующие в экзекуцию» были посрамлены.
От барщины переписки бумаг удалось избавиться.
Вице-губернатор Костливцев оказался питомцем того же лицея, что и Салтыков. Расспросив однокашника о столичных новостях, он осведомился, не сможет ли его новый подчиненный испросить себе из Петербурга какие-либо внушительные рекомендации.
– Тогда и определим, что с вами делать. А пока можете в присутствие не ходить, – милостиво заключил он аудиенцию.
И вот как-то, просматривая очередную корреспонденцию, губернатор Середа обнаружил любезное письмо начальника отделения департамента полиции исполнительной – Н. А. Милютина. И хотя еще бесконечно далеки были времена, когда это имя стало вызывать у одних преувеличенный восторг, а у других разлитие желчи, но Середа внимательно отнесся к просьбе племянника графа Киселева, тогдашнего министра государственных имуществ. К тому же Милютин не был одинок в своих просьбах позаботиться о молодом человеке, ставшем жертвой злосчастных обстоятельств.
Суровый взгляд голубых губернаторских глаз, обращенный на Салтыкова этими письмами, стал все чаще возвращаться к новому чиновнику. Сам труженик, Середа вскоре оценил не только быстрый ум, но и удивительную работоспособность ссыльного литератора.
Салтыков делается старшим чиновником особых поручений. Ему предписывается составить отчет по губернии за 1848 год.
Ознакомившись с трудами своих предшественников на этом поприще, Салтыков усмехнулся. Они напомнили ему те торжественные встречи августейших особ императорской фамилии, о которых благоговейно рассказывали ему новые знакомые за картами и вином.
Встречи членов царствующей фамилии были своего рода театральными представлениями с простонародными статистами, которые боязливо косились за кулисы, откуда им подавали красноречивые знаки тяжелые на руку антрепренеры. Трудолюбиво репетировали ночью, при свете факелов, будущее путешествие по губернии Александра I. Обсуждали, следует ли народу в порыве «внезапного» энтузиазма выпрягать лошадей из царской кареты и везти ее на себе. («То-то была бы символическая картина!» – пронеслось в голове Салтыкова, когда он с непроницаемым видом слушал этот рассказ.)
Отчеты тоже сверкали и сияли, как принаряженные для встреч губернские города. Сияли до того уж неправдоподобно, что даже Фаддей Булгарин позволил себе почтительнейше обратить на это внимание шефа жандармов, особое доверие которого снискал своими доносами на литературу:
«На бумаге блаженство, в существе горе! Сами чиновники, составляющие отчеты, смеются над этой поэзией, как они называют отчеты!»
Того же мнения придерживался чиновник особых поручений при рижском генерал-губернаторе, в будущем сам губернатор и даже министр, П. А. Валуев, хотя вслух рискнул высказать его только много позже:
«Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, и – редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху – блеск, а внизу – гниль».
Самолюбивый Салтыков закусил удила. Ну, уж его-то отчет не должен походить на предыдущие!.. Горы материалов, справок, выписок загромождали его стол. Крестьяне, купцы, раскольники, учителя, арестанты, их занятия, быт, нужды – все это должно было улечься в пункты и параграфы отчета.
Все это были не просто люди и сословия, а красноречивые ходатаи. Они втиснутся в конверт, затаятся в сумке курьера, а очутившись в кабинете какого-то высокопоставленного лица, валом повалят со страниц и заставят всех поразиться трудолюбию и усердию чиновника Салтыкова.
Но вся проделанная им работа вызвала одобрение только у Середы. То же случилось и со следующим отчетом.
Через полтора года после «водворения» в Вятку Салтыков снова увидел протянувшуюся к нему волчью лапу.
Сентябрьским вечером 1849 года чиновник губернского правления Кабалеров и местный жандармский штаб-офицер полковник Андреев внезапно прибыли на его квартиру и учинили ему допрос согласно предписанию Дуббельта:
«Знает ли он титулярного советника Буташевича-Петрашевского, вольнослушателя С.-Петербургского университета Александра Тимофеевича Мадерского и секретаря Вольного экономического общества Романа Романовича Штрандмана; каким образом с ними познакомился; посещал ли их или бывшие у них собрания; в каких сношениях состоял он и помянутые лица к Петрашевскому; не имел ли с ними суждений о предметах политических и в чем оные заключались; не предлагал ли ему Петрашевский участвовать в выписывании книг, касающихся социальных систем…» – читал несколько сконфуженный неприятным поручением к сослуживцу Кабалеров.
Тщательно подбирая слова, отвечает Салтыков на «вопросные пункты» и даже уточняет свои показания на следующий день.
Да, он знал Петрашевского, который тоже учился в Царскосельском лицее, только на старшем курсе; бывал по выходе из лицея на заведенных у Петрашевского «пятницах», но библиотекой, составлявшейся по предложению Петрашевского, почти не пользовался и сами сборища в конце 1845 или в начале следующего года посещать перестал. Если же Петрашевский и высказывал какие-либо ложные идеи, то скорее по удали и молодечеству.
Ах, Михаил Васильевич, Михаил Васильевич! Таких ли ты слов заслуживал, друг ты мой, хоть и верно, давно разошлись мы!
Будь дуббельтовские подручные повнимательней, полистай они преступное сочинение «Запутанное дело», могли бы они, как с ножом к горлу, пристать с новыми вопросами:
– А чем вдохновлялся автор, рисуя кандидата философии Вольфганга Беобахтера, предлагающего снести «прочь все, прррочь»? Разумеется, мы принимаем во внимание, что сочинитель относится иронически и к Беобахтеру и к его постоянному оппоненту, «недорослю из дворян», поэту Алексису Звонскому, который, размышляя о любви к человечеству, «облизывал себе губы, как будто после вкусного и жирного обеда». Но не навеяны ли эти места повести какими-то несогласиями с участниками «пятниц» Петрашевского по вопросам, о которых вы почему-то не захотели нам откровенно сообщить?
Хорошо, что жандармы не начитаны. Совсем нет никакой охоты вдаваться в объяснения, почему не поладили подружившиеся еще «в садах лицея» два мрачноватых юноши.
Тут бы руку протянуть бывшему приятелю – на долгую, может быть вечную, разлуку! Спасибо, друг. Твой кружок походил на легкие, которыми только и дышала сдавленная со всех сторон русская мысль. И все прежние разногласия кажутся сейчас так ничтожны перед лицом торжествующего, победоносного зла.
Не закрадывается ли в душу Салтыкова горькое предчувствие, что еще не раз в будущем столкнется он с этой трагедией разъединенности сил, встающих против общего врага? Сначала – разногласия, яростная полемика или холодная отчужденность, а потом – грохот комьев земли по крышке гроба или скрип дверей тюремного каземата и горечь запоздалого сознания: ушел соратник, не ставший другом или даже унесший рубцы от твоих жестоких ударов…
Участь Салтыкова была намного легче, чем судьба петрашевцев. Виднейшие из них пережили «десять ужасных, безмерно страшных минут» в ожидании расстрела, пока им не объявили помилованье. Петрашевский был отправлен на вечную каторгу, Достоевский после четырех лет каторги отдан в солдаты…
И все же нестерпимое чувство тоски часто овладевало вятским чиновником; приближенный к губернатору, сделанный в 1850 году советником губернского правления, он оставался ссыльным.
В ответ на все его ходатайства об освобождении из вятского плена равнодушный голос с самой высокой вершины начальственной пирамиды ронял:
«Рано» – в 1849-м.
«Рано» – в 1850-м.
«Рано» – в 1853-м.
Лица вятских знакомых повторялись с тем же постоянством, как короли, дамы и валеты из одной и той же карточной колоды.
Те же самые леса и поля тянулись мимо Салтыкова во время долгих разъездов по губернии. Порой он уже не обращал на природу внимания, она тянулась рядом, как каторжник, скованный той же цепью, что и ты сам.
Иногда Салтыков со страстью окунался в разбор какого-нибудь дела. Так было со следствием о раскольниках, ради которого он исколесил семь тысяч верст и исписал восемь томов служебных бумаг.
В его усердии было что-то неестественно-лихорадочное. Это был многомесячный служебный «запой». Отдавал ли ретивый чиновник себе отчет в том, что эта служебная оргия была довольно неприглядного свойства, ибо, по меткому замечанию современника, раскол служил для правительства наковальней, на которой испытывались меры преследования?
Бывали в чиновничьей деятельности Салтыкова страшные отрезвления: каково стоять перед «бунтующими» крестьянами, которые кругом правы в своих претензиях к прижимистому арендатору, и по долгу службы уговаривать их угомониться и разойтись, обещая посодействовать разрешению дела в их интересах?! Ни выразить свое сочувствие «бунтовщикам», ни уверить их в искренности своих намерений помочь им Салтыков не мог. И обе стороны отнеслись к нему с подозрением. «Салтыков ничего не сделал для усмирения крестьян», – недовольно начертал на рапорте о событиях новый вятский губернатор Семенов.
Со времени европейских революций 1848 года русские газеты набили руку на противопоставлении западной смуты незыблемой тишине, коей пользуется Российская империя.
Булгаринская «Северная пчела» уподобляла николаевское государство ковчегу средь революционных волн. Перепуганный владелец «Отечественных записок», где печаталось «Запутанное дело», Краевский писал об «умилительном зрелище незыблемой законности, которая только заимствует новый блеск и силу от противоположного явления» (то есть европейских неустройств).
Скала! Утес! Гранитная стена, преграждающая доступ превратным толкованиям! – всякий благонамеренный литератор и журналист торопился внести свою лепточку в хор славословий.
«Шапками закидаем!» – взревела русская пресса при начале войны с Турцией в 1853 году, в которую на стороне последней затем вступили Англия и Франция. С восторгом вспоминали ура-патриотические журналисты о «победоносной» кампании против венгерской революции, умалчивая, что и тогда в первые же недели войско оставило за собой целые полки отсталых, больных и обессиленных изнурительными переходами и скудным питанием. То было зловещее видение будущих бедствий…
Высокомерные и вызывающие заявления русской прессы не могли ввести в заблуждение трезвых наблюдателей. «Все прекрасно для парадов и никуда не годно для войны», – сказал своим друзьям полковник Д. А. Милютин, в будущем военный министр. А в американской газете «Нью-Йорк дейли трибюн» Фридрих Энгельс напомнил, «насколько ложными и раздутыми бывают цифровые данные, исходящие из русских отчетов» [1]1
К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. Издание второе, т. 9, стр. 478.
[Закрыть].
Во время войны официальное лицемерие превзошло само себя. Не в диковинку было читать такие победные реляции: «Неприятель понес значительную потерю убитыми и ранеными, у нас убит один казак». У самого доверчивого читателя такое соотношение не могло в конце концов не возбудить подозрений, тем более что рекрутские наборы следовали один за другим.
Армия, столь грозная на царских смотрах, обученная всевозможным хитроумным ружейным приемам и вымуштрованная до такой степени, что уже напоминала строй оловянных солдатиков, оказалась не в силах устоять против «гнилого Запада». И добро бы она подвергалась натиску энергичных полководцев! Нет, военачальники обеих сторон действовали вяло. Однако даже эта война оказалась не по силам николаевской империи.
Как гнилое сукно, поставленное продувным купцом и принятое за крупную взятку снисходительным интендантом, расползалось мнимое российское благополучие.
Призванная на «Севастопольский страшный суд», как окрестили это событие современники, крепостническая система принуждена была расписываться в собственной несостоятельности.
Рассказывая об одном приказе по русской армии, изданном в 1855 году, в котором требовалось не вызывать «отвращения» у новобранцев бесполезной парадной муштрой, военный обозреватель «Нью-Йорк дейли трибюн» Фридрих Энгельс писал:
«Таким образом, русский генерал, при прямом одобрении императора (Александра II. – А. Т.), осуждает две трети всего русского строевого устава как бесполезную глупость, способную внушить солдату лишь отвращение к его обязанностям; а этот устав был как раз тем достижением, которым покойный император Николай особенно гордился!» [2]2
К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. Издание второе, т. 11, стр. 604.
[Закрыть]
Даже флигель-адъютант Николая Ден был поражен царившим в среде командиров воровством и казнокрадством и признавал, что «в нравственном отношении солдат наш стоял в то время несравненно выше наших офицеров».
Стойкость русских солдат, матросов и почти безоружных ополченцев, которые с топорами бросались на батареи противника, выдавалась официальными кругами за силу самого режима.
Люди, наживавшие баснословные деньги на поставках и подрядах, со слезами умиления восторгались героями Севастополя:
– Держится голубчик-то наш! Не сдается! Нахимов! Лазарев! Тотлебен! Герои! Уррра!
Так радуются курице, несущей золотые яйца.
Вятский чиновник Салтыков мрачно глядел на патриотические рыла непойманных воров, с горечью вспоминая поразивший его в свое время рапорт об устройстве в Вятке эшафота; там говорилось, между прочим, что знак клейма всегда явственнее выступает у худощавых, нежели у толстых.
Как хотелось ему положить на эти полные притворной скорби о «солдатиках» и внутреннего ликования сытые лица такое позорное клеймо, чтобы век не смывалось и не тускнело!
А за окнами с напускной лихостью распевали забранные в армию мужики, причитали бабы, вспыхивали пьяные драки. Уже тридцать тысяч человек высосала война из Вятской губернии. Одни из них дрались, других давно засыпали землей, а третьи еще только подходили к Симферополю. Еле выдирая ноги из грязи, они с состраданием глядели на трупы изможденных лошадей и коров, так и не дошедших до Севастополя, расступались перед тряскими телегами, откуда неслись жалостные стоны.
О чем думал Салтыков, опасаясь доверить свои мысли и случайным друзьям, и родным, и даже простой бумаге?
Наверное, о том же, о чем втайне мечтали все сколько-нибудь разбиравшиеся в этой трагической ситуации люди.
«В Западной Европе, – писал несколько лет спустя Чернышевский, – покажется ненатуральным и невероятным, чтобы даже австрийские немцы считали несчастием для государства тот случай, когда их правительство одержало бы победу, и надеялись добра только от поражений своей армии. Но мы совершенно понимаем это чувство».
«Совершенно понимаем» – потому что сами пережили это в Крымскую войну, когда в среде петербургской интеллигенции, к которой принадлежал Чернышевский, сообщение о падении Севастополя передавалось с естественной горечью за понесенные жертвы и вместе – с радостью, что исчезает последняя опора, которой пользовались защитники старых порядков.
«…Приходится даже бояться успехов русского оружия из опасения, чтобы это не придало правительству еще более силы и самоуверенности», – записывал Грановский в январе 1855 года.
«…Мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет», – вторил молодой историк Сергей Соловьев.
Банкротство николаевской системы было полным.
Царственный банкрот не вынес удара. Посетовав в предсмертном разговоре с сыном, что он «сдает ему команду не в лучшем виде», Николай сжал руку в кулак, видимо, как завещание: держи крепче, как можно крепче!
Александр Николаевич почтительно кивал.
Вскоре Александр II от имени покойного благодарил министров за усердную службу.
Некоторые переглядывались. Положение дел было таково, что благодарность звучала весьма саркастически.
Спасибо, дескать: поставили Россию против всей Европы, потопили Черноморский флот, вот-вот сдадим Севастополь…
В тот же день один флигель-адъютант обеспокоенно сказал другому по-французски:
– Ты слыхал? Большие перемены! Ботфорты отменили.
Занималась заря нового царствования.
Казалось, вздох облегчения вылетел из груди лучших людей русского общества при вести о смерти Николая.
Вздох облегчения, горечи и… стыда.
Оглядываясь на прошлое, даже довольно миролюбивый профессор Кавелин дал усопшему самую уничтожающую характеристику:
«Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, вырезавший лицо у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I… Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного!.. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности? Какому Ваалу нового времени принесены в жертву лучшие силы, цвет и надежда России? Когда-то соберутся новые? Еще генерация, выросшая и воспитанная под самой несчастной звездой, лишенная энергии, идей, чести, только с виду носящая человеческий образ, должна пройти, пока выйдет что-нибудь путное».
Письмо это к Грановскому переходило из рук в руки, вызывая общее сочувствие.
Кавелин не преувеличивал страшных потерь, которые принесло передовым силам России минувшее царствование.
Встретясь с Грановским, один из его учеников взволнованно спросил, знает ли тот о смерти Николая.