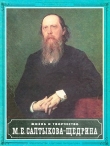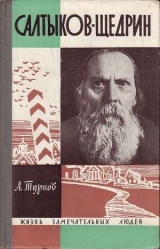
Текст книги "Салтыков-Щедрин"
Автор книги: Андрей Турков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Бумаги, захваченные при аресте мнимых поджигателей, подвергаются самому пристрастному толкованию. Запись в дневнике одной гувернантки: «Пожар имеет в себе что-то революционное. Он смеется над собственностью, нивелирует состояния» – обрадовала следователей как драгоценная находка, и «поджигательница» была сослана в Холмогорский женский монастырь. Естественно ждать, что такая придирчивость будет перенесена и на литературу, которая и без того не могла жаловаться на недостаток цензорского внимания.
Нетрудно предсказать, что, получив широкие полномочия для «предотвращения беспорядков», власть не будет торопиться отказываться от них даже тогда, когда обстоятельства изменятся. К этому выводу Чернышевский пришел, изучая труды историков, будь они даже такие умеренные, как Б. Н. Чичерин; жизнь почти каждого народа доказывала, что «власть стремится к всегдашнему удержанию объема, приобретенного по поводу скоропреходящих обстоятельств».
При виде сгущавшихся туч лагерь «прогрессистов», и прежде разнородный и непрочный, заметно поредел. Трусливо спеша укрыться от заходящей грозы, либеральные дезертиры скорбно покачивали головами и во всем винили «Современник» и Чернышевского, которые заняли, дескать, такую крайнюю позицию, что напугали, ожесточили правительство и столкнули его с пути реформ на путь реакции. Это Чернышевский сбил Россию с пути правильного, законного развития и снова вызвал в ней господство произвола! – зловеще вещал Б. Чичерин, сетуя, что «разумный консерватизм исчез, нигде не найдя опоры», и сменяется надвигающейся реакцией. Как давно раскусил Николай Гаврилович этих слепцов, кажущихся самим себе хитрецами!
«Реформаторы, надеющиеся обратить реакционеров в прогрессистов, думают, что именно только вражда революционеров, а не инстинкт собственных выгод восстановляет реакционеров против реформ, и за то преследуют революционеров, как людей, вредных делу реформы».
В пору погордиться тем, с какой точностью выражали эти слова, написанные три года назад о Европе, нынешнее положение вещей в России. Но неужто история для большинства навсегда останется неразрезанной книгой, по которой не учатся и из-за этого снова и снова попадают в беду? Неужто это какой-то порочный круг?
Как из него вырваться? Как достучаться до народа? Прокламацией «Барским крестьянам…», где крестьян предостерегают от напрасного распыления сил и советуют им ждать сигнала? Но какова-то будет ее судьба после того, как она, наконец, сойдет с типографского станка этого жалкого и… странного Всеволода Костомарова? (Чернышевский еще не подозревает, что имеет дело с провокатором.)
Кто подаст сигнал, когда думающие об этом люди еще только собираются в кружки, еще спорят о методах, еще робко вербуют сторонников, а противник оправился от недавней растерянности и уже трубит сигнал к наступлению? Не проиграна ли эта битва до ее начала? После недавних вспышек крестьянство то ли приуныло, то ли поуспокоилось, присматриваясь к тому, чем обернется реформа: авось хуже не будет.
Большаявойна не проиграна. И в России и в Европе – нигде вся народная масса еще не принимала самостоятельного, деятельного участия в истории. Это неисчислимые резервы, но когда-то подойдут они к полю сражения? А пока авангард погибает. Издание «Современника» и родственного ему журнала «Русское слово» приостановлено. Шахматный клуб, место писательских сборищ, и воскресные школы закрыты.
Его собственная судьба, видать, тоже решена.
– Такой талантливый! – сокрушался в разговоре с кем-то государственный секретарь Бутков. – Притом такое влияние на молодежь. Правительство, конечно, не может терпеть этого.
И поздно ночью 7 июля в квартире Чернышевского появляется приземистый, с изрытым оспой, корявым лицом жандармский офицер. Это поистине историческая личность – полковник Ракеев. Какая честь, или как там поется у Беранже? Господин Ракеев сопровождал гроб Пушкина в Святые горы, он производил обыск у поэта М. Л. Михайлова, сосланного в Сибирь за составление революционной прокламации, – знаток, покровитель, так сказать, литературы. Маленькие светло-серые зрачки, почти слившиеся с воспаленными от трудов белками, зорко оглядывают позднюю компанию.
– Милости прошу, – с насмешливым покашливанием приглашает его в свой кабинет Чернышевский, раскланиваясь с засидевшимися гостями. Они снова увидят его лишь издали, через два года, когда Николай Гаврилович взойдет на эшафот, чтобы над ним совершили обряд гражданской казни перед отправкой в Сибирь.
В тот же вечер был арестован и Николай Александрович Серно-Соловьевич, эта «живая прокламация», как его метко окрестили, – один из организаторов тайного общества «Земля и воля».
«Как я рад известию об арестовании Серно-Соловьевича и, особенно, Чернышевского. Давно пора с ним разделаться», – ликует великий князь Константин, славившийся своим «либерализмом».
Что же делает бывший тверской вице-губернатор, находившийся с Некрасовым и Чернышевским в не столь уж дружелюбных отношениях, когда над кружком «Современника» и самим журналом разразилась такая беда, когда вчерашние либералы одобряли правительственные меры, как это сделал К. Д. Кавелин, вполне уверовавший в существование поджигателей и писавший Герцену, что аресты его не удивляют и не кажутся ему возмутительными?
Осенью в «осиротевшей» редакции крамольного журнала, составившейся из Некрасова, Антоновича, Елисеева и Пыпина, появляется новый сотрудник.
V
«1862 год совершил многое, – вспоминал Щедрин через несколько лет, – одним он дал крылья, у других таковые сшиб». У одних «вытянулся язык в целую версту» и превратился в нечто вроде осьминожьего щупальца, тянущегося к намеченной жертве; у других он начал явным образом присыхать к гортани.
Еще в 1861 году были возможны наивные увещевания не пользоваться полемическими приемами, которые могут повлечь за собою в условиях России политическое обвинение противника.
«Вы с вашим христианским православным воззрением имеете изъясняться прямо, смело, вразумительно. А Чернышевский должен будет перед вами лавировать, увертываться, – укоризненно писал Н. И. Костомаров издателю славянофильской газеты «День» И. С. Аксакову. – Для вас доступно всякое оружие, для него – нет! Если же вы начнете развертывать все папильотки, в которые завернуто то, что подается им почтеннейшей публике, то результат выйдет тот, что Чернышевского посадят в крепость либо сошлют в Вятку, как проповедника безбожия, социализма, революции, а вам дадут орден за разоблачение зловредного учения».
Однако консервативная пресса чем дальше, тем больше избавлялась от остатков стыдливости, смело вызывая противников на «открытое ратоборство», лицемерно возмущаясь тем, что они медлили принять «благородный вызов», чтобы не попасть в ловушку.
Со всех сторон обставленные цензурными запрещениями, подстерегаемые многочисленными, чересчур внимательными «читателями», прогрессивные русские литераторы оказались в трудном и опасном положении. Многие поколебались или, во всяком случае, отступились от продолжения печатной разработки насущнейших вопросов жизни. Салтыков же едва ли не в эту пору, подстегиваемый яростным желанием не уступить поля боя напирающей реакционной своре, кинулся в самую гущу схватки. Можно было подумать, что именно это и предрек ему священник, крестивший новорожденного младенца Михаила, сказав:
– Воин будет!
То, как прорывался он сквозь цензурные путы, невольно заставляло вспомнить рассказ про узника, который смиренно попросил водицы испить, а потом нырнул в принесенный ковшик, да и был таков.
На самом же деле трудно даже себе представить, чего ему стоили эти схватки с цензурой. С горьким юмором говорит он о том, что писательская мысль всегда должна развиваться с оглядкой, «чтобы ни один слишком любознательный читатель не мог сказать: а-а! да ты вот откуда, почтеннейшая, идешь! но чтобы можно было во всякое время такому читателю ответить: нет, ты клевещешь! я совсем не оттуда иду, а я просто гуляю!»
В первом же вышедшем после восьмимесячного перерыва номере «Современника» (№ 1–2 за 1863 год) Салтыков выступил и под своим обычным псевдонимом «Н. Щедрин», и под фамилией «К. Гурин», и как автор нескольких статей, заметок и рецензий, оставшихся без всякой подписи.
Начиная публикацию периодических очерков «Наша общественная жизнь», Щедрин сразу же встал на защиту молодого поколения, которое обвинялось в том, что оно заражено предосудительными теориями. После появления в 1862 году романа Тургенева «Отцы и дети» реакционеры восторженно подхватили словцо «нигилист», равносильное в их устах «революционеру», «смутьяну» и «цинику». Сам автор нашумевшей книги был поражен, когда, вернувшись из-за границы, услышал от знакомого генерала:
– Что это ваши нигилисты делают – Петербург жгут!
Лишь немногие из радикально настроенных литераторов, вроде Д. И. Писарева, не видели в Базарове клеветы на молодое поколение, прощая автору неточности и преувеличения за то, что нарисованный им характер все-таки привлекал к себе силой и последовательностью убеждений.
Большинство негодовало на неприглядное, по их мнению, изображение Базарова; в значительной мере это произошло потому, что эксцентрические поступки и высказывания тургеневского героя реакционная журналистика широко использовала для компрометации всего прогрессивного лагеря, материалистического мировоззрения, тяготения молодежи к естественным наукам и т. п.
Салтыков тоже негодовал на Тургенева, считая появление его романа «страшной услугой» реакции и находя вполне естественным, что его печатал именно катковский «Русский вестник».
Сатирика раздражала бестолковая смерть Базарова от заражения крови: «…такого рода люди погибают совсем иным образом, – утверждал он в статье «Современные призраки» (1864 год). – Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей».
«Случай» на языке Щедрина – это вмешательство в человеческую жизнь «случайного» (то есть не признаваемого им законным и лежащего на жизни тяжелым бременем) порядка вещей. Это «волшебное» исчезновение человека из своей квартиры и водворение в Вятку, Пермь, Сибирь.
Спустя несколько лет, упомянув о Тургеневе в одном из писем, он едко переиначил известные стихи:
Сей старец дорог нам; он жив среди народа
Священной памятью…
Шестьдесят второго года.
«Стиха не выходит, но верно», – заметил он в заключение.
В «Нашей общественной жизни» Салтыков ловко парировал удары, которыми осыпали передовую молодежь консервативные журналисты, испускавшие нескончаемые вопли об угрожающих обществу «нигилизме» и «мальчишестве»:
«…«Благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова фармазон и вольтерьянец. Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты…»
Неотступная логика автора вела читателя к выводу: разглагольствования о вреде «нигилизма», «отрицательного направления» порождены недовольством, что «отрицатели» обнаруживают гнилость существующих порядков.
Щедрин и сам проделывал ту же работу. Его статья «Современные призраки» доказывала бессодержательность и лицемерие многих «краеугольных камней» господствующей морали.
«Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми, – писал Щедрин. – Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однако ж, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страстности».
«Современные призраки» даже в более либеральные времена не могли бы появиться в печати, но сатирик опубликовал в «Современнике» очерк «Как кому угодно», где ему удалось высказать квинтэссенцию своих мыслей, нарисовав картину дворянской семьи, в которой под личиной семейного согласия царят взаимное отчуждение и ненависть:
«Все эти лица смотрят на природную связь, их соединяющую, как на что-то горькое, почти несносное; все только и ждут минуты, когда можно будет эту связь порвать! А между тем спросите у Марьи Петровны или у самого Сенички: что, такое союз семейственный? Марья Петровна ответит: как, батюшка, уж ты этого-то не понимаешь! Сеничка же скажет: семейственный союз – это зерно союза гражданского, это алтарь, это краеугольный камень!»
Разумеется, подобное стремление к анализу истинного содержания «незыблемых» понятий не могло быть одобрено в самодержавном государстве: кто его знает, на чем остановится мысль сочинителя, вдруг он от семьи – этого «зерна союза гражданского» – перейдет к самому государственному древу и поставит под сомнение искренность согласия между «отцом народа» и его «любящими детьми»? В писаниях Щедрина начальству всюду чудятся намеки, острая мысль. И за ней, как за шмелем-Гвидоном в пушкинской сказке, гоняются цензоры.
Все кричат: «Лови, лови
Да дави ее, дави…»
Черт ее знает, настоящая это лошадь или какой-то проклятый оборотень в одной из статей Щедрина:
«А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» – беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и ласке обожаемого хозяина (разве существуют на свете хозяева не «обожаемые»?)…
Лошадь – животное глупое и легковерное. Сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения…»
До чего здесь все подозрительно: и эпитет «обожаемый», который в газетах постоянно соседствует со словом «монарх», и неуместный по отношению к глупому животному пафос, и странное выражение «всякого рода извозчики»…
Провожаемая долгими подозрительными взглядами, добирается мысль к читателю, а там, словно очутившись после мороза в тепле, начинает сбрасывать с себя сковывающую ее одежду и является в своем подлинном обличии.
Ненависть к «отрицанию» – это стыдливый псевдоним мыслебоязни вообще, ненависти застоя к тому, что угрожает его нарушить. Послушать ретроградов, так это «мальчишки» и «нигилисты» породили все то зло, которое на самом деле только при их помощи общество и осознало как зло. Клевещут на «нигилистов» и вчерашние либералы, отступники, с завистью и недоброжелательством ощущающие в «мальчишках» утраченные ими самими задор и жажду справедливости.
«Под этим словом, – писал Щедрин о «мальчишестве», – подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста!..»
Не только здесь, но и во всей хронике «Наша общественная жизнь» писатель изобличал и осыпал сарказмами этих «близнецов», издававших сначала «Русский вестник», а с 1863 года и газету «Московские ведомости». Борьба с ними была очень опасной, потому что с началом польского восстания 1863 года Катков полностью порвал даже со своим прежним трусливым либерализмом и стал, по собственному выражению, «государственным сторожевым псом, охраняющим достояние хозяина и чующим, если в доме что-нибудь не ладно». И действительно, ожесточенный, захлебывающийся, остервенелый лай понесся со Страстного бульвара, где находилась редакция «Московских ведомостей».
Как ищейка, которой нужно только раз втянуть запах преследуемого, чтобы кинуться в погоню, Катков не затруднялся чтением статей своих противников. Он довольствовался слушанием их в пересказе, просил отчеркнуть те или иные пункты и знакомился только с ними. После этого он ночью с остановившимся взглядом диктовал статьи секретарю, и временами казалось, что у него на губах клубится пена, как у бешеной собаки. В такие минуты с его уст слетали особенно забористые выражения о «вольноотпущенных сумасшедшего дома» – Герцене с Огаревым – и о «не менее диких явлениях во внутренней русской литературе».
Помещики читали его со все возрастающим восторгом: еще бы, ведь «Московские ведомости» утверждали:
«Повсюдный опыт свидетельствует, что земское дело должно находиться в руках значительных собственников, поставленных так, чтобы они могли быть представителями всех сословий земства».
Выставляя себя независимым публицистом, Катков дозволял себе даже своего рода грубость, точнее говоря – «лесть в виде грубости», как ядовито подметил Щедрин. Он то и дело бил в набат и укорял правительство в… попустительстве революционерам, поджигателям, нигилистам.
Польское восстание позволило ему развернуться во всем блеске своего погромного дарования.
Катков изображал происшедшее как результат ослабления власти и под рукой намекал на необходимость усилить административный нажим и в России:
«Да, когда над этим краем тяготела строгая и крепкая рука, он был спокоен; стесненный во всех отправлениях своей общественной жизни, в своем языке, в своих национальных обычаях, управляемый вооруженной силой, без всяких видов на национальную самостоятельность, он был спокоен…»
Он кривлялся и гаерствовал, бесстыдно уверяя, что «только сами поляки виноваты в том, что русские, скрепя сердце, принуждены биться с ними, чтоб отбиваться от них, и властвовать над ними, чтобы спасаться от их властолюбия».
Он злобствовал по поводу сочувствия, которое вызвала неравная борьба повстанцев у революционеров разных стран, и рисовал людей, готовых отправиться на помощь полякам, как каких-то наемных ландскнехтов; им якобы «решительно все равно, за кого бы ни сражаться, лишь бы только против общественного порядка».
Катков провозгласил необходимость «организации патриотизма», в елейных тонах распространяя сообщения о манифестациях населения в поддержку действий против Польши, пугал обывателей вздорными сообщениями о польских интригах внутри России и намекал на причастность к этим интригам прогрессивной русской журналистики.
Его намеки подхватывал и развивал Леонтьев, названный одним из современников «художником клеветы». Этот маленький горбун с четырехугольным бледным лицом обладал бульдожьей хваткой. Холодные карие глаза впивались в противника, ища в его натуре, жизни, интимных отношениях что-либо позволяющее забросать его грязью, а жесты, которыми Леонтьев сопровождал трудно идущие изо рта слова, походили на движенья лап паука, расправляющего клейкую паутину.
Щедрин как только мог противился шовинистическому разгулу, захлестнувшему русское общество. Когда появилось верноподданническое заявление от имени московских студентов, Щедрин, лишенный возможности прямо высказать свое отношение к нему, пустился на хитроумный разбор языка, каким оно было написано.
Авторы заявления возвещали, что им «дорога честь и величие России», а Щедрин делал невиннейшее грамматическое примечание:
«…Следовало сказать не «дорога», а «дороги», ибо «честь» и «величие» представляют два понятия отдельные, а потому и относящееся к ним прилагательное должно быть употреблено во множественном числе».
Это был явственный намек на то, что «честь» страны совсем не совпадает с ее «величием», понимаемым в смысле могущества самодержавной империи.
Процитировав пространный и велеречивый отрывок, начинавшийся словами: «Всякий поднимающий меч на Россию есть враг ее, враг Русского народа…», Щедрин рекомендовал заменить его одной фразой: «как истинные верноподданные, мы заявляем, что считаем своим врагом всякого, кто замыслит что-нибудь противное интересам его императорского величества».
«Это будет ясно, вразумительно, и при том нисколько не противно той мысли, которую вы намеревались выразить», – писал Щедрин, «ясно и вразумительно» говоря, что польские повстанцы – совсем не враги русского народа.
Конечно, многие подобные ухищрения предотвращались цензурой; она изъяла, например, из майского раздела «Нашей общественной жизни» за 1863 год отрывок, посвященный неразумному желанию турецкого султана (то есть русского царя) удержать некие бесплодные (для него) «скалы в Европе», жители которых с ним на ножах. Однако иногда цензуре формально не к чему было придраться, и тогда, скажем, в статье «Драматурги-паразиты во Франции» можно было прочесть о некоем австрийском журналисте, чьи рассуждения о Венеции, пытающейся освободиться из-под ига Австрии, совершенно совпадали с катковскими.
Страстное слово в защиту борцов за свободу пробивалось к сердцу многих читателей.
«Я бы хотела теперь быть полячкой и с чистой совестью от всего сердца биться за родную землю», – записывает в дневнике Елена Андреевна Штакеншнейдер, а о «Современнике» отзывается прямо-таки с нежностью: «Отрадный журнал. Единственный не портящий кровь. Единственный честный, единственный добрый».
Польское восстание не оказалось полностью бесплодным. Чтобы предотвратить движение крестьянства, царское правительство поручило Н. А. Милютину провести в Польше аграрную реформу более кардинального свойства, чем это было в России.
Но для русского общества результаты польского восстания были того же рода, что и последствия революции 1848 года, услышав о начале которой историк С. М. Соловьев озабоченно предрек: «И достанется же нам из-за этой революции!»
«Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, – писал Щедрин, – но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратимое прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет…»
Говоря о «фальшивом и бесплодном направлении», Щедрин имел в виду бесстыдную спекуляцию на патриотических чувствах, с которой он впервые по-настоящему столкнулся во время Крымской войны.
Попытка отождествить интересы русского народа с интересами царизма и правящих классов, выдать официальную прессу за голос народа; патриотическое горлопанство, стремление заглушить любое критическое замечание воплями о бесплодном критиканстве – все это вызывало желчную отповедь Щедрина.
«Поднимается общий гвалт, – писал он в статье «Драматурги-паразиты во Франции», рикошетом задевая и своих собственных противников, – являются публицисты, которые знать ничего не хотят; являются беллетристы, которые знать ничего не хотят; все сыты, все накормлены, все пляшут, потому что нет ниоткуда отпора, потому что высказываться ясно может только один паразитский, сыто-ликующий унисон…»
Всякое исследование, которое затрагивало какие-либо неприглядные стороны русской истории, государственной жизни, народного быта, объявлялось оскорбительным для народной чести, а самое бесстыдное, белыми нитками шитое, но соответствующее видам начальства голословное утверждение встречало благосклонный прием.
Министр внутренних дел П. А. Валуев желал, чтобы литература говорила не минорным, а мажорным тоном, и отзывчивые чиновники, сочинявшие обзор «различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие», не преминули отметить, что «в произведениях Щедрина нигде не заметно никакого идеалаи ничего положительного».
Изничтожая Герцена, «независимый» Катков тоже возмущался чисто отрицательным характером критики отечественных порядков… и в то же время обвинял издателя «Колокола» в желании устроить в России пробу своих социалистических теорий!
Все, что еще недавно кичилось самостоятельностью и выставляло на вид оттенки во мнениях, теперь, как будто влекомое центробежной силой, сливалось в одну неприглядную массу.
Вчерашний эмансипатор Кошелев, враждовавший в качестве славянофила с «англоманом» Катковым, теперь совсем в духе «Московских ведомостей» обрадованно хлопал себя по ляжкам:
– А Муравьев хват! Вешает да расстреливает, дай ему бог здоровья!
В 1862 году либеральный публицист «Отечественных записок» С. С. Громека еще чувствовал себя головой выше Каткова, писавшего о Герцене, «комфортабельно проживающем за морями»: «Он не пойдет в Сибирь; но зато он будет встречать и провожать рукоплесканиями этих бедных актеров, которые разыгрывают его штуки на родине…»
Но не прошло и года, как Громека обратил катковский прием против «Современника»:
«О, как легко говорить и писать о самопожертвовании и как трудно выполнять самому написанное!.. Пред нашими глазами юноши, полные жизни, сотнями плетутся по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири, – а мы, спокойно покушав у Палкина, утешаем свою совесть тем, что эти жертвы – неизбежное явление во время поднимающейся волны событий».
Нужды нет, что Чернышевский томится в Петропавловской крепости, что Добролюбов в могиле, что Михайлов, автор статей о женском вопросе, «разглагольствованием» о котором возмущается Громека, на каторге, откуда уже не воротится, как и Н. Серно-Соловьевич, что на каторге и Обручев! «О, как легко говорить и писать о самопожертвовании…»
В «Нашей общественной жизни» Щедрин несколько раз иронизировал по поводу того странного положения, в которое поставили себя русские консервативные и либеральные публицисты:
«Все они, в сущности, желают одного и того же, и в то же время все без изъятия враждуют между собой. Все желают, чтобы Россия благоденствовала, чтобы доверие между управляющими и управляемыми не прерывалось, чтобы правда царствовала в судах, чтобы войска были победоносны и чтобы журналы, в которых они принимают участие, приобретали все больше и больше подписчиков…»
Трудно было ехидней охарактеризовать истинно верноподданнический характер этих «идеалов», которые подразумевали и подавление польского восстания «победоносными войсками», и полное согласие между «управляющими» помещиками и «управляемыми» крестьянами, и собственную выгоду (увеличение числа подписчиков).
Любопытно, что эта пародия на громкие фразы в какой-то мере могла послужить образцом для болтовни, которой докучает всем помпадур Митенька Козелков («Она еще едва умеет лепетать».).
«Вы поймите мою мысль, – твердит он. – Я чего желаю? Я желаю, чтобы у меня процветала промышленность, чтоб священное право собственности было вполне обеспечено, чтоб порядок ни под каким видом нарушен не был и, наконец, чтобы везде и на всем видна была рука!»
Находя десятки поводов для споров о каком-нибудь «ничтожном фестончике», высмеянные Щедриным журналисты симулировали общественную активность, на самом деле все более суживавшуюся. Ожесточение же их друг против друга часто бывало совершенно непритворным. Это во многом объяснялось их конкуренцией между собою.
Совершенно иной характер носила ожесточенная полемика, вспыхнувшая в 1864 году между «Современником» и близким ему по направлению журналом «Русское слово», в особенности между Щедриным и Антоновичем, с одной стороны, и критиками Д. Писаревым и В. Зайцевым – с другой.
Приступая к ведению «Нашей общественной жизни», Щедрин обещал в ней делом ответить на интересующий читателя вопрос, очистился ли «Современник» постом и молитвой, то есть облагоразумился ли журнал после временного прекращения.
Действительно, уже первые хроники Щедрина обнаруживали намерение журнала следовать по прежнему пути, хотя и с неминуемыми мерами предосторожности: «все нас к. тому призывает, – иронизировал автор, – и желание беседовать с читателями именно двенадцать, а не пять раз в году (то есть не подвергаться новым запрещениям. – А. Т.), и современное настроение российского общества, и, наконец, разные другие обстоятельства».
Постоянные подписчики «Современника» встречали в статьях Щедрина рассуждения и даже отдельные выражения, явственно напоминавшие сказанное Чернышевским.
«А вы думали, что пройдете осенью по Невскому от Аничкова моста до Адмиралтейства и не замараетесь?» – саркастически вопрошает хроникер своего приятеля Ваню Колобродникова, который чуждается самой мысли о необходимости компромиссов. И это живо приводило на память слова Чернышевского о том, что история – это не тротуар Невского проспекта.
Намеренно ли подчеркивал таким образом Михаил Евграфович свою солидарность с арестованным руководителем журнала или же он, наоборот, из опасения цензорских придирок сам убрал бы эти невольные совпадения, если бы заметил их, – несущественно. Важнее, что многие мысли Чернышевского Щедрин разделял.
Это не мешало ему сохранять по некоторым вопросам весьма самостоятельную позицию, вызывавшую и внутри редакции и вне ее упреки в отступлении от заветов Чернышевского.
В отличие от таких сотрудников «Современника», как критик М. А. Антонович, Щедрин отнюдь не считал для себя обязательным неотступное следование «прежним курсом» в резко изменившихся условиях.
Явственно обозначившийся спад крестьянских волнений, крушение либеральных иллюзий, тяжелые удары, обрушенные правительством на передовую интеллигенцию при полнейшем попустительстве общества, – все это терзало Щедрина и погружало его в мучительные раздумья о дальнейших судьбах России.
Он не раз решительно протестовал против попыток изобразить народ полностью разделяющим официальную точку зрения на происходящие в России и Польше события. Он знал истинную цену инсценированным народным манифестациям, богослужениям и адресам. Слыша вопли о том, что все русское общество «составляет единое целое с царем-батюшкой», Щедрин резонно замечал:
«Употребляя слово «общество», мы получаем право разуметь под ним только ту часть общества, которая имеет возможность заявлять о своем существовании какими-нибудь действиями, а отнюдь не ту, которая находится на степени резерва, на действительную службу еще не призванного…»
Действия самого народа казались ему единственно прочным основанием истории; он вспоминал события 1612 года, когда народ выгнал со своей земли интервентов, и недвусмысленно намекал, что этой же силе в конечном счете, а вовсе не «внешнему прогрессу» (то есть царскому соизволению и бюрократической «инициативе») обязана своим появлением крестьянская реформа.
И для читателей эти мысли Щедрина звучали как подтверждение высказываний Чернышевского, писавшего, например, что исход политической борьбы во Франции 1830 года, виднейшими деятелями которой казались поначалу королевская власть, роялисты и либералы, «был решен внезапным вмешательством четвертой силы, на которую до той поры никто не обращал внимания, никто не рассчитывал, – вмешательством народа».