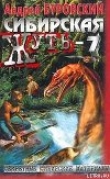Текст книги "Медвежий ключ"
Автор книги: Андрей Буровский
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
И возле самого берега, метрах в пяти от Андрея, всплыло, закачалось на волнах нечто невероятное – «тюлень» буро-зелено-болотного цвета, а на этом «тюлене» сидит длиннющая, способная извиваться сама по себе шея с хищной головой. А глаза… тоска, страх, униженность попрошайки, раздражение, неприязнь, гастрономическое предвкушение, но больше всего – равнодушие, убийственное равнодушие ко всему на свете – все было в этом взгляде доисторической рептилии, приплывшей Бог знает из каких времен.
Ладно, проверим догадку… Еще на ватных ногах, уже посмеиваясь, но еще придерживая сердце, Андрей кинул к урезу воды, в пределах досягаемости хонкульки вчерашнего тетерева: не было нужды его доесть. А он скоро портиться начнет. Зверюга метнулась к берегу так, что волны ударили в берег. Очень интересно было наблюдать за тем, как ела тетерева хонкулька – маленькими кусочками, осторожно вгрызаясь длинными, приспособленными для ловли рыбы, зубами. Так и не сообразила она, что тетерева можно и унести… А может, хотела сразу же, съев одну подачку, начать выклянчивать другую?
И точно! Не успев доесть тетерева, хонкулька закинула голову, и опять пошел знакомый Андрюхе звук: призывно-умоляющее кваканье. Ладно, ладно… Сразу за избушкой виднелся вход в погреб… или правильнее сказать, «ледник»? Андрей видел такие сооружения, только когда ездили к родственникам на север Украины. Не строят почему-то в Сибири таких подвалов со входами, как дверь в доме; в которые надо не лезть, извиваясь по приставной лестнице, а можно спускаться, как на нижний этаж дома. Тут был построен такой, заглубленный в склон холма, ледник с дверным проемом и настоящей, принесенной из цивилизованного мира, дверью. Уж наверное, у такого ладного хозяина, какой поселился тут, в высокогорье, в этом леднике что-то, да было. И не обеднеет он, если Андрей даст что-то твари: сам же хозяин ее и прикормил, верно ведь?
Ледник и правда был обширный, свеча не сразу освещала все помещение. Пришлось, уже из чистого любопытства, нести свечу в один угол, потом в другой, поднимать ее то над одним, то над другим. С одной стороны угадывались висящие вдоль стены большие предметы – туши, наверное. В другой – что-то горизонтальное, длинное. Ага, это длинный деревянный верстак, и на нем таз с кусками нарубленного мяса. Наверное, приготовлено для готовки; как вернется хозяин, будет жарить и парить. Ух ты! Целая туша на крюке – полмарала. Интересно, а лицензию дяденька брал? Если ты сын охотинспектора, такие мысли неизбежно приходят в голову… Вот еще целая туша – молодой медведь, килограммов по крайней мере на сто. А вот…
Какое-то время Андрей тупо смотрел, не пропускал в сознание увиденное. Потому что на третьем крюке висел выпотрошенный человеческий труп с ободранной кожей и отрубленными кистями рук и головой. Обе ноги по колено отрублены. Постепенно то, что он видел, все же просачивалось в голову Андрея. Парень кинулся к верстаку; пришлось сделать над собой усилие, чтобы прикоснуться к этому мясу. Да, это вполне могла быть и нога ниже колена – вроде бы, вот они, характерные косточки. Но куски пока были все мелкие… Снизу пошли пальцы ног, и Андрей сразу отскочил от таза, пытался вытереть руку то об штаны, то об куртку.
С той стороны тоже вроде бы просматривался какой-то стол… или не стол? В свете свечи открылся еще один стол; от кусков льда в тазах исходил ледяной холод, и в этих тазах хранилась голова марала, голова молодого медведя и голова человека.
Незнакомое лицо, и нельзя сказать, что искаженное страданием. Ничуть! Человек скорее всматривался в даль широко открытыми глазами, и даже напряжение не читалось на этом спокойном лице с полуседыми волосами. Кто он был? Судя по лицу, вовсе не человек, упавший на жизненное дно. Ум и воля зрелого, пожившего мужчины читались на этом лице. Человек с таким лицом мог быть охотником, геологом, мастером или инженером в леспромхозе.
Тут Андрею пришла в голову еще одна мысль, и он кинулся прочь из подвала. Хонкулька опять издала призывно-умоляющее кваканье. Андрею было не до нее, он пулей кинулся в дом, вытащил кость из бульона. И тут же желудок словно стиснуло громадной холодной рукой, так, что потемнело в глазах. Андрей едва успел выскочить из дома, и потом жалел, что не успел ни есть, ни пить сегодня – потому что рвало его особенно мучительно и гнусно – собственной желчью, до страшной горечи во рту. Пришлось прополоскать рот, посидеть немного, приходя в себя. Хонкулька квакала в нескольких метрах, уже совершенно не страшная. А потом включился простой и ясный механизм выживания.
Для начала Андрей стал уничтожать все следы своего пребывания здесь. Он разбавил бульон, довел уровень жидкости в кастрюле до того, какой был до его хозяйничания. Вымыл маленькую кастрюлю, поставил на место… вроде бы тут она стояла? Расставил книги по местам, стараясь вспомнить, точно ли ставит туда же, где брал. Уж конечно, убрал лист бумаги, на котором собирался писать письмо гостеприимному хозяину. Сложил в поленницу нарубленные дрова, и особенно трудно было подобрать все свежие, светлые щепки от его утренней работы. И так же последовательно, аккуратно Андрей уничтожал все признаки того, что он вообще здесь был… Что здесь побывал человек.
Опыт говорит, что чаще всего люди возвращаются домой вечером: если можно поднажать и придти домой пусть поздно, но ночевать в своей постели, кто же останется ночевать в чистом поле? А если человек уж заночевал не дома – значит, он еще далеко, и рано утром никак не придет. Но рисковать Андрею не хотелось, и он действовал так, как будто хозяин мог придти в любой момент. Справедливости ради, привычки у хозяина оказались уж очень необычные… Прогнозировать его поведение Андрей не взялся бы.
Солнце еще не поднялось на свою высшую сегодня точку по окоёму, когда Андрей Маралов уже спешно уходил прочь, в горы. Конечно же, не по тропе хозяина, а без всякой тропы, прямо в лес. Уже часа в два пополудни Андрей, тяжело дыша, свалился в папоротники на верхней точке перевала. Здесь кончался почти безлесный подъем, обращенный к Долине Теней, и начинался покрытый низкорослым лесом спуск. Отдышавшись, Андрей вытащил бинокль, внимательно осмотрел всю долину. Никакого движения не заметил он, как ни всматривался в окуляры.
Андрей не стал задерживаться и здесь: едва восстановилось дыхание, как он уже шагал дальше, начав путь продолжительностью не меньше двух дней. Только в одном месте Андрей потерял темп и время… Никаких признаков собаки в покинутой избе он не заметил, но рисковать уж больно не хотелось, и Андрей долго шел по руслу весело журчащего ручейка, хотя вел ручеек не совсем туда, куда надо.
К вечеру Андрей сварил пустую кашу: консервы давно кончились, а стрелять он бы, конечно, не стал. Поев, он ушел за несколько километров от кострища, и прямо на склоне горы, в папоротниках, положил на землю спальный мешок.
Только лежа перед сном в спальном мешке, измученный Андрей вспомнил, что по его собственной вине не закончена экспедиция: он не взял образцы воды, животного и растительного мира ни Хонкуля, ни Малого Хонкуля. Он начал думать, что лучше – обойтись без этих данных, или все-таки надо вернуться, но не успел додумать, потому что уснул.
Глава 17. Начало
1980 год
Гриша Астафьев начинал жить, как все люди. Были у него папа и мама, и Гриша, наверное, когда-то любил их и хотел жить, как они. «Наверное» – потому что точно Гриша этого как-то не помнил. Ну, были родители… Не могло их, болезных, не быть. Но почему-то помнил их Гриша плохо и в основном смешными, а вовсе не такими, которым хотелось подражать. Помнил, например, отец возвращается нетрезвым после чьего-то дня рождения, и в коридоре никак не может попасть ногой в тапок, все промахивается. Запомнилось взволнованное, красное лицо матери, когда неожиданно позвонили, и мать металась по их двух комнатам, искала халат – до того мать стояла у плиты в нижнем белье и в комбинации.
Запомнились лица родителей и после того родительского собрания… Того, на котором обсуждалось поведение недостойно ведущего себя октябренка Гриши Астафьева. Что тогда учудил Гриша? Он не помнил, а вот выражение лиц – помнил.
Но интересное дело! Запомнились они плохо, и притом именно такими словами: отец и мать. Никогда не вспоминал о них Гриша, как о папе и маме, и уж конечно, никогда не испытывал к ним особо теплых чувств.
Тем более как-то слабо помнил Гриша о том, что его родители имеют имена-отчества, какие-то работы и места в жизни, совершенно независимые от него, Гриши. Думать о себе как о Григории Васильевиче Гриша был совершенно не способен.
Скорее всего потому, что очень скоро Гриша начал жить вовсе не так, как все остальные люди. Все люди удивительным образом знали, что они должны делать, куда ходить и чем заниматься, а вот Гриша понять этого не мог. Это отделяло от людей.
Все дети должны ходить в школу…
А если он, Гриша, не хочет ходить в школу? Что тогда? А он, что тут поделать, не хотел.
Все дети должны слушаться папу и маму.
А если он не хочет их слушаться? Гриша папу с мамой считал не очень умными людьми уже классе во втором и в третьем. И что тогда? Все равно слушаться?
Все должны переходить улицу в положенном месте.
А если он не хочет переходить ее в положенном месте? И вообще не хочет ее нигде переходить?
Нет, ну почему он все время должен что-то и кому-то?!
Мало того, что Гриша должен был что-то делать – ему предписывалось еще что-то чувствовать. Он должен был любить папу, маму, дедушку с бабушкой (их он совсем не помнил), кота Пушка, стихи Пушкина и советскую родину. А не любить он должен был хулиганство, получение двоек, американских империалистов и немецко-фашистских захватчиков. Какого черта?! С каких щей кто-то предписывал ему что-то или кого-то любить, не любить, и вообще какие-то чувства по какому-то поводу испытывать?!
Старшие обычно как-то и не сомневались – Гриша чувствует как раз то, что ему, советскому октябренку, полагается. Потом-то они убеждались, что ничего подобного он и не собирается чувствовать, но и после этого открытия старшие решительно ничему не могли научиться. Они так и не задались вопросом, почему, собственно, Гриша обязан не только поступать, но и переживать по их указке. На лицах старших отражались недоумение и ужас, они просто отшатывались от Гриши, так ничего и не поняв.
В десять лет Гриша как-то задумался – а почему не делают котлеты из котов? Интересно, думал Гриша, а что, если сделать котлеты из Пушка? На вопросы, заданные отцу и матери, мать просто пугалась и начинала рассказывать, какой Пушок хороший и красивый, как его должно быть жалко. Опять дурацкое «должно быть»! Ну почему, почему ему должно быть жалко Пушка? Или матери, если на то пошло?
У отца весело округлялись глаза, он начинал рассказывать, что котов не едят, они несъедобные, котлеты вкусные из коров и свиней… И получалось, что старшие так и не отвечают Грише на важный для него вопрос.
Оставалось ответить на этот вопрос самому. Гриша неплохо подготовился, и вроде бы у него все было необходимое. Но Пушок не сразу умер от удара молотком, он страшно кричал, пока Гриша все-таки перерезал ему горло и спускал кровь. Григорий испачкался еще до того, как начал снимать с Пушка шкуру, кровь залубенела на рубашке и штанах, промочила одежду до трусов.
Гриша перекручивал мясо Пушка в мясорубке, пытался делать котлеты, жарить их на сковородке, и все больше убеждался – к опыту он подготовился не до конца. Делать котлеты надо с панировочными сухарями, и Гриша приготовил сухари. Но вот соли он не заготовил, пришлось бежать в магазин, а там от него одни шарахались, боясь испачкаться, другие попросту пугались уже самого залитого кровью мальчишки.
– Каво зарэзал? – весело прокричал Грише кавказский человек, таскавший мешки в магазине. – Савсэм зарэзал, или нэмного живой-мертвый дэлал, да?
Тетка за прилавком засмеялась, но как-то все-таки испуганно.
Гриша знал, что для поджаривания котлет необходим жир, изо всех сил старался положить нужные специи, но вот что котлеты начнут приставать к сковородке, разваливаться на части, оказался совершенно не готов. А они разваливались, подлые, Гриша чуть не заплакал, потому что не знал, что тут можно вообще поделать. Он уже почти приготовил котлеты…
Но этих котлет Гриша не попробовал, и прошли годы, прежде чем он узнал вкус котлет из кошатины. Потому что в сарае появился вдруг папа, и теперь уже Гриша испугался, увидев папино лицо. Вокруг сарая стояла небольшая толпа, в основном из мальчишек, Гришиных знакомых и приятелей, и все молча смотрели на Гришу. Гриша навсегда запомнил, как вел его домой папа, и как потом папа велел ему самому снять штаны. Было унизительно, обидно, но почему-то еще и интересно. Сама порка была тоже унизительной, под конец больно было совершенно невыносимо, но и в ней было что-то интересное!
Было интересно уже то, что папа потом пил валидол, мама во время порки убежала в кухню и уже убегая, зажала уши руками. А потом, когда Гриша уже лежал в постели, принесла ему большущую конфету; по лицу мамы было видно: мама его жалеет. То есть так получается, мама считала, что папа поступает правильно, что Гришу и надо выпороть… Но она не могла этого видеть и слышать, а потом принесла Грише конфету в кровать, утешала… Гриша не понимал удивительной логики взрослых.
А когда мама перестала его утешать?
История с Пушком дала Грише сразу несколько уроков, и Гриша их старательно усвоил. Самый главный урок был: в мире много чего надо уметь. Хочешь убить – научись! Хочешь жарить котлеты – научись! А особенно важно, как выяснилось, научиться скрывать то, что ты хочешь делать… Особенно если твои желания пошли вразрез с тем, что и как остальные считают, ты должен делать и хотеть.
И еще… Еще Грише стало интересно – а какие котлеты могут получиться из папы?
В двенадцать лет он с любопытством наблюдал, как собираются бичи у сараев. Бичи вроде бы были свободнее всех остальных людей, и уже тем необычайно интересны. Странно… Если они так свободны – могут не мыть рук, не ходить в школу или на работу, не обязаны говорить правду и вообще никому ничего не должны… Почему же они так убого используют эту свободу? Почему у них такие грязные одежды, почему они мочатся под себя и почему у них лица людей, для которых все кончено? Неужели же нельзя иначе?
В тринадцать лет Гриша ушел из дому в первый раз – собственно, он не собирался уходить навсегда, он просто хотел посмотреть, как можно устроиться жить, как бичи, но при этом куда интереснее. Гриша присмотрел для себя громадный дом, куда можно уйти – общежитие огромного завода. Этот месяц дал ему куда больше уроков, чем приготовление котлет из Пушка!
За этот месяц Гриша вывел для себя важнейший закон: одним дают пищу, другие ее зарабатывают. Почему он, Гриша, должен быть среди тех, кто выслуживается перед другими, получая еду от тех, кто сильней?!
За этот месяц Гриша понял и то, почему люди делают не то, что они, может быть, и хотят. Потому, что они получают еду, и деваться им, дуракам, некуда! Приходится им делать и даже чувствовать то, что им приказывают другие…
В конце концов, все кончилось буднично до ужаса: пришел милиционер и отвел Гришу в отделение милиции, а оттуда папа отвел его домой. В этом тоже содержался свой урок, потому что неизвестно, сколько Гриша мог жить в общежитии, если бы его не выдали. Гришу выдал парень его лет, с которым подрался Гриша и расквасил ему нос. Он, этот парень, увидел объявление, что мол, разыскиваются пропавшие… на объявлении была фотография Гриши, и парень воспользовался случаем отомстить, «заложить» Гришу. Чем не урок?!
Всего же уроков этого месяца было четыре, если считать основные.
Во-первых, людей держит вместе, заставляет быть послушными еда; во-вторых, никто никому ничего не должен; в-третьих, людям доверять нельзя; если они о тебе что-нибудь знают, это опасно; люди легко могут тебя предать. И в-четвертых, обмануть людей очень легко.
Отец потом ходил по общежитию, расспрашивал людей… Он был так поражен этим месяцем жизни сына, что буквально не знал, что с ним делать. Отвел домой, а сам ушел в общежитие, «разбираться». Вечером папа зашел в комнату Гриши, и Гриша уже внутренне напрягся. Но вид у папы был вовсе не грозный – ошарашенный.
– Что, так и будешь сбегать? И что хорошего получится?
– Надо будет, и буду бегать.
Гриша вдруг понял – папа сам не знает, что делать. Он заранее, пока сидел в комнате, приготовил себе сапожное шило… На всякий случай. И теперь у него, взявшегося за шило, вид был вызывающий, уверенный в себе. Пройдет много времени, и Гриша будет хорошо знать – никогда тебя не возьмет никакой зверь, если ты уверен в себе и если ты считаешь себя сильнее и умнее зверя. Даже медведи, с которыми столкнется на тропе Гриша… Григорий Васильевич, станут уступать ему дорогу. Так и люди – если ты встал не просто с ножом в руке, а вооружился уверенностью – еще шаг, и я тебя, мужик, убью – тогда любой свернет с твоей дороги.
Тогда папа дал еще урок, первый из уроков этой серии: папа помялся и, ничего не сказав, опустил голову, быстро вышел из Гришиной комнаты. Гриша вслед ему подумал еще раз – а правда, какие котлеты получились бы из папы?
Назавтра Гриша вышел из своей комнаты поутру, и мама тоже ничего ему не сказала, только посмотрела испуганно.
Вообще-то Гриша пришел к выводу, что совсем уходить ему рано, и даже вообще не имеет особого смысла. Зачем уходить, если уйдя, должен будешь сам воровать и зарабатывать, а дома тебе дают котлеты с макаронами и суп? И зачем уходить, пока нет ответа на важные вопросы, да к тому же нет умения жить самому? Не подготовившись, как надо, котлет из Пушка не попробуешь!
Гриша даже продолжал ходить в школу, расплачиваясь этим за право поступать по-своему хотя бы в каких-то вопросах. Чтобы к нему не приставали, не мешали ему жить так, как он хотел бы. Ну например, чтобы он мог раза два в неделю в школу все-таки не приходить, и уроков почти не готовить. Он мастерски научился придавать своему лицу не то выражение, какое ему хотелось, а такое, какое должно было у него быть, по мнению этих болванов. И вести себя так, чтобы не задавали лишних вопросов, как все. Гриша даже сдал экзамены в школе и вступительные в институт.
В этом была несвобода – в этой стороне Гришиной жизни, но такая несвобода давала больше свободы, чем любая другая, ему так было проще и удобнее.
Еще в школе с Гришей и познакомился старый, много лет сидевший вор Иван Тимофеевич по лагерной кличке Ермак. На первый взгляд был Иван Тимофеевич маленький тощий старичок в кожаной кепочке с таким же кожаным помпончиком, в старом свитере и засаленных брюках, со сморщенным прокуренным лицом. Раза два Ивана Тимофеевича «дергали» и проверяли «органы», выясняя, почему это к нему ходят всякие сомнительные подростки?! Подростки и впрямь начинали иногда называть друг друга кличками, проникались духом блатной «романтики» и порой начинали вести себя совсем не так, как должны себя вести хорошие мальчики.
Но всякий раз Иван Тимофеевич оказывался чист, потому что подростков не спаивал, никаких черных дел не готовил, из своего прошлого рассказывал только то, что рассказывать можно и даже похвально: к каким неприятным последствиям приводит нарушение закона. И если малолетние балбесы шли по нехорошей дорожке, Ермак тут был совершенно ни при чем, он даже предупреждал этих мальчиков, что нарушать закон нехорошо.
Но кто-кто, а уж Гриша точно знал, что внутренняя сущность Ивана Тимофеевича несравненно более увлекательна и интересна, чем это кажется взрослым! В том числе и чем кажется милиции!
Взрослым небось думалось, что Иван Тимофеевич интересен Грише потому, что «развращает» парня, дает ему вина или курева… И была это полная неправда, потому что во-первых, ничего подобного Иван Тимофеевич Грише никогда не давал. Во-вторых потому, что будь необходимость, Гриша и сам достал бы все, что ему надо. А в-третьих, Гриша не любил всего, что дурманит и мешает думать: думать было слишком интересно.
Иван Тимофеевич порой прикармливал Гришу, когда тот исчезал из дому на сутки и на двое. Больше папа не подавал в милицию на розыск, но и еды у Гриши в это время не было. А Ермак готов был дать денег, еды… даже без отдачи, но Гриша старался отдавать.
Но главное – старый вор духовно окормлял Гришу, раскрывал ему более и более широкие горизонты. В сущности, что знали о жизни, где бывали и в чем участвовали те, кого знал Гриша? И папа, и все вообще взрослые дяди не знали, можно сказать, ничего, не бывали нигде и не участвовали ни в чем, кроме своей работы да семейной жизни. Кто из них бывал дальше Сибири? Почти никто, а если и бывали, то ходили там, где им велели другие – по тропинкам курортов, по территориям профилакториев, да по местам жительства родственников – по таким же точно жилым коробкам, кирпичным или панельным.
Да ничего они толком не знали!
Ермак бывал там, видел то, о чем не имели никакого представления все остальные. В мире, где жил Иван Тимофевич, известно было, как пахнут первые таежные проталины, и что такое «зеленый прокурор» [11]11
«Зеленым прокурором» называли уголовные весну, когда происходила основная масса побегов.
[Закрыть]; как надо разжигать костры в сырую погоду и как «отрываться» от погони, при каких обстоятельствах волки могут нападать на человека и почему на допросах нельзя рассказывать лишнего.
Все жили «как все», а вот Ермак жил не как все, он жил несравненно интереснее! Молодость тянется не к заурядности; молодости интересно как раз нестандартное и необычное. Не первый из сынов человеческих, Гриша тянулся к носителю этого особенного опыта.
Все вокруг считали, что человек должен работать больше руками, чем головой, считали смешными все вопросы, выходящие за пределы самых простых интересов. Ермак же и сам не считал глупостью задавать вопросы о том, зачем человек живет на земле, почему все считают, что надо быть кому-то должным, и можно ли жить по-другому. И не считал дураками тех, кто тоже задавал эти вопросы.
Это в кругу папы полагалось презирать «слишком умных». Но даже пятнадцатилетний Гриша понимал цену этому презрению. Право же, неуютно пришлось бы папе и людям его круга, сумей они понять, как относится к ним подросток.
А еще Ермак давал Грише книги. Это были не книги про подвиг строителей Красноярской ГЭС или про войну и немцев – это были книги по философии; книги тех, кто как раз и думали над серьезными вопросами: Габриэле Д'Аннунцио, Ницше, Шопенгауэр и так далее.
Правда, тут возникала загвоздка… Иван Тимофеевич считал, что высший шик и признак превосходства над «лохами» – выйдя на «дело», обсуждать философские вопросы, не спеша на ходу покуривая папироску. К этому он и готовил парня, который показался ему перспективным.
А вот Грише как раз «дело» вовсе не казалось таким уж страшно интересным. Гриша вовсе не хотел менять одну несвободу на другую, пусть более романтичную. Вот иметь время, чтобы читать и думать, чтобы не тратить время на зарабатывание денег… Вот для чего надо быть свободным! Пока Гриша не видел, зачем ему уходить из дома, начинать жить другой жизнью или совершать что-то такое, после чего можно очутиться в местах, где провел всю свою молодость Ермак.
В призрачной реальности своей жизни Гриша окончил институт (позже не помнил, как называлась специальность) и пошел работать инженером на какой-то завод. Название завода почему-то запомнилось – Судоремонтный. Зачем оно запомнилось? Неясно. Может быть потому, что с этого завода не брали в армию? Туда Грише хотелось еще меньше, чем в лагеря; потому, наверное запомнился и завод-спаситель, не иначе.
Но конечно же, настоящая жизнь Гриши была абсолютно не в этом. Книги, интересовавшие его, издавались крохотными тиражами. Их надо было «доставать» на книжных толкучках или делать копии… а множительная техника тоже находилась под контролем, свободного доступа к ней не было. Ермак все старел эти годы; все чаще Гриша сам договаривался на заводе о том, чтобы что-то перепечатать.
В этой настоящей жизни можно было говорить о вещах, совершенно непостижимых для папы (папа тоже постарел и стал употреблять много портвейна) и других болванов с Судоремонтного завода… и с других заводов.
В жизни, которую считали для него главной начальство и участковый, Гриша приносил домой ползарплаты. В ней мать молча кормила его, а папа старался сесть за стол позже странного сына и не встречался с ним глазами.
В жизни, которую считал главной сам для себя Гриша, главным в жизни было думать, доставать и читать книги, беседовать и спорить, пытаться самому ответить на главнейшие вопросы.
И еще в жизни была Свобода… Свобода манила, с каждым годом манила все больше. По мере того, как шли годы. Гриша освобождался от всего, что делало его рабом – от привязанностей и от всего, что хотели навязать ему другие. Но освобождался он только в собственном сознании, в теории. Освободиться в жизни, которую большинство людей считали основной, Гриша не считал разумным: ведь тогда, после краткого торжества свободы, его сделали бы еще более несвободным, чем раньше. Позже он считал потерянными по крайней мере половину из первых двадцати восьми лет жизни, но понимал – тогда он не мог бы иначе, прожитое даром было совершенно неизбежно.
Немного больше свободы можно было найти на «Столбах». Столбами называются выходы скал на правом берегу Енисея. Совсем близко от Красноярска, их видно прямо из города! Скалы причудливых форм, интересные; многим дали свои названия уже в XIX веке. Это старая красноярская традиция – «столбизм» – традиция выезжать в выходные дни на Столбы, лазить по скалам или просто провести день или два дня не в городе.
Папа с возрастом стал ходить на «Столбы», брал с собой старшеклассника-сына. Взрослые с четверга говорили о «столбах», в пятницу вечером дружно толкались в автобусах, чтобы ночевать уже в избах – длиннющих, как бараки, выстроенных такими вот компаниями столбистов.
Разжигался костер, пелись песни, плескалась водка в железных кружках, люди радовались жизни, как могли. Люди общались; они знали друг друга много лет, они были друг для друга «своей стаей». Лица у них становились все краснее, языки все сильнее заплетались; всего этого Грише было совершенно не надо! Спать в теплой сырости избы, вдыхать воздух, сто раз прошедший через легкие других, Гриша тоже совершенно не хотел.
Вечером в воскресенье народ собирался домой. Мало кто из этих людей поднялся по скале или прошел хотя бы километров двадцать по тайге. Вырвались из города – и хорошо!
Гриша попал в число немногих, кому надо было не «вырваться», надо было и впрямь уйти в дикий лес, в глухие горы. Гриша уходил за пять, за десять километров, поднимался на острые хребты сопок. Вот это была свобода! С неба сваливался порывистый, рвущий лицо и волосы ветер, открывались горизонты на 30, на 50 таежных верст, синели вдали отроги Саян. Вокруг не было людей – а они изрядно надоели Грише; ну их! Орут, болтают, только мешают думать, и не говорят ни о чем важном.
Раза два Гриша слышал в малиннике топот, короткий всхрап. Порой заяц бросался из травы со страшным шумом, большие черные птицы неторопливо проплывали меж стволов. К близости зверья надо было привыкнуть, чтобы оно не мешало. Гриша привыкал и к комарам, к холодным вечерам, бездорожью: таежные неприятности стоили того, чтобы преодолеть их – и сделаться свободным до конца.
Как и везде, если хочешь чего-то – надо уметь. Гриша учился ходьбе, палаткам, рюкзакам, топорам, спичкам…
Еще студентом Гриша стал ставить палатку, ночевал вдали от вони и непокоя изб, где до утра ворочались и бормотали, отравляя сивухой чистый воздух. В эти ясные вечера посреди леса, совсем один, Гриша становился почти свободным.
Но именно что «почти», и Столбы оставались лишь отдушиной: ведь приходилось возвращаться. Гриша был свободен двое суток, а на третьи становился несвободен.
Грише шел двадцать восьмой год (давали ему смело тридцать), когда старый вор Ермак допустил серьезную ошибку: познакомил Гришу кое с кем… Со своим другом и подельщиком, соратником в былые дни, ныне упавшим ниже некуда и обитавшим ныне вне цивилизованного мира. Рассказав пару историй с участием Фуры, Иван Тимофеевич повел Гришу на кладбище – туда, где на кладбище была выкопанная полулюдьми нора для жизни в теплое время года.
Ах, как просчитался старый вор Иван Тимофеевич по кличке Ермак! Он-то, устав от нерешительности воспитанника, хотел положительного примера для Гриши… Примера вора, который не хотел признавать закона, а вот теперь живет в норе, и неизвестно где будет жить, когда начнутся морозы; мог бы жить в Сочи, как уважаемый человек, между прочим! И жил бы, если бы признавал воровской закон.
Ермак просчитался уже потому, что Гриша вовсе не хотел жить жизнью бродяги, отталкивать его от такого опыта и не было необходимости.
Фура понравился Грише: он читал Шопенгауэра без словаря и знал то, о чем не имели ни малейшего представления большинство жителей Красноярска. Но был Фура грязен и дик, с запавшими безумными глазами; Гриша совсем не хотел становиться таким же.
Папа и люди его круга жили чисто и сыто, но не имели никакого представления о Шопенгауэре. Папа тратил всю жизнь без остатка на зарабатывание еды, и к тому же был настолько глуп, что презирал тех, кто его умнее. Так Гриша тоже не хотел жить.
Вот сочетание свободы и умения читать философов, думать, тратить жизнь на интеллектуальный пир – вот это было интересно! Но ни бичи, ни папа и другие люди его круга так не умели, и учиться было не у кого.
Ермак не советовал Грише поддерживать плотные контакты с Фурой и часто бывать на кладбище. Ну, увидел отрицательный пример, и хватит с него! А Гриша как раз очень хотел общаться с Фурой! Он был ему страшно интересен, – потому что много знал, во многих местах бывал и к тому же много читал и думал о прочитанном.
К тому времени Гриша жил временами дома, временами у Ермака. Отец махнул на него рукой, мама сделалась тихая, грустная и тоже не приставала. Раньше Гришу раза два таскали в милицию, требовали учиться, жить только дома, не водиться с ворами. Гриша понял, как надо делать и что говорить – что учится, водится вовсе не с ворами, а с хорошим человеком, папу слушается и потом, после школы, будет учиться в Технологическом институте. И в милиции тоже отстали.
Если можно назвать его домом папину квартиру, то квартира Ермака стала давно вторым домом. Теперь, в это лето, у него появился третий дом: нора, в которой жил Фура и его выкормыш, преданный ему подросток Васька. Фура дал новые уроки, и они стоили прежних!