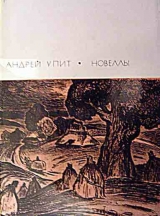
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Андрей Упит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 50 страниц)
Он бессмысленно повторял про себя это ничего не значащее слово. Наконец, что-то, словно извне, заставило его заговорить:
– Каково твое последнее желание, сын мой?
Веревка так закачалась, будто ее с силой отбросила чья-то невидимая рука.
– Если ты хочешь помолиться со мной богу, то преклони колени, сын мой.
Заключенный был уже освобожден от цепей, но стоял так, словно ноги его были прикованы к камням.
– Может быть, ты хочешь послать прощальный привет своим близким? Я могу передать им…
Священник осекся на полуслове и вдруг хрипло вскрикнул. Сбоку, из тени грузовика вынырнул человек, который ехал вместе с ним. Теперь он был без шляпы. Голову его покрывало что-то вроде монашеского капюшона. Одет он был в какое-то мерзкое, плотно прилегающее к телу желтое одеяние, – словно змея, только что сбросившая старую кожу. Вынырнул из тени, засучивая узкие рукава, – ясно видны были его жилистые руки, до самых пальцев заросшие черными волосами.
Лохматый, как видно, не понял жеста священника. А может быть, и сам не сознавал, что делает. Только он вдруг выпрямился, схватил обеими руками, точно клещами, руку священника, потянул ее и, как перепуганный ребенок, прижался к нему. Он что-то шептал, всхлипывал, пытаясь сказать что-то, и это что-то вырывалось из него, как пар из открытого котла. Горячие капли падали священнику на руки.
А желтый все приближался, продолжая засучивать рукава. Тогда священник, будто ему самому грозила опасность, снова вскрикнул изменившимся от страха голосом. Стоявшие поодаль люди мгновенно обступили их.
Лохматого схватили и поволокли прочь. Священник стоял на том же месте, все еще болезненно ощущая пожатие железных рук. Никогда здесь не было так светло. Впервые он увидел, как их волокут, как им заламывают руки за спину и стягивают веревками. Впервые он ясно слышал, что это они выли по-звериному, пока им не зажимали ртов и не заставляли замолчать навсегда.
Врач положил священнику руку на плечо, с силой встряхнул.
– Зачем вы смотрите, если нервы не выдерживают? Идемте.
Священник отошел в тень автомобиля, – больше здесь негде было укрыться. Он больше не владел собой. Когда он еще раз обернулся, лохматый был уже высоко в воздухе, почти под самой поперечиной. Ноги у него дергались, как у петрушки, все тело корчилось, будто сквозь него пропускали гальванический ток. Потом желтый ухватился за что-то, и столб заскрипел.
Больше священник ничего не видел. Он сидел в тени автомобиля, прислонясь затылком к резиновой шине. На откосе кое-где поблескивали песчинки. На другом берегу реки мерцал желтый огонек.
Тяжело дыша, врач отпрянул от автомобиля, к которому было привалился.
– Меня зовут. Значит, готово. Теперь и вы можете идти.
Когда священник встал, толпа уже поредела. В передний грузовик втаскивали что-то, видимо, невероятно тяжелое. Потом оба грузовика уехали. Осталось только шесть пассажиров и два шофера легковых машин.
Рядом стояли комендант тюрьмы, его помощник и человек в шляпе, ехавший вместе со священником. Тот, который вынырнул из тени, обнажая волосатые руки… Как огромная желтая летучая мышь, он вцепился в повешенного, так что затрещал столб и, может быть… еще что-то.
Теперь он опять был в сером пальто с поднятым воротником, в надвинутой на глаза шляпе и стоял спиной к луне. Но это был он – священник узнал бы его в тысячной толпе.
Помощник коменданта плашмя держал в руках портфель. Кивнул человеку в шляпе:
– Обратно в канцелярию вы не поедете. Идите распишитесь.
Комендант посветил им электрическим фонариком. Священник снова увидел заросшую волосами до самых пальцев обезьянью руку и блестящее автоматическое перо в ней. Освещенный фонарем, показался неестественно длинным выступающий вперед подбородок старой ведьмы. Показался и тут же спрятался, будто обожженный холодным светом.
– Извольте получить деньги.
Обезьянья лапа долго шарила по гладкой коже портфеля. Священник смотрел, затаив дыхание, Одна стершаяся монетка выскользнула из ладони и покатилась по земле. Серый присел и потянулся за ней… Нет! Здесь это было или еще где-то? Священник потер ослепленные лунным светом глаза.
Рядом были только комендант и его помощник – даже электрический фонарик ему померещился. Луна заливала откос спокойным желтоватым светом. Врач, тяжело дыша, направился к автомобилю.
– Садитесь! Здесь становится прохладно.
Он закутался в плед и откинулся на спинку сиденья, отставив в сторону горящую сигару. Священник не в силах был отвернуться. Машинально сел рядом с доктором, но смотрел он туда, где виднелась тень веревки, ставшая теперь заметно короче. Она быстро скользила по буграм и ямам, словно все еще раскачиваемая невидимой рукой.
Гул двух моторов на минуту оглушил священника. Умолк вой убиваемого зверя, все время стоявший у него в ушах. Когда автомобиль свернул вниз по склону, исчезла страшная раскачивающаяся тень. Но когда проехали немного вперед, дорогу вновь пересекла тень черной руки, качнулась и снова исчезла. И еще раз качнулась и опять исчезла.
Священник съежился в углу и закрыл глаза. «Скорее! скорее!» – кричал в нем каждый нерв. Но автомобиль ехал нестерпимо медленно, и черная рука тени ощупывала его. Глаза священника были закрыты, в ушах раздавался гул мотора, машину трясло, но где-то в самой глубине сознания ярко запечатлелись образы увиденного и услышанного – живые, болезненные, остро ощутимые.
В аллее тени листвы вязов испещрили палевую от лунного света дорогу. Тени были нежные, узорчатые. Мирно бегущими волнами скользили они по ветровому стеклу машины и, словно играя, разрисовывали руки и лица едущих. Они не прогнали, не потревожили видений священника. А он стискивал зубы и так крепко сжимал веки, что заболели глаза.
Вдруг машина остановилась. Они подъехали к бывшему монастырю. Фонарь над воротами далеко разливал синеватый свет. За освещенным пространством виднелись темные линии городских улиц.
Подошел комендант.
– Вы, конечно, не зайдете к нам. Благодарю за сегодняшнюю работу.
И он пожал всем по очереди руки. Сначала врачу, тюремному священнику, потом… Священник отшатнулся. Третий ведь снова сидел на своем месте, укутавшись в серое пальто, пряча лицо под полями шляпы. Его колени прижимались к ногам священника, и от них исходило дружеское тепло.
Снова заработал мотор. Но священник не мог ехать дальше. Он распахнул дверцу и выскочил из машины.
Разбуженный врач сонно проворчал:
– Куда вы? А, хотите прогуляться по свежему воздуху! По правде говоря, в такую чудесную ночь маленький моцион не повредит. К тому же я живу в двадцати шагах отсюда.
Он тоже вылез из машины и зашагал рядом со священником. Потом взял его под руку.
– Постойте, постойте. Я не могу так быстро. Да и куда нам спешить? После ночной работы мы свободны до полудня.
Священник ничего не ответил. Он слышал только звуки его голоса. Что-то беспощадно, неумолчно и все громче шумело у него в ушах, словно разлившаяся черная река.
Врач указал пальцем:
– Взгляните на эту экзотическую панораму. У какого-нибудь художника, какого-нибудь полусумасшедшего кубиста получилась бы престранная картина.
Священник и сам видел. Луна была где-то сбоку и почти позади. На белую спускающуюся под гору улицу падали резко очерченные тени домов. Черные треугольники, ромбы, круги, а поперек тянулся от башни святого Христофора тонкий штык с крестом на конце.
Но священнику весь этот хаос пятен казался только фоном, на котором он видел нечто другое – свое. Одна тень глубоко врезалась в его мозг. Она росла и становилась все ужасней. Она была длинная и тонкая, она тянулась через весь город, и на конце ее извивался отвратительный комок. Вдруг она повернула в обратном направлении, достигла его головы и замелькала перед глазами.
Священник крепко прижался к руке врача. Тот заглянул ему в лицо.
– Что с вами, коллега? Мне показалось, что вы дрожите. Уж не простудились ли вы? Хотя я не понимаю, как это возможно в такую ночь.
Немного погодя он добавил:
– Знаете, что мне пришло в голову? Я живу здесь рядом – зайдите ко мне на минутку. Выпьем по чашке кофе, поболтаем. Когда у человека столько всего накопится, хочется облегчить душу.
Он повел коллегу по узкой лестнице на второй этаж, в свою холостяцкую комнатку. Вскоре на столе уже стояла никелевая кастрюлька с душистым кофе. Но священник не стал пить. Он сидел, тупо уставясь глазами в пол.
Доктор начал сердиться.
– К черту! Будьте вы хотя поучтивее с хозяином дома. С вами прямо уснешь. Постойте! Вы что-то бледны, и глаза у вас подозрительно блестят. Сейчас проверим.
Он пощупал священнику лоб, послушал сердце, стал считать пульс.
– Нет, жара у вас нет. Вы как будто совершенно здоровы.
Посмотрев задумчиво на гостя, он вдруг хлопнул себя по лбу.
– А. понимаю. Это у вас давешнее засело в голове. Конечно, повесить человека не так-то просто. По совести говоря, это следовало бы поручать только таким старым воякам, как я. Вы для таких дел еще слишком зелены.
Осушив три объемистые чашки, он зевнул.
– Советую вам не принимать это близко к сердцу. В каждой профессии требуется привычка, и со временем она появится. До вас мы вешали каждую ночь, и часто по пять штук сразу. Прежний священник был тоже холостяк, и мы с ним каждую ночь после этого разыгрывали партию в шахматы.
Он еще раз зевнул и встал из-за стола.
– Я ложусь спать. И вам советую сделать то же самое. Вон на той кушетке лежит одеяло и подушка. Давайте-ка на боковую. Домой пойдете утром, когда рассветет.
Через четверть часа он уже храпел на всю комнату. Лампа была завешена плотной тканью. В полутьме на полу ясно виднелось падавшее от окна светлое пятно. На нем перекрещивались темные тени рамы.
Потом они стали вытягиваться в одну длинную черту. Протянулись через всю комнату, поползли по стене и стали раскачиваться, как давеча за городом, как всю эту ночь…
Тюремный священник схватился за голову и, шатаясь, пошел к двери. Кто-то уверенно вел его вниз по темной лестнице. На улице он заметил, что кто-то шагает рядом, исчезая на миг в хаосе теней, то снова появляясь в палевом свете луны.
Конечно, это был врач. Священник тут же начал спорить с ним.
– Что означают, доктор, ваши слова: повесить человека не так-то просто? Вы же не хотели этим сказать, что и я…
Спутник ответил охотно и даже раньше, чем священник успел докончить фразу.
– О, именно это я и хотел сказать. И вы, и я, и все мы. Не станете же вы отрицать, что каждый из нас участвовал в этом. А вы еще деятельнее, чем я. Это наша служба, и за нее мы получаем жалованье.
Кто-то застонал, прислонившись к белой стене. Может, сам же тюремный священник, но это было трудно понять.
Кто-то шептал запекшимися губами:
– Я не могу после этого играть в шахматы… Не могу я!
Когда священник обернулся, врача рядом с ним уже не было. Не было и его собственной тени. Рядом шагал комендант тюрьмы. Священника разбирал неудержимый гнев.
– Какое вы имеете право оскорблять меня? Вы подряд жали руки – и мне и той гадине…
– Не мое дело судить, кто из вас гаже. Только оба вы – мои помощники. Я джентльмен и считаю своим долгом после окончания работы пожать вам обоим руки.
Нет – это был не комендант, это был его помощник. Священник накинулся на него.
– Как вам не стыдно платить мне так же, как и тому… тому… именем которого я боюсь осквернить свои уста!
– Чего вы от меня хотите? В нашей тюрьме бухгалтерия всегда была поставлена образцово – после ревизии государственный контроль даже отметил это в официальном бюллетене. Кроме того, вы получаете по пятой, а он только по двенадцатой категории. Мне кажется, вы не имеете никаких оснований жаловаться на какое-то унизительное равенство между вами. Разве вам не нужны деньги? Вы помогаете своему отцу строить дом, учите сестру. Я-то знаю, каких расходов требует собственное хозяйство.
– Не приравнивайте ко мне его и себя! Я священник. Понимаете, священник!
– Я понимаю. Но и вы не забывайте, что все мы государственные служащие. И у него, несмотря на двенадцатую категорию, служебный стаж побольше вашего. Пятнадцать лет практики. А у вас? Ну, признайтесь сами! Ручаюсь, что вы и сотни не проводили на гору висельников.
Когда священник снова перевел дыхание, он увидел того, чье присутствие все время чувствовал рядом. Сгорбившись, пряча лицо под полями шляпы, он точно так же, как священник, поднимал ноги и так же размахивал руками. И заговорил он первым.
– Не сердитесь, коллега. Я слышал, с каким гневом и презрением вы говорили обо мне.
– Не подходи, гадина! Дьявол – твой коллега, и тебе давно уготовано место в аду.
– Весьма возможно. По правде говоря, я и сам в этом не сомневаюсь. Мое место там никто не займет. Но только если я попаду туда, то и вы со мной. Вместе работали, вместе отправимся и в ад.
– Отыди, говорю тебе! У меня с тобой нет ничего общего!
– Кроме общей службы и жалованья. Одному мне пришлось бы трудно, но вдвоем мы легко справляемся с этими парнями. Видели, как я ловко орудовал? А мое дело ведь только подготовить его бренную плоть к отправке за город на свалку. Вам приходится быть куда расторопнее. Вы же отсылаете его божественную душу по принадлежности – либо обратно к господу Саваофу, либо во владения его величества Люцифера… А еще говорите, что мы не коллеги!
Как острые осколки стекла, впивался его омерзительный, скрежещущий смех в уши священника. Зажав их ладонями и согнувшись, он бросился бежать от всех этих спутников. Другой, так же держась руками за голову и согнувшись, бежал рядом с ним в лунном свете, не отставая ни на шаг. Это было ужасно.
Но уже не один – десятки, сотни их неисчислимой толпой неслись рядом, путались под ногами, мелькали перед глазами. Нет, это были не тени вязовой аллеи. Священник видел и узнавал их лица.
Была среди них и эмигрантка из тюремной канцелярии. Бесстыдно задрав юбку, она прятала монету в чулок и укоризненно качала головой.
– Я продаю свое тело – каждому, кто готов платить за него. Но душу я никому не продаю. Она у меня надежно спрятана, она у меня чистая, она ненавидит и презирает моих жалких покупателей.
Она исчезла, а на ее месте появилась продавщица из соседней молочной. Она не остановилась, а побежала прочь от него, и откуда-то издали доносились ее испуганные крики:
– Спасите! Убийцы пришли ко мне в лавку!
Дворник повернулся спиной и сунул ключ в карман.
– Палачам я не отпираю! Я честный дворник!
Уличные мальчишки и девчонки прятались за углами и фонарными столбами и смотрели на него с ужасом и отвращением. А некоторые плевали в его сторону.
– Не ходи по нашей улице! Наша улица чистая.
Отец рвал на себе волосы, выбегая из нового дома.
– Я его сожгу! Он полон покойников и привидений.
Сестра срывала со стены дубовый венок и топтала его ногами.
– Для кого я плела этот венок! С него течет кровь.
Потом сотни призраков сбились в кучу, сцепились попарно, вскинули руки, судорожно задергали ногами. Они качались, словно подхваченные сильным ветром. Это была та самая сотня. Это были те, которых по одному привозили на гору висельников.
Потом все исчезло. Луна снова заливала своим бледным светом голую равнину и то, что осталось от человека, который когда-то был тюремным священником.
Рядом с ним медленно шагал еще кто-то. Но в нем не было ничего отталкивающего, ужасного, навязчивого. Добровольный попутчик, скорее друг, нежели враг. Лохматая голова приветливо склонилась, глаза влажные и ласковые, какие обычно бывают у крестьян.
И беседовали они, как друзья, связанные общей заботой.
– Я ждал вас, господин священник. Я знал, что вы придете.
– Мне кажется, что вы даже не сердитесь на меня.
– О, нисколько! Теперь больше не сержусь! Вы ведь не желали зла ни мне, ни остальным… Вы только были одурманены, вы были – как все люди вашей профессии. Не ведали, что творили. О моей душе заботились, а свою забыли. Теперь она проснулась и кричит. Она страдает, и поэтому я пришел помочь ей.
– Разве это возможно? Разве я могу еще жить после всего этого… после того, как она проснулась и увидела вокруг эти ужасные призраки?
– Жить? Нет, жить вы больше не можете. Это была бы не жизнь, а сумасшедший дом или ад. Зачем жить, когда жизнь все равно погублена? Есть другой путь, и вы его знаете.
– Мне кажется… я его знаю.
– Вот видите! Это так просто. И потом, это совершенно необходимо и неизбежно. Ну, вот мы и пришли. Ведь вам знаком этот столб с поперечиной? Прошел только час с тех пор, как вы отсюда уехали. Взгляните, как вяло раскачивается тень. Это потому, что она слишком легка. Этого нельзя допускать, к тому же этому легко помочь. Вы только встаньте на скамеечку, я вам помогу. Теперь я знаю, как это делают. Пожалуйста, господин священник…
Луна склонилась к западу. Зыбкая тень падала от столба с поперечиной, падала по склону горы на восток. Она снова скользила, словно раскачиваемая сильным ветром, и вместе с ней качалось тяжелое, густо-черное пятно.
1930

Рисунок 13. Лунные тени
ПОЕЗДКА ВИЛНИТА НА ВОСТОК
Из Москвы выехали вчера под вечер. Кажется, и сейчас день был на исходе. Солнца не было видно – оно осталось где-то за последними вагонами, потому что поезд шел на восток. Но на стеклах окон с левой стороны играл розовый отблеск ясного северного неба, и деревья отбрасывали длинные темные тени на скошенные и нескошенные луга. Разноголосый гомон поутих, только где-то за горами узлов, мешков, чемоданов, корзин и ящиков вяло хныкали и капризничали утомленные дневной жарой и суматохой дети.
Вилнит Лиекнис не хныкал и не капризничал. Он взобрался на правую лавку и, вцепившись обеими руками в опущенную до половины оконную раму, высунулся наружу. Пристроившийся по ту сторону прохода на поставленном ребром фанерном ящике дедушка время от времени напоминал ему, что на ходу поезда в глаз легко может попасть вылетевшая из трубы паровоза крупинка угля. Вилнит сделал вид, что не слышит, только крепко сжал губы. Он сердился, и не без основания.
Ему уже семь лет, никакие соринки в его глаза не попадут. К тому же прошлую ночь он плохо выспался. Его уложили на узкую боковую лавку, дед дремал на своем ящике, а бабушка прикорнула в ногах у Вилнита, так что невозможно было вытянуться. Несколько раз он крепко засыпал, когда поезд останавливался на какой-нибудь станции и вагон больше не трясло. Но тут каждый раз поднимался ужасный галдеж. Снаружи кричали, ломились в вагон, и в заставленный вещами проход пролезали всё новые пассажиры с огромными узлами, корзинами и мешками с инструментом, проезжались по лицу полами своих пальто. В открытую дверь дуло… Какой-то дяденька чуть не положил свой мешок на живот Вилниту, и они с бабушкой подняли шум, чтобы заставить его убраться в другое место. Колеса громко стучали, постланное на скамье бабушкино пальто было не особенно мягким, шея болела. А вскоре после завтрака начало припекать солнце, воздух между горами багажа накалился, было душно, вода в бутылке нагрелась и стала невкусной. А пить хотелось все время, – даже просто от злости и обиды при виде какого-нибудь малолетнего пассажира, который держал обеими руками кружку молока или нехотя отпивал лимонад из бутылки с красивой фаянсовой пробкой.
Вилнит имел все основания быть сердитым и вовсе не собирался скрывать свое настроение.
Долгое время поезд шел через лес из берез и молодых сосен и остановился на небольшой, но многолюдной станции. Чем меньше станция, тем больше народу и дольше стоит поезд. Эту истину Вилнит усвоил еще утром и теперь заранее нахмурился: нет ничего скучнее такого стояния на месте. Все, что может заинтересовать человека, уже через несколько минут исследовано и успевает надоесть. А потом ему ведь некогда, он должен ехать… ну, не все ли равно, как называется это место! Там его, конечно, ждет белая кроватка с сеткой по бокам. По утрам бабушка подсаживается к нему с книжкой и читает о пареньках села Замшелое, а одевшись, он идет в кухню – там на плите его ждет кружка горячего молока…
На перроне вертелся худой и чрезвычайно юркий человечек, а в руках у него был какой-то предмет, похожий на утюг. Уж не портной Букстынь ли это? Вилнит вспомнил его приключение на Круглом озере и чуть не рассмеялся. Нет, смеяться нельзя: он же рассердился, а сердитому смеяться не полагается.
Он обернулся. Что это там за шум? По другую сторону состава стояли два поезда. Около первого, пассажирского, суетились красноармейцы: одни выскакивали из вагонов, другие протискивались обратно с чайниками кипятку и ковригами черного хлеба под мышкой. Сколько таких поездов уже видел Вилнит! Дед сказал: они едут воевать с фашистами. Им некогда – потому они так спешат, громко разговаривают и смеются. Где-то дружно затянули песню, и Вилнит вспомнил отца. Он остался в Эстонии, чтобы воевать с гитлеровцами и выгнать их из Риги. Это было далеко и так давно… Он, дедушка и бабушка ехали да ехали и днем и ночью, все дальше на восток – по утрам прямо навстречу солнцу, а под вечер прочь от него.
За воинским эшелоном стоял товарный состав. У одного из вагонов, который виднелся в просвете, дверь была отодвинута, видны измученные, с запыленными лицами мужчины, женщины и дети. Особенно много было детей. Наверху, под самой крышей вагона, из люка выглядывали лохматые головы с усталыми лицами, полуоткрытыми ртами и пустыми, равнодушными глазами… Такие открытые двери и люки с выглядывающими оттуда людьми Вилнит видел сегодня на всех больших и маленьких остановках. Там тоже из вагонов доносился громкий или тихий детский плач, матери так же бегали с бутылками молока и фунтиками земляники в руках… Вилниту все это уже давно надоело.
Какой-то рыжебородый попытался высунуть в окно рядом с Вилнитом голову. Но Вилнит встал на цыпочки и растопырил локти. Рыжебородый ничуть не рассердился, только хлопнул его по плечу и усмехнулся.
– Совсем клоп, а такой жадный, – проговорил он на своем языке, протиснулся в соседнем купе к окну и все-таки просунул свою голову между двумя другими.
Немного погодя Вилнита коснулась другая голова. На этот раз он не растопыривал локти, а просто сделал вид, что не замечает.
– Не хочешь ли молочка? – спросила бабушка.
Вилнит не отвечал. «Нашла о чем спрашивать! Неужели сама не знает?»
Бабушка достала из корзинки бутылку с тепловатой водой и стала протискиваться навстречу счастливцам, возвращавшимся в вагон с бутылками молока в руках. Одной особенно повезло: она несла полную двухлитровую стеклянную банку и еще издали кричала своим, чтобы доставали кружку.
Вилнит видел, как, сойдя на перрон, бабушка торопливо вылила из бутылки воду и двинулась вперед. На станции осталась лишь одна молочница с полной четвертной бутылью. Ее мигом окружили пассажиры, оставшиеся без молока.
Бабушка исчезла в толпе, несколько раз мелькнул только ее клетчатый платочек среди множества других платков и шапок.
Неужели нельзя растолкать всех и первой получить молоко? Но разве женщине справиться одной с таким делом! Нет, без мужского совета даже здесь ей не обойтись. Вилнит оглянулся.
Дедушка, видно, увлекся беседой с каким-то седобородым соседом, у которого был только один глаз. Дед говорил, что он слыхал, будто фашисты уже в Минске, а одноглазый, стукнув себя кулаком по колену, кричал, что этого не может быть и никогда не будет. Так как оба спорщика имели весьма богатые познания в области стратегии и все пассажиры в купе прислушивались, вытянув шеи, к их спору, то о взаимных уступках не могло быть и речи.
Как щука в реке между корягами, так Вилнит прошмыгнул между чемоданами и ногами пассажиров и выскользнул из вагона. Однако пробраться к бабушке было не так-то просто. Хотя ее клетчатый платочек то и дело мелькал в толпе, но люди обступили молочницу такой плотной стеной, что не пробьешься. К собственной бабушке не пускают! Ну и не надо! Вилнит обиженно отвернулся и пошел взглянуть на мальчишку, который что-то кричал.
Маленький колхозник был до глубины души оскорблен тем, что его землянику кто-то назвал зеленой. Спелая-преспелая, а не зеленая! Прямо тает во рту, если, конечно, раскусить как следует. Зеленая у него дозревает на опушке и покраснеет только дня через три; во всяком случае, не раньше чем послезавтра. Эта же собрана на самой солнечной полянке, где днем с огнем не найдешь ни одной зеленой ягодки. А тут выискался умник и заладил: «Зеленая…» Пусть не берет, когда зеленая. Найдутся такие, для кого окажется спелой…
Вилнит языка не понимал, но тем не менее ему было совершенно ясно, о чем речь, потому что говорил не только рот незнакомца, но и руки, лицо и голова в старой отцовской шапке. Этот второй язык был всякому понятен – так, по крайней мере, решил Вилнит.
Со станции донеслись два звонких удара колокола. Вилнит в поезде не раз слыхал такой звон – не мешало бы пойти и разузнать, что это такое. Путаясь под ногами у бегущих людей, он пробирался к станции. На железном крюке висел на степе колокол. Тускло-желтый, на конце языка – шарик, а к шарику привязана длинная белая веревочка. Язык сам по себе неподвижен; должно быть, кто-то раскачивает его, дергая за веревку. А раз веревка свисает почти до земли, надо думать, что звонарь не особенно высокий. Наверно, какой-нибудь парнишка вроде Вилнита. Но такого нигде поблизости не видно.
Вилнит оглянулся в поисках звонаря и увидел, что мимо него поползли зеленые вагоны. Пассажиры толпились в дверях, стояли на подножках в ожидании, пока передние проберутся в вагон. Подобные картины Вилнит видел не раз… То ли дело колокол! Но звонаря по-прежнему не видно. А что, если дернуть за веревочку?
Но тут его руку схватила чья-то рука. Вилнит увидел незнакомого человека со значком на фуражке. Человек погрозил ему пальцем, что-то сказал, отвел немного в сторону и отпустил. Потом вернулся к колоколу и отбил два звонких удара. Теперь тронулся воинский состав и двинулся в ту сторону, откуда приехал Вилнит.
Но его поезд был ближе к станции – куда же он девался? И Вилнит увидел, как за поворотом медленно скрылась длинная зеленая цепь вагонов. Мелькнул последний, похожий на дедушкин сундучок вагон, но вот и он исчез за поворотом.
Случилось что-то такое, что не могло, не должно было случиться. Вилнит тревожно огляделся: где же бабушка? Но не было ни бабушки, ни толпы, в которой мелькал ее клетчатый платочек. Позвякивая порожними бутылками, повернула к станции молочница. Мальчишка, торговавший земляникой, отошел в сторону, достал из кармана смятые бумажки и, разгладив их, стал складывать в пачку. На перроне появились новые пассажиры с узлами, мешками и сундуками. Вилнит понял, что дело плохо.
Бежать по полотну нельзя – это он еще дома знал. Но по краю выемки шла ровная пешеходная тропинка, и Вилнит бросился туда. Перед ним открылся широкий вид на окаймленные кустарником и большими деревьями луга, поля, на поросшие лесом холмы. Поезд – теперь он выглядел почти таким же маленьким, как игрушечный поезд Вилнита в Риге, – обогнул невысокий бугор и скрылся. Только на порозовевшем предзакатном небе осталась полоса белого дыма.
Бабушка уехала без него, и дед тоже!.. К горлу подступил тяжелый ком, а глаза наполнились чем-то горячим. Вилнит прижал к глазам ладони и стоял так долго-долго. Он понимал, что бежать за поездом нет смысла. Ничего, бабушка приедет и возьмет его с собой. «Она приедет, приедет!» – пытался он убедить себя, но чувствовал, что не очень этому верит. Вилнит совсем не знал, что ему теперь делать.
Неподалеку раздались голоса. Муж, жена и двое детей шли по тропинке к станции. Все они были тяжело нагружены вещами, но парнишка со смехом перекинул свой узел с одного плеча на другое и, весело размахивая свободной рукой, стал что-то рассказывать… Ему хорошо смеяться – у него и папа и мама… Вилнит изо всех сил прижал кулаки к глазам, чтобы унять слезы, и свернул с тропинки. Он никогда не боялся чужих, но ведь раньше всегда где-нибудь поблизости были бабушка и дед… Из только что вытертых досуха глаз снова полились слезы.
Вилнит вышел на широкую, в глубоких рытвинах дорогу. Извиваясь сквозь осиновую рощу, она шла прямо в гору, где тянулись в два ряда серые домики с тесовыми крышами. Это была деревня. Вилнит сразу понял это. Домики смотрели на дорогу, и в каждом домике было по два или по три украшенных разноцветными резными наличниками окна. Еще повыше стоял огромный скотный двор с широкой, похожей на распростертые крылья крышей. Ну точь-в-точь наседка над сотней сидящих в два ряда цыплят. Теперь Вилнит понял, откуда берутся на станции молоко и лукошки с яйцами.
В роще паслась небольшая серая козочка на короткой привязи. На кочках и вокруг пней краснели листья земляники, там могли быть и ягоды. Вилнит опустился на пень и стал перебирать листья. Попались две-три ягодки, но совсем еще зеленоватые. Вдруг кто-то взъерошил ему сзади волосы. Мальчик схватился за затылок и почувствовал что-то мягкое, влажное и теплое. За спиной стояла козочка, смотрела на него своими серо-желтыми глазами и спокойно жевала какой-то длинный стебель. Вилнит встал и попятился. До сих пор ему приходилось иметь дело с козами только на расстоянии. Может быть, она собирается его боднуть? Но козочка ни о чем таком не думала, облизнулась, тряхнула смешной бородкой и принялась спокойно щипать траву.
Лишь сейчас Вилнит заметил и пастуха. Он сидел спиной к нему на другом пеньке и, весь уйдя в работу, что-то мастерил. Вилнит подошел поближе. Парнишка, приблизительно одного с ним возраста, был занят тем, что перочинным ножиком со сломанной рукояткой вырезал на очищенной от коры ивовой палочке какие-то зубчики и крестики. Вилнит подошел еще ближе.
Работа была не из блестящих: крестики были то длиннее, то короче, а зубцы неровные.
– Берись за другой конец, – посоветовал Вилнит. – Этот очень короткий, вот у тебя все кресты и разъезжаются. Еще палец обрежешь.
Но парнишка даже не поднял головы и не посмотрел в его сторону. Может, он на него рассердился?.. Вилнит попятился от пастуха так же, как от его козочки. Как странно: в Риге он не боялся даже бородатых дядей, в вагоне, сидя рядом с дедом, не испугался даже такого опасного человека, как одноглазый старик. В голове мелькнула мысль, что без бабушки и деда весь мир вдруг стал слишком большим и невыносимо чужим… В Весеннем саду в Риге он непременно осведомился бы у такого недотроги, не забыл ли он дома язык. Теперь он поспешил удрать. Повернулся и быстро пошел по дороге.
Когда тропинка круто повернула в гору, Вилнит остановился и оглянулся. Пастух вывел козочку из рощи и потащил в противоположную сторону. Мальчик жил, наверно, где-то около станции.
С горы спускалась какая-то женщина. Она остановилась и с удивлением посмотрела на незнакомого мальчугана.








