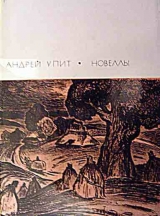
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Андрей Упит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 50 страниц)
В комнату снова вошла Аболиене с миской в руках.
– Пожалуйста, кушайте, господин пастор. А то еще придет кто-нибудь, и вы совсем останетесь без обеда.
Пастору пришло в голову, что она, верно, все время стояла у порога и подслушивала. И сейчас за дверью раздавались два мужских голоса – один из них Абола.
– Да, да, спасибо. И затворите дверь.
Но Аболиене не торопилась. Расставила посуду и деревянной ложкой помешала в миске подливку.
– Не взыщите, подливка жидковатая получилась. Да и курица жесткая. Жулики, самую старую подсунули… Вот ваша пятерка, возьмите. Сметаны один стакан только продали, и то еле выпросила. Говорят, самим не хватает. У них сын из Риги приехал на гулянье, надо и с ним послать…
«Хорошо, хорошо», – хотел было сказать пастор, но запнулся. Что же тут хорошего? Зачем он все время притворяется, обманывает самого себя? Он положил на тарелку куриное крылышко и начал есть. Но курица была невкусная. Полштофа сметаны и то не в состоянии раздобыть. «Самим надо…» Так вот как они теперь относятся к своему пастору… Кусок застревал в горле.
Дверь из комнаты Аболов снова отворилась. Вошел Рудзит – маленький, улыбающийся, с длинными приглаженными волосами, типичный крестьянин старого поколения. Поздоровался и остановился на почтительном расстоянии от стола.
Продолжая есть, пастор кивнул ему.
– Ну, что скажете, Рудзит?
– Да что сказать… Я просто так. Мне бы получить за лошадей. Абол три дня работал – ячмень вам посеял, известку возил. Вы, верно, знаете?
– Да. Абол говорил. Правда, сегодня воскресенье, и мне еще надо готовиться к проповеди. Ну да все равно. Я вижу, таковы уж у вас теперь порядки. А платить так или иначе придется. Мне даром ничего не надо. Сколько же вы там насчитали?
– Да что считать… Я ведь не гонюсь за заработком. Мне самому каждый час промедления в убыток. Вот только что у вас нужда сталась… Как-никак соседи…
– Хорошо, хорошо. Сколько же с меня?
Одной рукой пастор подцепил второе крылышко, другой выдвинул ящик стола и зашуршал бумажками.
– Ну, скажем так: на два дня брали пару лошадей – тысяча, на третий день одну – триста.
Пастор невольно задвинул ящик.
– Это выходит тысяча триста. А вы не обочлись?
– Чего же тут считать. Здесь все так платят. Учителю вон вспахал одну пурвиету и получил триста. А там всего-то на полдня работы. Это я только с вас… по-соседски…
– Что и говорить – по-соседски!.. Сколько же мне будет стоить обработка десяти пурвиет? Вы об этом подумали?
– Известно, дорого обойдется, когда нет своей лошади. А что теперь дешево? Знаете, сколько с меня взял кузнец за наварку лемеха?
Пастор промолчал. Да и что тут скажешь? Скорее отделаться от него… Он сосчитал все, что было в ящике, достал кошелек, взял оттуда еще две сторублевки и швырнул деньги на край стола. Тут же встал и отвернулся, ожидая, когда Рудзит пересчитает их. А тот считал долго и старательно, разглядывая каждую бумажку.
– Теперь в этих деньгах не разберешься. Возьмешь вдруг фальшивую – и прямо хоть бросай. Ну и денег вам надавали – одни лохмотья. И эта такая. И эта…
Одна десятирублевка была совсем разорвана и заклеена крест-накрест.
– Вот эту надо бы обменять, господин пастор. Вряд ли и номер уцелел.
– Я сам деньги не делаю: какие мне дают, такие и я даю. В Государственном банке вам обменяют на новенькую.
– Ну, куда нам в банки… Вам в Риге легче сплавить.
Наконец Рудзит собрал и пересчитал все деньги и пошел к двери. На пороге он опять остановился.
– Если думаете, что я беру дорого, идите к другим. Я за заработком не гонюсь. Мне и дома работы хватает. Я каждым час убыток терплю.
Второе крылышко пастор уже не мог осилить. Отодвинул тарелку и велел Аболиене убрать со стола.
Долго он перелистывал синюю тетрадь, – никак не мог найти набросок конспекта проповеди. Наконец нашел. Листок дрожал в руке, буквы прыгали перед глазами. Никак не удавалось уловить связующую нить.
До начала службы остался только час. А тут помешали два посетителя. Пришла старуха, по поручению которой он еще в тринадцатом году положил на книжку шестьдесят рублей. Потом бывший волостной рассыльный, у которого жена сбежала с помощником учителя… А что он может сделать для них? Что он вообще может сделать? Теперь на это есть соответствующие учреждения.
Пастор Зандерсон запер дверь и углубился в конспект. У него с давних пор выработалась привычка подробно продумывать и логически обосновывать проповеди. Будучи человеком идеи и разума, он никогда не вдавался в пустую риторику. Найдя нить, он сразу понял, что конспект никуда не годится.
Мало-мальски разузнав о здешних условиях, он направился сюда с самыми благими помыслами. Он намеревался и словами и делами явить пример всепрощения и миротворения там, где теперь царят рознь и несогласие. Хотел обуздывать греховные страсти и бросать семена Христовой любви в иссохшую землю. Как рачительный садовник, хотел он оберегать слабые ростки. И пусть другие после него увидят пышную зелень, роскошь цветения и изобилие плодов.
Но дольше терпеть нельзя… Каплю за каплей лили в его сердце горечь эти люди. Голова шла кругом от мучительных, тяжелых дум. Что ему делать среди этих унылых развалин, где успеешь переломать ноги, пока доберешься до порога? Что ему делать под этой жалкой кровлей, которая не может укрыть и от дождя?.. Даже пристойного жилища не удосужились приготовить для своего пастора. Полштофа сметаны не продадут… А он еще хотел действовать кротостью, проповедовать всепрощение и любовь.
Пастор скомкал листок и сунул его в карман. Посмотрел на часы. Времени у него оставалось сорок пять минут. А между тем Юргит еще не показывался.
Председатель общины Мартынь Юргит должен был заехать за ним и отвезти в бывшую богадельню, а ныне – школу, где разрешили также совершать богослужения.
Пастор Зандерсон взял в углу чемодан, в котором был талар, воротник с крестиками и все необходимое для причащения, проверил, все ли на месте, закрыл его и вышел из дому.
Зельгис только что подъехал к хлеву с фурой клевера. Сам он с вилами в руках стоял на возу и сердито покрикивал на серого, который никак не мог устоять на месте. Посмотрев исподлобья на проходившего мимо пастора, Зельгис резко, с размаху воткнул вилы в сено и подал на сеновал большую охапку. Зельгиене, подавшись вперед всем телом, приняла ее. Жена Абрика выгоняла из капусты кур, кидая в них комья земли. В конце аллеи на пастора злобно набросилась собачонка Рудзитов.
Он быстро шагал по аллее. Чемодан оттягивал руку, но пастор даже не думал об этом. Ему вспомнилось, как в былые времена он выезжал по воскресеньям в коляске, на паре. Рядом сидела пасторша, на переднем сиденье – сын и дочь. По дороге в церковь он обгонял всех своих арендаторов с женами и детьми. И сразу замечал, кого из них недостает. А после обеда виновные приходили к нему каяться. Эти же самые Абрики, Зельгисы, Рудзиты…
Голове было горячо. Пот каплями выступил на лбу. Выйдя на большак, пастор взглянул на холм у самого берега Даугавы, где белели развалины церкви. Над ними возвышался изуродованный остов башни. Железная крыша лежала поперек обломков, упираясь шпилем в алтарь. Стрельчатые своды окон обвалились. Южная часть здания была целиком разрушена, и белые обломки покрывали откос берега… И никому не пришло в голову, что церковь пора восстановить. Даже Мартынь Юргит ни словом не обмолвился.
Волной подымался гнев в груди пастора. Зло слишком глубоко пустило корни. Жизнь стала подобна смердящей могиле, полной выбеленных костей и всяческой мерзости. Люди свирепее зверей… И не только по отношению к нему. Что он и его страдания! Капля в огромном море тьмы, омывающем опустошенный мир. Ибо разрушены самые основы. Ибо здесь оплевывают того, кому он призван служить.
Мысленному оку пастора предстала иная картина. В ушах его зазвучал иной голос из прошлого. Он видел себя на кафедре. Вот он обрушивает громы священного гнева на поникшие головы прихожан. Как они склонились под острым жезлом его слов! Ни один грех, ни одна человеческая слабость не заслуживали в его глазах снисхождения. Ярость господня была в устах его, сила и дерзновение слова господня – в сердце его. Случалось, на него жаловались и в суд и в консисторию. Но в те времена сан пастора кое-что значил. Светские власти не отказывали в поддержке. Могла ли нанести ему ущерб злоба закоренелого грешника!
Некий голос звучал в ушах пастора Зандерсона – все громче, все суровее. Казалось, говорил сам Иегова. Что были прежние грехи перед нынешними вопиющими беззакониями. Скоро прольются дождем сера и огонь, как пролились они на Содом и Гоморру. Все знамения указуют на это. Близится конец мира. Небеса свернутся, как свиток книжный. И тогда он воссядет на облаках и будет судить – судить бесщадно всех этих любостяжателей и хищников, всех разделяющих земли и оскверняющих день субботний, нарушающих таинство брака и священные заповеди, и всех распутников. Всех этих плясунов, альтов и теноров, социалистов и демократов… Тогда опомнятся они, узнают, как надо почитать господ, пастырей и иных наместников бога на земле. Но – поздно. И не будет конца причитаниям и зубовному скрежету…
Пастор Зандерсон видел перед собой начертанную огненными письменами предстоящую проповедь. Живые примеры из обыденной жизни, из времен недавних испытаний необозримой толпой теснились в его памяти. Безумие революции, строгая власть немцев, железный жезл Бермонта, огонь и меч, развалины и запустение – это ли не кара господня, это ли не знамение! «Но вы закрыли глаза свои и заткнули уши свои – вы, осужденные богом на вечную гибель и муки адовы!»
Пастор Зандерсон остановился на мостике в тени ивы и глубоко вздохнул. Его лицо пылало вдохновенным гневом, сердце билось от священного восторга. Маловер! Он еще хотел примириться с этими беззакониями, хотел сеять семена христианской любви в этой пустыне. Нет, он, как ветхозаветный пророк, пойдет к этому погрязшему в неверии, растленному племени, он будет до крови бичевать тех, чьи дела – беззаконие перед лицом бога, тех, чьи слова нечестивы.
«Я господь бог твой, бог гневный и суровый… Наказывающий до третьего и четвертого рода… Огнем и серой!..»
Пастор Зандерсон возвел очи к небу. Большая черная туча заслонила солнце. Не тень ли это Иеговы? Да, ныне он вновь познал своего бога и веления его. Если бы не чемодан, он сложил бы молитвенно руки. «Вот я стою пред тобою… Я знаю веления твои».
Он стал подниматься на пригорок. Изъезженная за годы войны дорога была вся в буграх. Ботинки покрылись слоем пыли. Чемодан оттягивал руку. Гнев, клокотавший в сердце пастора, вырастал с каждым шагом.
На пригорке против самой дороги виднелись полуразвалившиеся стены и оголенные стропила кровли волостного правления. Подальше из безобразной кучи битого кирпича и обломков цемента высовывалась уцелевшая часть каменной лестницы школы. Взгляд пастора задержался на развалинах. На этом месте когда-то ложная мудрость попирала имя божье и тщилась довольствоваться суетными знаниями.
«Вы прах и пыль предо мной», – звучал в ушах пастора голос господень. Да, да, и об этом надо сказать в проповеди… Пусть же вострепещут они и падут ниц и пусть не надеются на скорое прощение. «Страшно впасть в руки бога живого».
Три старика, сидя на чурбаке возле богадельни, покуривали и вели задушевную беседу. Завидев пастора, они не спеша сунули трубки в карманы и привстали. Девчонка, прислуга учителя, лежала на животе в траве и, задрав вверх голые ноги, играла с кошкой. Взгляд пастора скользнул мимо этой картины, сердце его переполнял гнев Иеговы. Раскаты голоса Иеговы отдавались в висках…
Проходя через первую комнату, загроможденную до потолка партами, он почувствовал характерный запах пыли. Даже подмести поленились. В воздухе стояло облачко папиросного дыма.
Пастор рванул дверь. Прихожане сидели вдоль стен и по углам большой комнаты. Кое-кто устроился на подоконниках. Несколько человек теснилось на выдвинутых из соседнего класса партах. Веселая болтовня мало-помалу стихала. Здесь тоже пахло табачным дымом.
Пастор поглядел по сторонам, стараясь не смотреть ни на кого в отдельности. Однако он все видел. Он привык видеть не глядя. Человек пятьдесят – ну, чуть побольше. Немного же собралось послушать слово божие после стольких лет безверия и нечестия. У стены, прямо на полу, сидела старуха Зельгис – и больше никого из пасторской усадьбы… Взгляд пастора остановился на окне. Над головами сидящих виднелся темный силуэт липы. Нет, то была не липа… То была тень Иеговы. Иегова не оставит его.
Зайдя в комнату учителя, пастор захлопнул за собою дверь и сел. Грудь его тяжело вздымалась. Сквозь запотевшие очки сначала ничего нельзя было разглядеть. Да и смотреть-то здесь было не на что. Кровать, простой некрашеный стол. Собрание сочинений Янсона и какая-то «Песнь о Гайавате». Пастор брезгливо полистал ее. Сразу видно – книга светская. На стене открытки – все больше полуобнаженные женщины. Повыше портреты Барона и Райниса.
Вот каковы теперь учителя! Вот кто воспитывает наших детей! Что же станет с народом через десять лет? Как бы не пришлось государству строить новые тюрьмы, – только удастся ли? Вот и еще одна тема для сегодняшней проповеди. Они еще будут трепетать перед ним!
С глубоким отвращением пастор отвернулся от мерзких картинок и встал. Юргит все не приходил. Может быть, совсем не придет? После богослужения будет несколько крестин и венчаний, придется обойтись одному. Пастор все сильнее чувствовал приближение черной, пронизываемой молниями тучи. Юргит тоже получил по заслугам. Он-то в первую очередь. Кому много дано, с того много и взыщется. И тот, кто встал за плуг, пусть не оглядывается назад…
Пастор достал из чемодана талар и стал натягивать его поверх сюртука. Но ему помешала давешняя старуха, которая приходила за своими шестьюдесятью рублями. Пастор грубо выпроводил ее за дверь. Стал застегивать воротник, но дело не клеилось, пальцы дрожали, пуговки попадали не в свои петли. Тут наконец появился Юргит и помог ему.
Вид у церковного старосты был усталый и несколько сконфуженный.
– Извините, ваше преподобие, я немного опоздал. Было одно неотложное дело…
Пастор не спросил, какое дело. Может быть, отстроил амбар и праздновал по этому случаю. Или возил с поля клевер. Пастору не хотелось задавать вопросы. Противно… Да и нельзя было нарушать приподнято строгое настроение, которому так отвечали блеск дальних молний и гневный гул грома.
Пастор показал кивком на стену.
– Что за человек ваш учитель?
– Учитель? Он из Курземе. Пожилой уже человек. Я, правда, мало его знаю, у меня в школу никто не ходит. Однако в волости о нем хорошо отзываются.
Пастор мотнул головой.
– Надо полагать. Каковы сами, таков и учитель. Безбожник и социалист… Даже по этим картинкам и книжкам можно судить. Об этом я упомяну в проповеди.
Обычно разговорчивый, Юргит вдруг замолчал, как-то странно засуетился и вытащил из кармана два захватанных, исписанных карандашом листка бумаги.
– Вот, ваше преподобие, список членов нашей общины.
Пастор мельком пробежал их и взглянул на последние номера.
– Как? Только сто сорок человек? Где же остальные?
Юргит еще больше засуетился.
– Больше никто не записался.
– Да ведь они уже один раз записывались. Если не ошибаюсь, человек четыреста с чем-то…
– Четыреста шестьдесят. Это они записывались, когда ждали американские подарки. Всем, конечно, не досталось. Да и подарки-то были не ахти какие. Вот и не хотят больше. Особенно теперь – надо ведь написать, сколько будешь платить. А платить теперь никто не хочет.
В руках у пастора была книга псалмов. Он крепко, обеими руками прижал ее к животу. Обычно при виде этой книги и талара он особенно отчетливо сознавал свои пастырские обязанности. Он смерил Юргита с головы до пят строгим взглядом.
– Так, так… Им жаль внести малую лепту на нужды прихода. Но в Писании сказано: «Трудящийся достоин награды своей». И об этом я скажу сегодня. Равнодушие в делах веры – это проказа на здоровом теле народа. Сто сорок человек… Да разве это не надругательство над богом!.. В этом списке я вижу по большей части имена женщин и землевладельцев. Где же остальные? Раньше у нас в трех волостях было несколько тысяч.
Юргит стоял потупившись, сжав губы и пощипывая седую бородку.
– Раньше, раньше… Лучше уж не говорите, ваше преподобие, про то, что было раньше. Теперь и жителей-то стало на треть меньше, да и приход новый, неорганизованный…
Пастора передернуло от этого слова, странно прозвучавшего в устах старого церковного старосты. Как оно напомнило семнадцатый и девятнадцатый годы и все безбожные, кощунственные дела!
– Мне на голову дождь льет… Я вынужден ходить по развалинам и пескам. Посмотрите на мои ноги… Я полштофа сметаны не в силах раздобыть. Скоро мне придется есть один черствый хлеб. Наймешь ли лошадь – за нее по триста рублей в день дерут. У меня лес на постройку гниет, потому что некому вывезти.
Юргит все еще глядел в пол и щипал бородку. Но вот он заговорил. Пастор никак не подозревал, что его голос может звучать так твердо, сухо и даже зло. От неожиданности положил книгу псалмов на стол, рядом с сочинениями Янсона.
– Теперь всем трудно. У вас протекает крыша, а тут многие живут в землянках и подвалах. Инвалиды ютятся где попало и мрут от холода и голода. Старые землевладельцы еще кое-как встали на ноги, а новохозяева из сил выбиваются: и строиться надо, и новь поднимать, и налоги платить.
Пастор выпрямился. Глаза его гневно блеснули сквозь очки.
– Вижу, вижу… Этими людьми овладели корыстолюбие, алчность и чревоугодие. Новохозяева… новохозяева… Имения пущены по ветру… Куда ни посмотришь – везде виднеются эти новые хибарки. И они еще не хотят платить за присвоенные земли. Я говорю: близится кара господня.
Теперь выпрямился и Юргит. Это было еще большей неожиданностью для пастора.
– Это государственная реформа. Обдумывайте свои слова.
– Мне… обдумывать! Мне – слуге и избраннику божию, который должен отвечать перед ним за эти души? Мартынь Юргит! Я все обдумал и знаю, что мне говорить. Не я буду говорить, но пославший меня. Мартынь Юргит! Посмотрите на мои ноги – они покрыты пылью, но я не хочу отирать их. Пусть я уподоблюсь тому, кто был гласом вопиющего в пустыне и кто не боялся обличать в глаза правителей. А в Писании не сказано, что тогдашние правители были социалистами, что они свергали установленный богом строй. И я скажу им это – скажу слова, которые вложил в мои уста Иегова. Пусть мой голос звучит в полупустой храмине – его услышат! Ему будут вторить эти немые стены. Я велю отворить окна, чтобы все эти погибшие люди трепетали от ярости господней. И те, которые устраивают гуляния и с плясками отправляются в пасть дьявола. И те, которые курят здесь папиросы и болтают, как в кабаке. Те, которые не конфирмуются до двадцати лет и сожительствуют вне брака, довольствуясь лишь записью в дьявольские списки, и те, которые не крестят детей до трех лет…
Но тут тяжелая рука Юргита непочтительно опустилась на плечо пастора. От неожиданности он так и остался с полуоткрытым ртом.
– Тише, ваше преподобие… Я так и знал. И это меня больше всего тревожило. Потому мне так не хотелось идти сюда. Каким вы были, таким и остались. Вы что, забыли консисторию, суд, следствие и прочие неприятности?
Пастор оглянулся – тень Иеговы все еще стояла за окном.
– Я ничего не забыл. Я не кичусь гонениями, которые испытал по вине безбожников. Но я знаю, что в день воскресения из мертвых они будут мне зачтены. Я готов вновь взять крест свой и нести. Ибо этого хочет он. Такова его воля!
– Это бы еще ничего. С этим-то мы справлялись, и ничего с нами нельзя было поделать. Но теперь другие времена. Об этом вы подумали? Или вы приехали сюда на один день? Может быть, у вас, в Риге, есть другое место, другая должность?
Пастор слегка съежился.
– Не-ет, что вы! У меня ничего нет. Если бы у меня были влиятельные родственники или покровители, как у других… Мы живем в двух маленьких комнатах на Валмиерской улице. Сын учится, надо за него платить. Дочь служит в почтовой конторе… Я навел справки… И вот решил вернуться в старый приход.
– То-то и есть. Теперь я вам вот что скажу. Раз уж вы вернулись, оставьте все свои прежние замашки. Раньше вы могли бранить, обижать и оскорблять людей – и все вам сходило с рук. Барон заступался за вас, суд был на вашей стороне. У вас было имение, были арендаторы, а если кто не хотел нести ругу, у того описывали имущество и через полицию взимали долг. Место у вас было надежное. Теперь другие времена. Кто хочет, тот записывается в члены общины, а насильно никого не заставишь. Кто хочет, тот и венчается и крестит своих детей, а не хочет – идет регистрироваться.
– Да, да, записываться к дьяволу…
– Может, и так. Но только я вас прошу – будьте рассудительней.
Пастор сердито сбросил с плеча руку Юргита.
– Но я здесь во имя того, кто послал меня…
– Знаю. Но вам надо жить. Вам дали десять пурвиет земли, сад в двенадцать пурвиет. Вы собираетесь строиться, а лес у вас не вывезен. Своими силами вам не обойтись. К тому же у вас остались враги с консисторских времен. Про вас слава идет еще с девятьсот пятого года, когда вы служили в Избикском приходе. Теперь вы затеяли тяжбу с Абриком, враждуете с новохозяевами… Вы браните вечера и гулянья, которые устраивает культурное общество, осуждаете всех подряд. Если в Риге у вас есть другая служба, а сюда вы приехали только на один день, тогда – пожалуйста, дело ваше. Но тогда я не пойду туда. Я ни за что не ручаюсь.
Пастор беспомощно взглянул в окно. Но сквозь запотевшие очки ничего нельзя было разглядеть. Отвернулся к стене. На ней серыми пятнами выделялись портреты Барона и Райниса… Все кругом серое, ничего не говорящее, все словно затаилось и выжидает… Даже собственный голос потерял звучность и выразительность…
– Но… как же так? Чтобы я отрекся, примирился… Чтобы я умолчал о том, что вопиет к небу.
– Вопиет, вопиет… А больше вопиять не будет… И я постараюсь со своей стороны: мне Брежгись из Парупиешей кое-что обещал. У него молотилка, лесопильный стан и соседей много кругом. Надо надеяться, что наша община будет расти. После уборки сена и ржи соберем помощь. Лошадей пятьдесят, – тогда за один день управимся. Не могли бы вы им чего-нибудь пообещать? Ну, там американские подарки, что-нибудь от женского корпуса? И еще вот что: день поминовения объявите на третье сентября. В этот день будет сельскохозяйственный базар и концерт. Вот и сегодня у нас половина собравшихся приехали из-за реки на гулянье.
Сунув в руку пастору книгу псалмов, Юргит тихонько подталкивал его к двери, за которой раздавались громкий говор и, кажется, приглушенный смех. Но пастор упирался: он еще не разобрался в своих мыслях, не знал, с чего начать проповедь. Правда, это было скорее внутреннее сопротивление, а ноги сами шли туда, куда тянул его Юргит. У самой двери он шепнул пастору.
– Подумайте о своем сыне, о том, что ему надо платить за обучение. Подумайте о дочери, которая служит на почте. Подумайте о своих детях…
Пастор и сам думал об этом. Как всегда в таких случаях, мысли с необычайной быстротой проносились в голове. Он успел подумать о множестве вещей, пока сделал десять шагов до двери. И главное, о вещах, не имеющих ни малейшего отношения к тому чувству гнева, которое все сильнее овладевало им… Жене хотелось поехать на целый сезон в Кемери, а он мог только послать ее на три недели в Балдону… Сын присмотрел в витрине магазина Берга карманные часы… Когда праздновали сорокалетний юбилей пастора Гриншпана, им всем пришлось глубокой ночью возвращаться пешком со второй Выгонной дамбы… Хорошее английское сукно стоит теперь шестьсот пятьдесят рублей аршин… Как приятно шелестела листва лип, когда они ехали по аллее в коляске, запряженной парой лошадей…
Юргит широко распахнул скрипучую дверь и придержал ее, пропуская вперед пастора. Говор постепенно стихал. Все старались сесть прямее. Кто-то откашлялся, кто-то высморкался. Пастор, нарочно медля, поднялся на школьную кафедру, и воцарилась полная тишина.
Пастор обвел глазами комнату. Хотя очки были чистые, он ничего не видел. Опустил голову и заметил чернильное пятно и вырезанные на еловой доске буквы «К» и «П». Голос Иеговы больше не звучал в его ушах, только в висках сильно бился пульс.
Он поднял голову и теперь увидел самое главное. Загорелые лица, пытливые глаза… Белые с низким вырезом блузки и приколотые к ним букетики цветов… Старуха, приходившая за своими шестьюдесятью рублями, вытирала глаза большим синим платком.
Вдруг он услышал собственный голос:
– Я господь бог твой, бог могущественный и гневный…
Его остановило чье-то негромкое, пискливое покашливание. Кашлял Юргит. При этом он как-то странно посматривал на пастора… И тот опомнился. Его устами заговорил прежний Иегова… Дома дочь сама стирает свою белую блузку, она носит на груди букетик искусственных фиалок… Он посмотрел в окно. Там уже не видно было черной тени Иеговы. Только чуть дрожала зеленая листва старой липы. Сквозь прогалы в ветвях тянулись, как струны, солнечные лучи. За развалинами волостного правления открывалась лазурь небес. На травке возилась с кошкой дочка прислуги учителя…
– Но я бог милосердия и любви, я творю милость до тысячи родов боящимся меня и соблюдающим заповеди мои. Аминь.
Дальше пошло успешнее. Пастор отмахнул полу талара и достал из кармана набросанный в Риге конспект проповеди. Он время от времени заглядывал в него, однако не слишком строго следовал всем пунктам. В ушах его звучал иной голос, иные слова были в его устах.
– Велик гнев Иеговы, но велико и милосердие его. Он сотворил человека существом слабым и греховным и потому дарует ему прощение как непослушному, но любимому дитяти. Все мы пребываем в немощах и неведении – знатные и простолюдины, богатые и бедные. Но сила господня осеняет нас и мудрость его являет нам свет.
Так говорил теперь Иегова. И чем дальше, тем ревностнее возвещал пастор веления его. Раньше он не признавал громкой и пустой риторики. Но теперь он изменил своему характеру и обычаю. Ибо таково было веление божие, такова его воля…
Пастор приводил поэтические сравнения и примеры из истории Латвии. Он цитировал народные песни и речь Линдыня в Учредительном собрании, говорил о пользе гуляний на лоне природы и счастливом будущем народа…
Задав молящимся петь псалом, пастор Зандерсон вышел на минутку, прежде чем продолжить богослужение. Вслед за ним в комнату учителя вошел Юргит. Пастор, почти улыбаясь, поглядел на церковного старосту.
– Ну?
Мартынь Юргит кивнул головой.
– Хорошо. Начало удачное. Если и дальше так пойдет, мы еще можем надеяться…
Мимо окна во двор въехала первая упряжка – привезли крестить… Младенец заливался плачем.
1923








