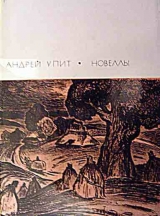
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Андрей Упит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц)
HOMO SAPIENS [8]8
Человек мыслящий (лат.).
[Закрыть]
Что за праздник сегодня у испольщиков в Маз-Киркуцисах?
Иванов день вот уж три недели как миновал. Клевер скошен, а сено только еще начинают ворошить. Сейчас самая горячая пора, когда летней работы у всех по горло и даже выше, когда о праздниках и гулянии может думать разве только ленивый, вечно сонный пастух Андж. И ведь сегодня не воскресенье. Какое там! Воскресенье было три дня тому назад, и если считать по-старому, то выходит, что сегодня четверг.
А у испольщиков в Маз-Киркуцисах все-таки праздник. Комнатка тщательно прибрана и украшена. К величайшему удовольствию пастуха Анджа и прочих маленьких людишек в усадьбе, испольщик Брумелис, несмотря на больную ногу, кое-как взобрался на дуб за ветками. Хозяйская дочка Марта украсила этой зеленью потолок в комнате. Пол вымыт так, что местами кажется, будто доски прозрачные. На плите, как на параде, выстроились котелок, подойник и две шайки – одна, побольше, железная, другая, поменьше, с деревянной дужкой. В самой же печи, в темноте, притаилось глиняное блюдо, крышкой которому служит опрокинутая миска и еще что-то побольше размерами. На радость мухам даже печь истоплена, как это всегда бывает по большим праздникам.
Сам Брумелис сидит на кровати босой, в холщовых штанах и рубахе, волосы у него гладко причесаны. Бороду он тщательно выстриг ножницами, которыми стригут овец, так что теперь подбородок и добрая половина щек у него совершенно гладкие. Брумелису жарко, пот заливает глаза, но он не смеет его смахнуть, боясь взъерошить старательно приглаженные женой волосы.
Жена Брумелиса, гладко причесанная, в новом переднике, тоже сидит – у окна за столиком. Порой она посматривает на миску, которая загадочно пофыркивает на плите, потом на старика – он, по ее мнению, уже просидел глубокую яму в пышно взбитой постели. Она снова и снова поворачивается к окну с таким любопытством, что забывает смахнуть капли пота, висящие, словно бусинки, у нее на носу и на подбородке.
Входит дочь хозяина – Марта, она тоже нарядилась. Чета Брумелисов поворачивается к ней и спрашивает – глазами задает вопрос, прежде нежели рот успевает произнести слова.
– Ну?
Марта качает головой. Потом даже отмахивается.
– Ничего. Смотри – не смотри, а его нет и нет.
Вид у Марты грустный. От этого и жене Брумелиса становится тоскливо, а потом тоска берет и самого Брумелиса.
– На машине-то на этой он, верно, не поехал, – через некоторое время говорит жена Брумелиса. – А то бы он уже давно здесь был.
– Ну, а на наших-то ему тоже пора быть… – Брумелис чешет за ухом. – Далеко ли здесь.
– Тебе все недалеко… – начинает жена, но не кончает.
– Да, уж должен бы приехать, – заверяет Марта. – Коли ветер с той стороны, здесь всегда гудок слышен. Не случилось бы только несчастья…
Жена Брумелиса от страха подскакивает.
– Несчастья! Что ты, дочка, говоришь! Какое же могло с ним приключиться несчастье?
– Почем я знаю, да ведь всякое бывает. Может, сошел с рельсов…
– Это Юкум, что ли?
– Поезд. Сколько раз про такое рассказывали!
– Ну… – бурчит Брумелис. – Это только зимой может случиться, когда из-за вьюги пути не видать или когда поезд наезжает на сугроб.
– Молчи уж лучше! Что ты, старик, понимаешь! – в сердцах прерывает она мужа. – Не приведи господь, всякое ведь приключается.
– Еще в прошлое воскресенье я читала в приложении… – дрожащим голосом говорит Марта. – Про одного молодого графа, он вот тоже ехал домой на родину. Отец, мать и… невеста ждали его… но у самой станции поезд соскочил с рельсов… и он погиб. Мать и невеста горячими слезами поливали его холодный труп…
С трудом она выговаривает последнее слово и сама заливается слезами. Потом закрывает глаза кончиком передника и плачет навзрыд. Почти одновременно с ней начинает плакать и жена Брумелиса.
Брумелис неспокойно ерзает на кровати. Забыв о прическе, над которой трудилась жена, он рукавом утирает со лба пот.
– Ну… ну… что за враки. Что за рев? Как дети малые…
Брумелис снова трет рукавом лицо, но, пожалуй, больше глаза, чем лоб. Он усердно пытается начать разговор.
– Гм… да… Но какой же наш Юкум граф? Да и там совсем иное дело – с людьми большими всякое бывает. А мы что? И какая ты, Марта, ему невеста? Еще до этого не дошло…
У жены моментально высыхают слезы.
– Молчал бы лучше! Не невеста! А кто же она ему по-твоему! Ясное дело, невеста!
Марта смущенно трет глаза.
– Окончательно мы, правда, не договаривались. Но я думаю… и он думает… и я думаю…
– Чего там еще раздумывать! – прерывает жена Брумелиса. – Думай – не думай, а выходит одно: невестой была, невестой и осталась. Раньше, когда он еще здесь жил, то вы с ним все вдвоем… Ну, а письма-то где, которые он тебе посылал? Через день ведь их посыльный приносил…
– Да… прошлым летом. А теперь он уж давненько не писал.
– Что ж это она говорит! Как же нет, когда писал! Ведь недавно, на троицу весточка пришла.
– Да, но это только поздравительная открытка…
– Погляди-ка! А разве такие поздравительные открытки каждому посылают? И коли он теперь реже пишет, то, знать, потому, что времени нет у него.
– Понятно! – соглашается с ней Брумелис. – Тот, кто тридцать рублей в месяц платит, знает за что. Тридцать рублей в месяц… Боже ты мой, да ведь это куча денег! Это выходит больше, чем три сотни в год?
– Больше… Это выходит…
Марта начинает считать, но перестает и прислушивается. Старики тоже слушают.
– Ты что-нибудь слышишь? – шепотом спрашивает жена Брумелиса.
– Мне показалось… как будто колокольчик… но, может, я ослышалась.
– Лучше бы ты сам поехал встречать его на своей кобыле, – немного погодя говорит жена Брумелиса.
– Да разве бы я не поехал! – волнуется Брумелис. – Но ты же видишь, что он не хочет. Писал ведь, что на почтовых приедет. Ну, где письмо-то? Дай, пусть Марта прочтет.
Жена Брумелиса открывает ящик стола, вынимает открытку и, немного отвернувшись, подает ее Марте. Та берет ее и в десятый раз, почти не глядя, на память читает:
«Отец, мать! Принимая во внимание вашу просьбу, прибуду к вам третьего июля. Свою старую, хромую кобылу за мной не присылайте: она бежать не может, а я не переношу тряску на телеге, на деревянных осях. Приеду на почтовых».
– Гм… – ворчит Брумелис. – Не худо бы тебе всю жизнь иметь телегу на деревянных осях.
– Замолчи ты! – прерывает его жена, глядя на Марту, будто ожидая чего-то еще.
– Подпись нельзя разобрать… – Марта, красная, смущенная, кладет открытку на стол перед женой Брумелиса. – Это не его имя… а почерк его.
– Кто же другой напишет, он сам и писал. Да вот одно я в толк не возьму, – на что эта бесстыжая картинка…
Не окончив фразы, она вскрикивает. Марта тоже вскрикивает и бежит к окну. Брумелис делает попытку встать, но снова садится. Слышится громкий звон колокольчика.
– Приехал?! – восклицает жена Брумелиса и, не дождавшись ответа, выскакивает из комнаты. Марта мечется из угла в угол, пока наконец не прячется за дверью.
Но вот дверь широко открывается, и появляется молодой человек в желтом пыльнике. У него маленькие светлые усики и такая же бородка, очки на носу, вогнутая соломенная шляпа с очень широкими полями, в руках трость с металлическим набалдашником. Влетает он так, словно за кем-то гонится или от кого-то бежит. Размахивая руками, жестикулируя, не глядя ни вправо, ни влево, он начинает большими шагами ходить по комнате.
Брумелис, несколько смущенный, покашливает.
– Здравствуй, сын! Что ж ты меня больше не замечаешь? Очки на носу, а не видишь.
– Здравствуй, – цедит сын сквозь зубы. – Вижу, отлично вижу.
Отец с еще большим недоумением следит за сыном, который продолжает бегать по комнате.
В это время входит мать, тихонько прикрывает за собой дверь. Она остается стоять у порога.
– Разве у тебя, Юкуминь, ничего нет с собой? В коляске я ничего не нашла.
– Нет, ничего.
И он продолжает ходить по комнате не то в возбуждении, не то в раздражении.
– Послушай, Юкум, – начинает мать немного погодя, и в голосе ее слышится обида. – Разве ты не видишь, кто здесь стоит?
– Вижу, отлично вижу.
– И ты ничего не скажешь ей?
– Что ж я, по-твоему, должен ей сказать?
– И, сынок, разве мне тебя учить! Ну, поздоровайся хотя бы.
– Пусть она здоровается…
Отец пытается все это превратить в шутку. Он неестественно смеется и встает.
– Он все шутит… Но что это ты, сынок, бегаешь, как ошпаренный. Садись. Мать, помоги ему снять пальто… или как это там называется.
– Сними, сыночек, сними!
Старушка спешит сыну на помощь. Он позволяет раздеть себя, и мать осторожно снимает светло-желтый пыльник, тщательно складывает его и кладет в ногах кровати. Потом возвращается и с любовь смотрит на сына. Перед ней стоит худощавый юноша в светлых полосатых брюках, в светлом пиджаке, с красной розой в петлице. На нем высокий воротничок и клетчатый, завязанный петлей галстук.
Отец, стоя, некоторое время рассматривает его, как некое диво. Невольно у старика прорывается смех. Он тут же рукой прикрывает рот и снова опускается на кровать, но еще долгое время не может успокоиться. Прикрывает руками рот и то и дело тихонько сморкается.
Марта, не то смущенно, не то удивленно, смотрит на гостя, прикрыв лицо передником.
Сын обращает гордый, уничтожающий взгляд на отца. Он прислоняет трость к столу, бросает на стол шляпу и садится сам. Его светлые волосы, спутанные и примятые, длинными прямыми прядями падают на лоб и плечи. Он барабанит пальцами по столу.
– Ну, я здесь долго не выдержу. Что здесь за атмосфера?
– Как ты сказал, сынок? – услужливо спрашивает мать, но тут же спохватывается: – Ах, да… здесь и впрямь жарко. Печь сегодня утром топили. Пироги испекли. Но что же я стою, как овца? Болтаю без толку, а сыночку поесть не даю…
Она спешит к печке.
– Оставь, у меня пока еще нет аппетита.
– Как же так, Юкум! – восклицает отец. – Гостю кушать положено.
– Тише ты, что ты понимаешь! – обрывает его мать. – Хоть немного поешь, сынок. У меня сегодня отменное телячье жаркое.
В ответ сын лишь пренебрежительно морщит лоб.
– Закусим немного, Юкум, – поддерживает ее и отец. Он говорит и сам облизывается. – Вот это, брат, закуска. В комнате с самого утра до того вкусно пахнет – просто слюнки текут.
– Помолчи, отец, – снова обрывает его мать.
– Послушайте, мне нужно вам кое-что сказать, – начинает сын медленно, торжественно. – В каждом предложении у вас: сыночек, Юкуминь, Юкуминь, сыночек… Так вот, мне необходимо сказать вам, что я вам больше не «сынок» и не «Юкуминь».
Мать, отец и Марта от неожиданности вздрагивают. Мать и отец почти одновременно восклицают:
– Не сын? – жалобно говорит мать.
– А кто же ты? – спрашивает отец.
– Нет, я вам не сын! – обиженным тоном отвечает он. – Юкум – что это за имя! Брумелис – что это за фамилия! В этих словах нет никакой гармонии, нет поэзии, нет красоты! – Он вскакивает и тут же опрокидывает трость. – Имя человека – это символ его бессмертного бытия. Юкум Брумелис! Как может примитивное, мужицкое, банальное имя отражать мою окунувшуюся в тайны вечности душу! Мою крылатую, белоснежную, жаждущую душу! Мою потонувшую в хаосе, растерзанную ужасами, воскресшую в ночь ликования душу!.. Вы там, которые по законам физиологии считаетесь моим отцом и моей матерью, не называйте меня больше своим сыном! Я вам больше не сын. Я больше не Юкум Брумелис!
Застыв от удивления, с раскрытым ртом, отец и мать взирают на сына, как на чудо заморское. А он стоит, прислонившись спиной к столу, с выпяченной грудью, вытянутыми руками. Потом старики поворачиваются друг к другу.
Марта в испуге пятится к двери и ощупью, не поворачиваясь, пытается ее открыть.
– Меня зовут… – продолжает сын уже с меньшим воодушевлением и пафосом, но с еще большим достоинством и гордостью. – Разве вы действительно еще не знаете моего псевдонима?
Отец и мать снова смотрят друг на друга.
Сын пренебрежительно машет рукой.
– Где им понять высоты культуры, им – стоящим на низшей ступени развития! Но ты, Марта? Ты же еще в том возрасте, когда возможна некоторая ориентация в вечном царстве поэзии. Ты могла бы проявить интерес к лучшему сыну народа, к его поэтической судьбе, полной синих кошмаров… Марта?
– Да?
– Как меня зовут?
– Я, Юкум, не знаю…
Величественно, как сам Аполлон, он поворачивается, берет со стола открытку, протягивает ее Марте.
– Возьми и прочти.
Марта берет открытку, но опускает руки.
– Я, Юкум, не могу разобрать…
Тогда он берет открытку кончиками пальцев и, держа ее на большом расстоянии от глаз, делает ударение на каждом слоге, читает, словно решая вопрос жизни и смерти:
– Ялмар Серенгард.
– Ялмар Серенгард… – словно эхо, вторит Марта, не переводя дыхания.
Ялмар Серенгард поворачивается к старикам, которые стоят не шевелясь, все больше цепенея от удивления.
– Слышали: Ялмар Серенгард. Ну-ка, старушенция, повтори.
– Ну что ты, сынок… – Голос у старушенции дрожит, старая рука судорожно теребит кончик передника.
– Нет, ты повтори, не бойся. Это имеет большое значение. Имя – это символ души… то есть символ бытия человеческого. И я желаю, чтобы те, кто говорит обо мне, знали мое имя, знали меня. Таков мой принцип, и я требую, чтобы вы считались с моими принципами. Вот чего я требую от вас. Ну, повтори ты, старикан: Ялмар…
Старикан откашливается и бурчит что-то похожее на «алмар».
– Серенгард…
Старикан, совершенно сбитый с толку, старается выговорить, но получается нечто похожее на «серый гад…»
Тут Ялмара осеняет какая-то мысль, и он поворачивается к Марте.
– Я все же поражаюсь, как мало здесь знают своих поэтов, толкователей бессмертных звезд, измерителей мистических глубин. Неужели в этом доме никогда не произносили моего псевдонима?
Марта отрицательно качает головой.
Тогда Ялмар поспешно вытаскивает из внутреннего кармана два совершенно истрепанных и замызганных журнальчика, листает один, второй, кладет один на другой и протягивает их Марте. Указывает пальцами, потом с олимпийской самоуверенностью поворачивается и принимается медленно прохаживаться по комнате.
Старушка дергает старика за рукав.
– Пусть они вдвоем поговорят об этих книгах, – шепчет она. – Пойдем пока.
– Вот еще! – тоже шепотом возражает ей старик. – Что ж, я со своим кровным сыном и поговорить больше не умею? Господи, ну и времена!
– Тише ты! – обрывает его жена и выталкивает за дверь.
Ялмар Серенгард снова останавливается против Марты.
– Ну, прочла?
– Да… – отвечает она, все еще смотря в журналы, которые дрожат в ее руках. Губы у нее тоже дрожат. Все лицо ее залила густая краска.
– Красиво?
– Д-да… я думаю… красиво.
– Ты думаешь! Читая поэзию, думать не следует. Скажи лучше, что ты почувствовала?
– Ничего… Я ничего не поняла…
– О, sancta simplicitas! [9]9
О, святая невинность! (лат.)
[Закрыть]Неужели стихи нужно понимать! Современная импрессионистская поэзия! Она говорит языком субъективным, действует непосредственно на чувства, на душу, на сверхчеловеческое бытие человека. Скажи, Марта, ошибаюсь, ведь тебя зовут Марта? Ну скажи, не видела ли ты, как вокруг тебя летали нежные, прозрачные, эфирные существа? Разве сирены, нимфы и наяды не плескались вокруг тебя в серебряных волнах облаков, озаренных лунным светом? Разве не слышала ты вдалеке божественную музыку, подобную симфонии Бетховена, или скрипке Паганини, или Эоловой арфе, или вальсу Штрауса? Скажи, ты видела, ты слышала?
Марта, будто в испуге, отступает на несколько шагов. Она смотрит вправо, смотрит влево, бросает растерянный взгляд через плечо. Качает головой.
– Нет, ничего не слыхала, не видала…
Вздохнув, Ялмар Серенгард берет из рук Марты свои тетради, сворачивает их и сует в карман, потом снова садится на прежнее место.
– Кому ни дашь читать, – никто ничего не видит и не слышит. Я, видимо, на полвека раньше, чем нужно, родился на свет. Сейчас меня не понимают, но потом мои труды… мне будут воздвигать монументы – из белого итальянского мрамора… Изваяние мое будет стоять на высоком пьедестале и будет смотреть на вечно синее море, где плещутся голые нимфы и сирены… Но все-таки хоть какой-нибудь аромат ты почувствовала – нежный запах роз, фиалок? Тоже нет! О, проклятье судьбы быть поэтом!
И, воодушевляясь таким образом, он все внимательнее вглядывается в лицо Марты. Его все больше привлекает здоровое, обветренное, покрытое нежным румянцем лицо деревенской девушки. Он постепенно становится тише, говорит спокойнее, взгляд его делается каким-то скользким, настороженным.
– Ну, что это ты все прячешься в углу? – обращается он к ней довольно учтиво, как бы спустившись с высот на землю. – Не прячься. Хотя в тебе нет ни благородства Елены, ни страстного огня Клеопатры, но все же есть кое-что, могущее на миг заинтересовать и возбудить в мужчине некоторые инстинкты, о которых пишет Мантегацца и Вейнингер… Подойди поближе. Я не хочу лишать себя такого наслаждения, которое испытывает мужчина, погружая свои взоры в гармонию женских форм. Иди же, я тебя зову!
И когда Марта еще больше съеживается, он встает, берет девушку за руку, ведет ее к столу и снова садится.
– Так. А теперь отними-ка руку от лица. Мне кажется, что мы знакомы целую вечность. Или я ошибаюсь?
– Что ты мелешь! – восклицает Марта, мгновенно вскипев. – Знакомы? Только знакомы? А давно ли, скажи, ты мне через день письма писал? Разве ты это позабыл?
– Женщины очаровательнее всего тогда, когда они сердятся, – спокойно философствует Ялмар Серенгард, предоставляя глазам своим то наслаждение, о котором он только что говорил в такой форме, что Марта снова вспыхивает и закрывает лицо передником. – Нет, я ничего не забыл. То есть мое внешнее «я», может быть, и забыло, но в глубине моего существа каждое переживание и каждое наслаждение лежит и выкристаллизовывается в ожидании часа поэтического экстаза, чтобы подняться из глубин на вечный свет ослепительного искусства.
– Не бреши! Говори так, чтобы человек мог тебя понять! – снова вспылила Марта, но тут же спохватилась.
Ялмар Серенгард снисходительно улыбается: «Tout comprendre, c'est tout pardonner», [10]10
Все понять, значит все простить (франц.).
[Закрыть]как сказано в иностранном словаре… то есть как говорит французская поговорка. Как можете вы, смертные, понять ход мыслей и манеру выражаться, свойственные олимпийцу…
Он умолкает, ибо взгляд его приковывается к бутылке на подоконнике. Ялмар несколько раз поворачивается к ней, потом, взяв ее, вертит в руках.
– Это, несомненно, беленькая…
– Ты… видно, только насмехался надо мной… – тихо говорит Марта. Но в голосе ее звучит та угроза, которая слышна в реве тигрицы и в мяуканье кошки, когда человек слишком близко подходит к ее логову.
Ялмар Серенгард занят своим делом – он берет с подоконника чайный стакан, наливает в него из бутылки, пьет, крякает.
– Кошмарный напиток! И тем не менее мы, богом избранные жрецы, вынуждены его пить, ибо народ еще не дорос до своего совершеннолетия и не может еще выплачивать нам пенсию вечности или, по крайней мере, выписывать на праздник для нас, избранных, по бочонку вина из Венгрии, Къяхты или Малаги. Нам полагается нектар и амброзия, а мы вынуждены пить эту вонючую, гнусную монополку!
Наливает и снова пьет.
– Ты не думай, что я тебя презираю, – словно вспомнив о ее словах, обращается он к Марте. – Ничуть. Я принадлежу к тем людям, девиз которых: «Пользуйся мгновением». Наслаждаться там, где представится случай и при любых обстоятельствах. Поди же сюда!
– Что? Куда?
– Иди, сядь ко мне на колени.
– Что? К тебе на колени?
– На колени! Я говорю – на колени. Ты не стесняйся. Мы, поэты, умеем найти каплю меда даже в самых простых полевых цветах. Мы признаем даже самую простую, нестилизованную, хаотическую, варварскую красоту. Иди же!
Правой рукой он наливает из бутылки, пьет, а левой тем временем берет руку Марты и тянет девушку к себе.
И тут происходит то, что уже сотни раз происходило в подобного рода случаях – нечто совершенно неизысканное и варварское.
– Пусти, скотина, – кричит Марта не своим голосом и вырывается. От злобы и волнения лицо ее на мгновение совершенно побелело. – Обманщик! Подлец!
Она поворачивается и выбегает из комнаты, будто у нее под ногами земля горит. От неожиданности Ялмар Серенгард проливает оставшееся в стакане себе на рукав.
В дверях появляются старик и старушка. Они подходят к Ялмару Серенгарду, то и дело оборачиваясь в сторону выбежавшей Марты.
– Что это вы? Поссорились? – озабоченно спрашивает старушка.
– Между нами подобных отношений быть не может, – демонически усмехаясь, отвечает Ялмар Серенгард. – Слишком велика дистанция между нами. Я стою на вершине Гималаев, а она в самой низине Ганга… А вы-то знаете, что такое – Ганг? А?
Старушка смущенно теребит передник.
– Я… Я… Может, знала в былые времена… Нынче голова у меня дырявая. Может, ты, старик, помнишь? Ты ведь раньше повсюду бывал…
Старик чешет затылок.
– Позабыл… Да, раньше – раньше другое дело. Где я только не бывал! Ездил до самой Валки, до эстонцев, землю литовцев объездил вдоль и поперек. На Псковском шоссе там, в одном месте, была Ганская мельница – может, это и есть…
Ялмар Серенгард переводит взгляд со старушки на старика и обратно. Иронически улыбается, наслаждаясь плодами своего интеллектуального превосходства. Но когда старик замечает, что бутылка в руках сына принимает горизонтальное положение, он, подавляя смущение, придвигает стул и садится.
– А! – с радушной улыбкой говорит он. – Попробовал? Это хорошо. Взрослому человеку надо выпить – это я всегда говорил. Выпей, выпей и мне налей! Это я для тебя вчера принес бутылочку.
Ялмар Серенгард пьет, но забывает налить отцу. Стакан он держит в руке.
– Но разве ты не закусишь? – Старушка подходит ближе к столу. – У меня в печи превкусная телятина. Пироги есть… Да что это я разболталась! Подавать надо, и все тут.
Она спешит к печи, достает блюдо с мясом, покрытое опрокинутой миской, и решето с пирогами.
– Отведай, сыночек, отведай, – подбадривает Ялмара старик.
– Телятина… пироги… – Ялмар Серенгард с уничтожающей иронией кривит рот и смотрит на стол. – И нет ни ножа, ни вилки!
– И правда, сыночек, нет у нас этих самых вилок-то. А нож – о господи! Ножа тоже нет! Старик, дай-ка ты свой ножик. А ну-ка, живо! Отведай, сыночек, пирогов моих. Из самой белой пшеничной муки испекла.
Старик вынимает из кармана штанов нож, открывает его, обтирает и кладет на стол. Ялмар Серенгард принимается за еду, но ест с таким кислым видом, что кажется, будто все существо его полно пренебрежения к каждому куску, который он отправляет в рот.
Старушка стоит около сына и, сложив под передником руки, смотрит на него. Счастливая улыбка на ее лице говорит о том, как она рада, что сын не побрезговал ее угощением.
Старик откашлялся и облокотился на стол.
– Нынче у нас хороший год… Весь сарай доверху набили сеном… да. И сено лучше, чем летошнее. Осока местами по сих пор… Осоку, правда, скотина не любит, но ничего, на подстилку…
– Когда есть клевер, скотина осоку не ест, – вмешивается старуха. – А когда нету – и стебелька не оставит. Как в летошний год – не хватило и в ясли положить.
– Ну, как же. Скотина тоже может разбаловаться, как и человек. Когда полно добра, – худое не ценят… Да… Но вот не знаю, как рожь нынче наливаться будет: когда цвела, налетел ветер да с ливнем. Это добра не сулит. Посеять мы хорошо посеяли. Пар подняли, боронили вовремя… Навоза, правда, маловато было… а известное дело, когда навоза нет, нет и хлеба…
Ялмар неожиданно закрывает рот рукой. И непонятно – подавился он или смеется.
– Что с тобой, сынок? Поперхнулся? Надо по спине похлопать. – И старушка делает попытку подойти к нему.
– Ты лучше выпей, тогда все пройдет, – советует ему старик.
Ялмар Серенгард отталкивает руку старушки и принимает совет старика – наливает стакан и пьет.
– Да-да… вот они какие дела, – снова начинает старик. – На позапрошлой неделе продали годовалого барана и двух ягнят. Цены за них настоящей не дали, но пришлось все-таки продать… Надо было уплатить подушную подать. В этом году большая подушная подать: пять рублей с копейками. Д-да… За тебя тоже внесли. Скажи-ка, Юкум, как это получилось, что ты за прошлый год не уплатил подать? Разве писарь не прислал тебе извещение?
– Нет.
– Вот тебе и раз! Что за человек! И за что только волость ему деньги платит! Говорят, ему еще пятьдесят рублей прибавили. А ведь он даже не сообразит извещение послать!.. И знаешь, Юкум, столько мы с этим сраму натерпелись, столько сраму… Пошел я в волость, а писарь этот самый, будь он проклят, писарь этот и показывает мне: вот полюбуйся, твой сын занесен в список должников. Я, говорит, в полицию сообщу, этапом велю его вернуть в волость. Прихожу я домой и говорю своей старухе: так, мол, и так, мы срамить свое дитя не дадим. Что бы там ни было, а уплатим. Ведь сын же нам отдаст.
– Да! – подтверждает старушка. – И я говорю, приедет Юкум, он нам вдвое, а то и втрое больше отдаст. Ведь этакое жалованье получает, что ему пять-шесть рублей!
Ялмар Серенгард ест уже лениво. Но все же, заглянув еще раз в миску, он как бы нехотя берет пальцами еще кусок.
– Пять-шесть рублей… Разве это деньги? Это подаяние нищему! Пять, шесть тысяч должен был бы мне народ ежегодно выплачивать. А впрочем – мне наплевать на деньги! Мне деньги не нужны! Я не раб мамона.
Старик весело смеется.
– Ну и шутник же наш Юкум: ему деньги не нужны! Послушай, старуха, что это ты тащишь? Ах, да… она все с барахлом своим возится!
А старушка тем временем вынула что-то из-под кровати. С торжественной таинственностью, сияя от радости, осторожно несет она сверток и кладет на стол.
– Вот, сыночек… полотно… сама ткала, да шить не стала: ведь я не знаю, какие рубашки носят в городе. А это – две пары носков…
– Ты только погляди! – Старик, улыбаясь, указывает на подарки. – Так вот над чем ты просиживала ночи напролет, А я-то и не догадывался!
Ялмар Серенгард скосил глаза на разложенные перед ним вещи. Он потянулся и небрежно пощупал полотно рукой.
– Подумаешь, добро какое…
Старушка вздрагивает и сникает. Старик от неожиданности закашлялся.
Ялмар Серенгард, окончив еду, встает.
– Невыносимая атмосфера… Неужели нельзя хоть окно открыть?
– Нет, нет, уж лучше окно не трогать: скобы совсем заржавели. Мы как-то раз его открыли, рама упала в крапиву – и стекло вдребезги. Пятнадцать копеек стекольщик взял с нас за новое стекло.
– Будет врать-то, – перебивает его старушка. – Тринадцать.
– Не спорь, я лучше знаю: сам платил. Один гривенник, одну старинную монету в три копейки и одну в две копейки. Сколько же это – тринадцать или пятнадцать? Пусть Юкум скажет, он лучше нашего считать умеет.
Ялмар Серенгард, внимательно слушавший этот разговор, снова прикрывает рот рукой. И снова нельзя понять, смеется он или кашляет.
– Опять! – пугается старушка. – Что это с тобой?
– А ты что смотришь? Даешь парню сухое мясо да пироги! – сердится старик. – Лучше бы сварила что-нибудь пожиже.
– Ох! И как это мне в голову не пришло! Эх, голова моя дырявая.
В этот момент во дворе слышится колокольчик извозчика.
– Это, сыночек, верно, твой кучер? – спрашивает ошеломленный старик. – Чего же он ждет? Почему не уезжает? Может быть, ты позабыл дать ему на чай… Дай, мать вынесет…
– Да, сыночек, я мигом.
Ялмар Серенгард, махнув рукой, надменно объявляет:
– Не надо. Я сейчас уезжаю.
– Как? Неужели ты хоть один-единственный денек не побудешь с нами? – Старушка гладит Ялмара по плечу. – Останься хоть до утра.
Ялмар Серенгард резко качает головой.
– Это невозможно. В такой атмосфере… Это было бы против моих принципов. Поймите: против моих принципов. Эта атмосфера… эта обстановка… эти люди… они оскорбляют мои эстетические чувства… Я поэт… Понимаете: поэт! Я не могу быть где попало, как попало… Нет, не могу. Это противоречит моим эстетическим чувствам и моим принципам. Понимаете! – Он обрывает свою речь, в которой уже заметно ощущается присутствие содержимого опустошенной бутылки, и смотрит в окно.
– Скажите, вот та, что там идет, разве это не… ну, как ее звать?
– И, сынок! – с упреком в голосе замечает старушка. – Разве ты не узнаешь Марту! Это же Марта, дочь нашего хозяина, с которой ты вместе пас свиней.
– Ах да, Марта. Теперь я вспоминаю. Вам нечего удивляться, если я позабыл: сколько идей, сколько проблем бродят в моей голове и ждут разрешения! Где же мне помнить имя какой-то деревенской девчонки!
– Ну конечно, сыночек… – заикаясь, говорит старушка. – Конечно… Мы и сами видим, что тебе не больно нравится у нас… Мы простые, темные, деревенские, а ты в городе привык с образованными… И все же насчет Марты не сомневайся… ни, ни! Она тоже образованная: почти полные три зимы ходила в волостную школу. Читает, как сам священник, и газеты, и книги… Вечерами зимой все собираемся ее слушать. И бывает, так смеемся, так смеемся…
– Гм… да, – бурчит старик и осторожно вынимает из миски кусок мяса. – Иной раз от смеха в животе колики.
– И работящая, надо тебе сказать! Как птичка, как ртуть, подвижная и целый день хлопочет. Мать больна, так она одна со всем решительно в доме справляется. Такое усердие не часто встретишь в наши дни. Я тебе вот что скажу: счастлив будет тот парень, который ее возьмет.
Ялмар Серенгард усмехается.
– Да, в берущих, видимо, недостатка нет…
– В желающих, сыночек, в желающих. Но она – ни с кем, ни-ни-ни. Ни столечко! У меня, говорит, есть друг детства, того и жду… Она ведь, сыночек, о тебе только и говорит…
– Обо мне? – У Ялмара Серенгарда опускается угол рта.
– Да… А нам она, могу тебе сказать, будет дочь родная… Ведь она, сыночек, на тебя одного надеется… Если бы ты ее взял, ты бы не пожалел, вот мое слово.
– Да я и намеревался взять. Марта, сказал я, иди, садись ко мне на колени… Хе-хе, – она грубо выругала меня и убежала.
– И, сыночек, зачем же ты этак сделал! Неужто нынче так можно… Поженитесь, тогда уж…
– Что ты сказала: по…?
– Поженитесь, ну да. Разве приличной девушке подобает этак…
– Пожен… – Ялмар Серенгард закрывает рот рукой и отворачивается. Но теперь он больше не в силах владеть собой. Он вскакивает.
– Жениться!.. – кричит он и прыскает со смеху. Корчась и изгибаясь, он хохочет, позабыв о своих эстетических чувствах и гордой осанке.
У старика мясо вываливается из рук. Он тоже быстро вскакивает.
– Мать! – Голос его дрожит от гнева. – Что ты тут болтаешь! Ведь он все время издевается над нами.
Ялмар продолжает смеяться, расхаживая по комнате.
– Ну, сыночек… – Старушка тоже обижена. – Над отцом с матерью смеяться нельзя – это грех. И над Мартой тоже нельзя смеяться: она девушка честная.
– Честная, да… – Ялмар все еще не может успокоиться. – Да, все они неповоротливые и честные, эти деревенские простушки, как коровы, которых они доят. И когда поэт, бессмертный средь людей, подобно Пану удостаивает ее чести и говорит: сядь ко мне на колени, – она с руганью убегает. А где же воспитание! Где понимание того вечного, изысканного наслажденья, делающего человека похожим на фавна и веселого Эроса и… и прочих богов. Такая женщина просто грубый, сырой кусок мяса. Она не понимает, что только через мужчину она обретет содержание и значение, что только через мужчину она может пасть и снова подняться… Да я плюю на такое существо! Моя высшая сущность, мое трансцендентальное «я» жаждет иных наслаждений. Я люблю женщин, смело и открыто служащих своему высшему, божественному назначению.








