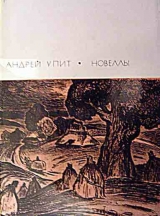
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Андрей Упит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 50 страниц)
– Ату-у! – орут ребята, свистят, хлопают в ладоши.
Но постепенно гвалт затихает. Сосняк тянется на добрую версту и густо порос можжевельником и крушиной. Ноги проваливаются сквозь мягкий и глубокий снег в вязкое болото, загонщики устают. Бегут они как придется, один за другим, но бегут решительно все.
Они уже давно позабыли, что им нужно всего лишь поднять одного зайца. Им кажется, что созваны они сюда для очень важного дела. Они как полоумные несутся сквозь кустарник, через сугробы, рвы и болотца… Ноги вязнут, дыхание спирает, кровь стучит в висках, в глазах рябит, и впереди ничего нельзя различить, но нужно бежать, бежать…
Вот раздается хруст веток, хлюпает грязь, с деревьев сыплется снег… Охотники крепче сжимают в руках ружья – вот-вот покажется… вот-вот… Сейчас должен показаться заяц…
– Ату! – орут охрипшими голосами ребята.
Выбегает на опушку один загонщик и, ошеломленный, с открытым ртом, останавливается, поворачивается, не зная, что делать. Ничего не нашли…
– Ату! Ату!..
Но должен же показаться заяц!
Должен, а не появляется.
Один за другим выходят на опушку унылые, понурые загонщики. Никто ничего не видел. На лицах у них написаны разочарование, усталость… Мокрые, забрызганные грязью ноги, оборванные оборы постолов, исцарапанные лица, разорванная одежда. Всех разбирает стыд за безумную бесполезную беготню и злоба на мерзкое, подлое и хитрое животное, на подлого зайца.
– Проклятая тварь! – вполголоса ругается Плаука.
– Бежал как дурак, – говорит Лапа, – а он нет, чтобы… – Лапа неожиданно замолкает и хватается за голову – шапки нет.
– Тьфу, пропасть! – ворчит он и идет обратно к кустам, оглядываясь по сторонам.
Охотники и загонщики с жаром обсуждают, куда мог деваться заяц, спорят, волнуются, бранятся…
Лесник, запыхавшись, бежит к господам.
– Ушел… – сообщает он хриплым испуганным голосом и беспомощно, словно извиняясь, разводит руками.
– Что? Где же он? – строго вопрошает господин барон.
Лесник съеживается и становится совсем маленьким.
– Ушел!..
– Хорошо, ушел… но куда?
– Туда… – Лесник неопределенно машет рукой.
– А ты точно знаешь?
– Точно… Следы… и еще видел на пригорке – словно что-то шевелилось.
– Большой?
– Не знаю… Известно, большой… Пойдем туда?
– Конечно, сюда ведь он не придет.
Охотники и загонщики собираются двинуться в путь, но тут из сосняка снова доносится треск. Охотники в мгновение ока срывают ружья с плеч, взводят курки, загонщики отходят в сторону – у всех глаза загораются надеждой и нетерпением.
Кусты раздвигаются, господин барон еле сдерживается, чтобы не нажать гашетку. Выбегает – Бадер… Непокрытая голова свесилась на грудь, шарф размотался и развевается по ветру. У самых колен болтается оторванный карман. Бадер промок до нитки, так что с него капает вода, и весь в грязи. От одышки глаза у него налились кровью, на лице видны синие жилки, глаза глубоко запали и мрачно блестят. Натолкнувшись на загонщиков, он останавливается и тупо смотрит на них.
В толпе раздаются сдавленные смешки.
– Пустите его, – кричит один, – он поймает… он один зайца поймает.
– Он поймает, уж он-то поймает!
– Здорово ты выкупался, а? – спрашивает другой.
Бадер ощупывает себе бока.
– Провалился немного…
Снова смех. Бадер, согнувшись, прижимает руки к груди и. вздрагивая всем телом, надрывно кашляет.
И снова все бегут на пригорок к усадебному выгону. Это поросший кустарником луг, площадью в пять-шесть квадратных верст. И пока охотники бредут в ту сторону, выстроенные в ряд загонщики, промокшие и дрожащие от холода, поминают последними словами проклятого зайца.
Тем временем собирается дождь. Туман становится гуще и гуще. Кажется, что свинцовые тучи опускаются все ниже, прямо на мокрый снег. Время едва перевалило за полдень, а темно, как в сумерки. Угрюмы заснеженные пригорки и кочковатый выгон. С ветвей падают, уныло шелестя, крупные тяжелые капли и пробивают в снегу желтые ямки. Вдали каркают вороны.
Наконец раздается долгожданный выстрел, и загонщики снова бросаются в кустарник.
– Ату! Ату! – орут подростки. У псаря собаки вырываются и как ошалелые мчатся в кустарник. Лай, визг, вой… У одной собаки смычок зацепляется за куст. Она встает на задние лапы, рвется, воет, пока не падает наземь со сдавленным горлом, переворачивается и замирает. Глаза у нее закатываются, язык вываливается из пасти.
Измученные загонщики ломают строй, сбиваются с пути и все равно бегут, бегут, чтобы не отстать, чтобы настигнуть то. что недавно упустили…
Впереди раздаются выстрелы – один, еще один, еще и еще – подряд четыре выстрела. Собаки воют, почуяв добычу, загонщики орут…
– Ату!.. Ура!
Выбежав на опушку, загонщики видят, что охотники стоят все в куче, размахивают руками, горячо спорят и смотрят на речку. Оба берега ее поросли мелким кустарником, откуда ведет заячий след, местами окрашенный кровью.
Ну, по крайней мере, это чудовище ранено!
При виде крови усталые охотники и загонщики приободряются.
Трубит охотничий рог, но дребезжащие звуки застревают в густом тумане, и ни одна собака не возвращается. Бадер кашляет не переставая. Его сиплый голос напоминает собачий лай.
Теперь зайца гонят по берегам реки. Охотники стоят попеременно то на одном, то на другом берегу, продрогшие, сердитые, хмурые. Каждый из них готов зубами загрызть эту бессовестную тварь.
Кое-кто из охотников и загонщиков замечает зайца, раза три или четыре по нему стреляют, а он все-таки уходит…
Туман становится все более густым и влажным. Накрапывает мелкий дождичек. На заснеженные поля лениво спускается вечер. Люди бесшумно, как привидения, бродят по крутым берегам речки.
Плаука так устал, что ему до смерти не хочется спускаться вниз. Он медленно тащится по вытоптанной опушке кустарника, опираясь на большую суковатую палку. Глаза его безо всякого выражения глядят на снег. Неустанно бунтующая в нем злоба затаилась где-то в глубине – и на душе у него так тоскливо, так мрачно, так тяжело…
Вдруг он замечает, что в снегу под ногами что-то шевелится. Сперва он пугается, вздрагивает, но потом глаза его расширяются, и он замирает на миг. В снегу ворочается подстреленный, истекающий кровью заяц…
Улегшаяся было злоба и горечь вспыхивают в нем с новой силой. Суковатая палка поднимается и опускается раз, другой, третий… Маленькое измученное существо сжимается в комок, и на Плауку смотрят два больших блестящих глаза, в которых застыл смертельный ужас. Плаука хватает зайца за задние ноги и колотит о свою суковатую палку. Потом опять смотрит на зверька, который уже перестал шевелиться, и, словно обжегшись, бросает его на снег. Странное что-то творится с ним, не то жалко кого-то, не то стыдно. Он вытирает лицо и руки снегом и зовет охотников и загонщиков.
Еле переводя дух, усталые, оборванные, с исцарапанными лицами, забрызганные грязью, замерзшие охотники и загонщики сбегаются и становятся полукругом.
– Последний выстрел был мой… – прочувствованно изрекает господин барон, берет зайца за задние ноги, поднимает его над головой и снова бросает на землю.
Вот он лежит перед ними – этот страшный, бессовестный, упрямый заяц, – с простреленным телом, перебитыми ногами и размозженной головой.
И стоящие кругом люди невольно отодвигаются подальше от маленького зверька, который неподвижно лежит перед ними на красном от крови снегу. Они чувствуют, что опять бегали зря, опять не поймали то, что так жаждали поймать, не убежали от того, от чего хотели убежать, и опять терзает их тот же неразрешенный вопрос.
Тем временем становится совсем темно. Моросит мелкий дождь, не переставая, монотонно, бесшумно. Темнота все сгущается. Кажется, что исполинская птица, распластав крылья от одного края неба до другого, опускается все ниже и ниже… Вот черные крылья коснулись апарских охотников и загонщиков, и толпа постепенно сливается в одну неразличимую темную массу. И только где-то вдали хрипло лают собаки. Они все ищут добычу.
1903
РОМАНТИК
Домик, в котором помещалось ателье лайценского фотографа Микелиса Майгайса, стоял возле самого базара. Из окон была видна немощеная базарная площадь, кучи мусора по краям ее, а на середине – колодезная будка с покосившейся крышей. В базарные дни под окнами фотографа стояла повозка курземской крестьянки, торговавшей топленым молоком, крупой и живыми поросятами, а рядом высокий, в человеческий рост, воз баранок, по которым прямо в сапогах лазил продавец, скрипучим голосом без устали предлагавший свой товар. На концах поднятых оглобель раскачивались связки баранок – их было видно с любого конца площади. Издали ярко блестели вывешенные напоказ куски бледно-красного мяса, пучки моркови, горы кочанов недозрелой капусты, со всех сторон пронзительно визжали поросята, кудахтали куры, крякали утки, гоготали гуси. Всюду суета, волнение, брань… Только серое облако пыли неторопливо поднималось над землей, покачивалось над серыми и зелеными крышами, обволакивало связки баранок, привязанные к оглоблям, и снова медленно опускалось.
В такие дни Микелис Майгайс не подходил к окну. Ему опротивела и эта грязная базарная площадь, и эти красные куски мяса, и эта пыль, и невыносимый запах, и тучные торговки с загорелыми щеками, которые лоснились, словно поздние румяные яблоки на солнцепеке. С самого утра он садился у единственного окошка, выходившего во двор, и нервно прислушивался, не пришел ли кто. Его чуткий нос заранее улавливал запах селедки, соленых огурцов и поросят.
– Тьфу! До чего прозаичен и безобразен этот мир!
Через выходившее во двор окно, вернее, маленькое оконце, была видна река, протекавшая сразу за забором. Медленно, лениво и бесшумно, словно полузастывший расплавленный свинец, скользила широкая лента реки. Иногда вдоль ближнего берега, покачиваясь на воде, проплывал помятый чайник или другой негодный предмет. По ту сторону поднимался крутой голый берег, на котором росла старая кривая липа. Внизу плавала стая гусей, – словно белые точки, на сером фоне берега мелькали они там целыми днями. Медленно двигался в гору одинокий проезжий, и вяло, словно нехотя, тянулась за ним желтая полоса пыли.
Однообразно… душно… скучно…
В остальные дни Майгайс обычно сидел в другой комнате у стола, дремал и, просыпаясь, глядел на развешанные фотографии. Сегодня утром он даже не взглянул на них, уселся у окна и уставился на противоположный берег, где чуть ниже по течению, у самой воды, было имение. Усадебный парк упирался в реку; там сквозь зелень деревьев и кустов время от времени мелькало что-то белое. В такие минуты у Майгайса вздрагивали усы, кривились губы и по лицу разливалось странное сияние.
Сегодня он должен пойти в имение фотографировать… Около полудня… Он знал, что белое пятно, мелькавшее иногда там, между деревьями, – сама барышня… Может быть, она никак не может дождаться фотографа и выбегает смотреть, не идет ли он… При мысли об этом все тело Микелиса Майгайса обдавало жаром, немели большие пальцы ног, по голове словно кто-то проводил колючей щеткой, и волосы шевелились как от легкого ветерка. Он вскакивал, начинал бегать по комнате – два раза добегал до двери, снова садился и, обхватив голову руками, воспаленными глазами всматривался в даль. В глазах начинало рябить от блеска солнца на воде, который с каждым мгновением становился все ослепительней.
Вот уже третий день, как Микелис Майгайс получил приглашение явиться в имение с фотографическим аппаратом. Уже третий день, как он сидит у этого окна и, не сводя глаз, смотрит в сторону зеленого парка. По ночам он почти не спит, его мучат кошмары, а когда он забывается тревожным сном, то видит дочку помещика в белом платье и с розами в волосах… Короче говоря, Микелис Майгайс влюбился в барышню.
Первые признаки этой болезни появились лет пять тому назад, когда Майгайс только что обосновался в Лайцене и когда барышня еще бегала в короткой юбочке и лазила с мальчишками на яблони. Но тогда дело не приняло еще такого крутого оборота. Настоящая любовь началась с момента, когда произошел тот глупый случай с Дорой Гармат.
Дора была дочерью богатого хуторянина, жившего поблизости. Она приходила к Майгайсу фотографироваться и неизвестно с чего понравилась ему. Он ясно видел, что она длинная, сухопарая, с бесцветными волосами, что левый глаз у нее немного косит, но вот поди ж ты – понравилась, и все тут… На следующее же воскресенье он купил фунт конфет и полфунта шоколаду. Конфеты спрятал во внутренний карман пиджака, шоколад сунул в карман брюк, выпустил из-под шляпы на лоб две длинные пряди волос и отправился на гулянье, устроенное за городом, на выгоне, который почему-то назывался горой. Но напрасно брел он по грязной дороге, напрасно истратил полтинник на конфеты и шоколад. Не дойдя даже до каната, огораживающего место для гулянья, он остановился словно вкопанный и так, не двигаясь, более получаса созерцал то, что там происходило. Что же он там увидал? Во-первых, свою избранницу. Она стояла на бугре, будто Саул, на целую голову выше остальных, и ела пирожное, взяв его с огромного жестяного подноса, на котором было еще несколько порций этого лакомства, а кроме того, три бутылки фруктовой воды, кусок знаменитой лайценской колбасы, стакан с отбитым краем и нож с обломанным черенком. Все это держал в руках сын богатого землевладельца. У парня были огромные черные усищи и клок черных волос под нижней губой. Через танцевальную площадку, отдуваясь, бежал другой молодчик, держа две бутылки в руках и две под мышками, в то время как третий, стоя у буфета, неизвестно с какой целью обшаривал свои карманы и с отчаянием поглядывал на бугор, где стояла девица. А она улыбалась широкой и глупой улыбкой, – улыбалась и тому, чьи пирожные ела, и тому, кто бежал с бутылками, и тому, кто, стоя у буфета, смотрел в ее сторону, и всем остальным, кто был поблизости. Только тогда Микелис Майгайс начал понимать, какова любовь Доры Гармат… Как широкий, но мелководный поток, текла она и захватывала всех, кто был поблизости… Майгайс отвернулся и сел на сырую кочку под кустом черной ольхи. Он сам ел свои конфеты и шоколад и… плакал…
С тех пор он возненавидел всех хозяйских дочек, их смуглые, загорелые щеки, большие, грубые руки и немыслимые платья. Тем горячей влюбился он в барышню из имения. При встрече с ней Микелис Майгайс каждый раз здоровался и, видя ее улыбку, убеждался в том, что и она любит его. Майгайс верил, что только женщинам высших сословий свойственно врожденное понимание красоты, которое выражается в уменье выбрать изящное, хорошо обрисовывающее фигуру платье, прическу, красиво двигаться, улыбаться. Только дочки помещиков читали романы Шпильгагена и Эберса, стихи декадентов и знали толк в том особом очаровании, что таится в магнетическом влечении двух сердец. А кроме того, эти барышни знали и песенку о королевне и королевиче, они умели убегать из дому ради своего избранника…
– Sie mussten beide sterben, sie hatten sich viel zu lieb, [6]6
Они слишком любили друг друга и должны были умереть (нем.).
[Закрыть]– декламировал Майгайс, и слезы навертывались ему на глаза.
Словно наяву видел он все, что должно случиться на том берегу в имении. Вся семья помещика соберется у беседки – сам хозяин, мадам, она и прочие… Помещик по привычке грозно уставится своим единственным зрячим глазом на него, в то время как второй, стеклянный, будет смотреть куда-то в сторону, поверх крыши сарая. Он, безусловно, поймет, что у барышни и фотографа есть какая-то тайна… Его дочь – наследница древнего рыцарского рода, и он – лайценский фотограф!.. Скандал!.. Но Майгайс сделает вид, будто не понимает причины гнева старика, он поставит свой аппарат, подойдет к собравшимся, поклонится, повернет личико барышни к свету, приподнимет подбородочек, посмотрит в глаза… Эх! (Майгайс рысцой пробежал два раза по комнате.) С одного взгляда они с ней поймут друг друга… Этим взглядом будет сказано все – о взаимных чувствах и о том, где они встретятся утром, где вечером, какой дорогой убегут из дому, если понадобится: вверх по Даугаве на лодке, по железной дороге в Америку или Париж или в литовском фургоне в Янишки…
Кто-то взялся за ручку двери, выходившей на базарную площадь. Ничего в эту минуту не могло быть мучительней для Майгайса, чем то, что его хотят потревожить в момент романтических мечтаний. Он схватил аппарат и необходимые принадлежности, выскочил из дому и быстро зашагал к реке. Заблаговременно нанятый им перевозчик сидел у берега на камне и нехотя ел, откусывая от огромного ломтя серого хлеба, называемого в Лайцене белым. Майгайс еще издали окликнул его и бегом побежал к лодке.
Лодочник неторопливо поднялся, сунул недоеденный хлеб в карман куртки, посмотрел на свою тень и медленно, вперевалку стал спускаться по каменистому склону.
– Рановато… – пробурчал он и расправил усы.
– Живей, живей! – торопил его Майгайс, уже успевший усесться в лодке, зажав треногу аппарата между колен, чтобы тот не упал.
Лодочник, словно примеряясь, окунул сперва одно весло, потом второе, снова вытащил их из воды и, прищурясь, стал смотреть, как с весел падают серебряные капли. Потом уселся, плюнул на ладони и принялся медленно грести. Лодка едва заметно удалялась от берега.
Майгайс стиснул зубы от нетерпения и всем телом подался вперед, желая любым способом увеличить скорость невыносимо медленно двигавшейся лодки. Но лодочник, то ли от яркого солнца, то ли еще почему, прищурив глаза, лениво уставился на Майгайса, как будто ему поручили сосчитать крапинки на модном галстуке молодого человека. Майгайс понял, что невозможно заставить бежать быстрей эту серую флегматичную реку, текущую вниз, словно расплавленный свинец. Ни ветерка, ни ряби на воде… Вдоль другого берега еле двигался запоздалый плот. На переднем конце его полячок в белом полушубке, босой и без шапки, изгибаясь, работал большим скрипучим шестом. На его красном лице поблескивали из-под густых бровей маленькие глазки, они с отчаянием наблюдали напрасные усилия: серый поток упорно поворачивал плот к берегу. Через равные промежутки времени из соломенного шалаша, стоявшего на плоту, раздавался низкий хриплый голос: «Лево-о-о».
Майгайс, опустив голову на руки, смотрел назад, на Лайцене. Каменистый берег становился все более пологим, городские домишки словно прижимались к нему. Отсюда не было заметно грязи провинциального городишка, сюда не доходила его вонь. Серые и зеленые крыши чуть поблескивали на солнце. Надо всем нависла удушливая неподвижная одурь, и, словно из тумана, время от времени появлялась долговязая фигура Доры Гармат с блекло-рыжеватыми волосами и широкой глуповатой улыбкой на лице…
Лодка не успела причалить, как Майгайс уже выскочил на берег, крикнул лодочнику: «Жди!» – и рысцой пустился вверх, вдоль ограды усадебного парка. От подъема на крутой пригорок и от волнения у него прерывалось дыхание, пот градом катился со лба. Между домиком привратника и господским погребом у ворот, ведущих во двор усадьбы, он на минуту остановился перевести дыхание и поправить галстук. Потом утер пот, выпустил на лоб прядь волос и, слегка пошатываясь, двинулся по дорожке к подъезду помещичьего дома.
Из-за какого-то заборчика выскочил большой лохматый пес с разинутой пастью и высунутым языком. Он обнюхал Майгайса и его аппарат. Равнодушно, даже нехотя, словно выполняя какую-то неприятную обязанность, куснул фотографа пониже колена, потом столь же равнодушно принялся гоняться за курами.
Помещик, сидя на веранде в плетеном кресле-качалке, читал в «Дюна цайтунг» о травле зайцев. Потревоженный кудахтаньем, он сердито поднял голову. Видимо, он принял Майгайса с его аппаратом за странствующего шарманщика, потому что тотчас замахал в его сторону газетой, будто отбиваясь от назойливой мухи, и громко закричал:
– Не надо… не надо! Пожалуйста, не шумите здесь! – После чего совсем скрылся за газетой.
Майгайс, собравшись с духом и откашлявшись, подошел ближе…
– Извините, сударь, но меня известили… Вы сами велели мне прийти…
– Кто велел приходить? – Помещик ничего не мог припомнить.
Так и так, – Майгайс принялся рассказывать и объяснять. А сам тем временем одним глазом посматривал на окна, а другим на кусты – не видно ли где белого платья… Нет, но видно… Должно быть, бедняжка от радости и стыда спряталась…
Наконец помещик понял, кивнул головой, положил газету и спустился с веранды.
– А ваш аппарат хорошо снимает? – спросил он и недоверчиво посмотрел на Майгайса.
– Очень хорошо… новейшая система… – пояснил Майгайс и, глядя в чащу парка, невольно привстал на цыпочки.
Помещик, следя за взглядом Майгайса, тоже поднял голову и, посмотрев на прибитую четырьмя гвоздями к стволу клена птицу, стал объяснять:
– Сова… Вчера утром убил – унесла трех цыплят… А давно ли вы занимаетесь фотографией?
– Пятый год.
– Гм… ну, попробуйте… Я не люблю плохой работы.
– Не извольте беспокоиться, останетесь довольны.
– Гм… пойдемте.
Он пошел вперед, Майгайс за ним – по дорожке, ведущей к конюшням и сараям. Майгайс, глядя на величественную осанку помещика, представил себе события ближайшего будущего, и постепенно волнение его улеглось, стало даже как-то радостно на душе.
Но куда же направляется помещик? Неужели он хочет фотографироваться со своей семьей на фоне сарая? Майгайс весело улыбнулся, но спросить об этом ему показалось невежливым. Он уже не искал взором барышню, он шел потупясь, ясно чувствуя, что где-то из-за куста сирени или акации за ним следит пара карих глаз, что бледное нежное лицо пылает от страшного волнения…
Деревья и кусты, кусты и лужайки – какое обилие зелени в этой усадьбе! Сверкнет поворот дорожки между кустами – и снова исчезнет, выступит из чащи ветвей угол дома или часть крыши – и снова спрячется. Где-то тут, рядом, слышен разговор, раздаются шаги, но только на мгновение, – и волна, тихо шелестящая волна все уносит и заглушает. Только знакомый запах хлева и конюшен становится все явственней и резче, так что Майгайс даже несколько раз кашлянул.
Наконец они очутились на маленькой квадратной площадке. На эту площадку выходили задние стены конюшен и хлева, между строениями зеленела трава. Вся площадка была покрыта клочьями прошлогодней соломы, а между ними поблескивали кое-где продолговатые лужицы застоявшейся коричневато-зеленой навозной жижи. Возле ближайшего строения, в собачьей конуре или свином закутке, шевелилось и скулило что-то мохнатое.
Майгайс обвел все это одним рассеянным взглядом и зажал нос, не в силах вынести запаха, который разливался отсюда во все стороны. Он еще не понял, зачем привел его помещик.
– Ну, приготовьтесь… – сказал помещик. – Гм… пойду позову жену и барышню…
Помещик ушел, а Майгайс остался возле своего аппарата. В воображении его пронеслись все мечты, начиная со взгляда, устремленного в самые очи, и кончая ночным побегом на лодке, по освещенной луною реке… Эх, – он протянул руки вперед, – что пламень мира сего в сравнении с жаром, пылающим в его душе!
– Ну как, приготовились? – неожиданно услыхал он грозный голос помещика.
Майгайс обернулся, как ужаленный, и, несмотря на полуденный зной, примерз к месту. В нескольких шагах от него на дорожке виднелись два зонтика – один красный, с черной ручкой, другой белый, с блестящей никелированной ручкой и серебряной бахромой. Под красным зонтиком – тучная, обтянутая серовато-рябеньким платьем фигура, под белым – создание эфирное, стройное, грациозное, с огромным букетом цветов на груди. Рассмотреть лица было невозможно, так как прижатые к носу платки совершенно скрывали их.
Майгайс настолько оторопел, что лишь приподнял шляпу, открыл рот и… не издал ни звука… Он стоял и смотрел и не заметил даже, как прилетевшая из хлева муха уселась у него на лбу.
Помещик презрительно наморщил лоб.
– Поторопитесь… поторопитесь… – раздалось из-под белого зонтика.
Земля под ногами у Майгайса дрогнула и заколебалась. Как? И она тоже торопит его! Должно быть, и у нее закружилась голова в его присутствии. Но куда же они станут?.. Что ему здесь фотографировать?
– Может быть, вытащить ее оттуда? – спросил помещик, глядя на фотографа.
Фотограф вопросительно посмотрел на помещика.
Тогда помещик, пожав плечами, подошел к собачьей конуре или свиному закутку и одного за другим вытащил оттуда большую черную и невероятно худую суку и четырех грязных щенят.
– А так можно будет? Но, будьте любезны, установите аппарат. Что вы разинули рот?! Может быть, вы хотите сначала условиться о цене? Я привык платить, сколько требуют. Несколько лет назад меня фотографировали с этой же сукой – в тот раз у нее было два щенка, – я заплатил тогда пять рублей и дал полтинник на чай. Ведь это вполне достаточно!.. Но работа должна быть отличной, я люблю во всем порядок… Леди, ruhig. [7]7
Спокойно (нем.).
[Закрыть]
* * *
– Папа, этот человек, кажется, уснул! Скорее!.. – повелительно прозвучало из-под белого зонтика, а из-под красного словно эхо раздалось:
– Ах, скорее же!..
Вдруг стало темно, и Майгайс увидел, что темноту прорезают огненные полосы. Ничего не понимая, он принялся негнущимися пальцами устанавливать аппарат.
Но все валилось у него из рук. Почему-то вспомнил, как однажды в цирке гримасничали и паясничали клоуны, целые полчаса устанавливая американский фотоаппарат. Ему казалось, что вот-вот раздадутся смех зрителей и аплодисменты.
– Да поторопитесь же… – уже совершенно потеряв терпение, понукал его помещик. – Здесь от одного запаха умереть можно.
– Сию минуту…
– Редкой породы экземпляр, – сказал помещик, указывая в сторону, где сидела, печально опустив морду, сука, а щенята тем временем барахтались и скулили. – Пятьдесят рублей за нее отдал… Щенится каждый год – по три, по четыре…
Сука поднялась, прихрамывая, потащилась к своим детенышам и стала их облизывать.
– Живей… – поторапливал помещик. – Она уйдет.
Майгайс сорвал с объектива аппарата крышку и снова надел ее. Потом залез под черное покрывало будто бы для того, чтобы посмотреть, хорошо ли получится фотография. Но он знал уже: щенята все четверо видны, а у суки виден только кончик хвоста.
– Ну? – нетерпеливо спросил помещик.
– Хорошо… – словно из могилы раздалось из-под черного покрывала.
Вылезая наружу, Майгайс чуть не опрокинул аппарат. Бледный и потный, он продолжал суетиться вокруг него.
– Фи, до чего же скучный человек! – сказала барышня вполголоса, но так, что все услышали.
Зонтики скрылись за кустами…
На берегу на камне по-прежнему сидел лодочник и ел хлеб. Вдруг он увидел Майгайса. Фотограф вихрем несся вниз по пригорку, размахивая аппаратом и встряхивая его так, что внутри все стучало и звенело. Он бежал не к лодке, а прямо к реке. Лодочник посмотрел на воду, посмотрел на Майгайса, покачал головой и не спеша откусил от куска. Прищурив глаза, глянул на солнце и, видимо, решил, что теперь самое время купаться.
Но фотограф топиться еще не собирался. У самой воды он круто повернул и плюхнулся в лодку.
– Поехали! Поехали! – простонал он и сник в бессилии.
– Нда… придется ехать… – Лодочник медленно опустился на свою скамью и плюнул на ладони.
– Поезжай! – заорал вдруг Майгайс.
Глаза лодочника заблестели от неподдельного любопытства.
Майгайс уже не понимал, что делает. Он замахнулся кулаком.
– Ну, ну… – проворчал лодочник, и в глазах у него, кроме любопытства, блеснуло еще что-то. – Ну, ну…
И так всю дорогу он время от времени поглядывал на Майгайса и ворчал:
– Ну… ну…
А Лайцене все приближался. Поверх крыш и труб Майгайсу снова улыбалось длинное худое лицо Доры Гармат. От этой улыбки у фотографа появилось такое ощущение, будто ему предстояло погрузиться в мелкую, теплую воду пруда, на поверхности которого плавают скользкие зеленые водоросли, а по дну ползают, извиваются хвостатые твари…
Дома он швырнул аппарат так, что тот с грохотом повалился в угол. Он не верил, он не мог и не хотел верить, что снова ему придется жить в этой полутемной, душной комнатке, жить без своей прекрасной романтической мечты…
Он не мог жить без нее…
Выбежав на улицу, он сорвал со стены висевшую витрину с фотографиями и грохнул ее оземь так, что брызнули стекла. В комнате он разбил единственный цветочный горшок, в котором росла чахлая глоксиния. Разбил еще несколько рамок с фотографиями. Хотел было разбить и крохотное зеркальце, но, взглянув в него, увидел свое лицо и устыдился. Неподвижно просидев с полчаса, он медленно поднялся, собрал осколки стекла. Потом, вытащив кошелек, стал считать и пересчитывать деньги… Долго считал он и пересчитывал, наконец, подперев голову рукой, тяжело вздохнул: не хватало семидесяти копеек, чтобы снова кое-как склеить все, что было разбито.
Вот так и будешь жить и склеивать, склеивать и жить…
1904








