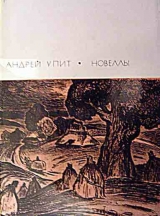
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Андрей Упит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 50 страниц)
– Откуда мне знать, если даже вы не знаете.
– Да, да – прости. У меня такое дурацкое предположение, что ты о нашей семейной жизни знаешь лучше моего… Я думаю: в Крым или на Кавказ. Чудесная природа и повеселее. Именно в такое время увеселения всего приятнее… когда на полях сражений миллионы схватились в смертельной битве, когда весь мир бурлит, как гигантский котел… Ты уже уходишь?
– Да, мне пора.
– Тогда, будь добр, подвези мой экипаж к окну. Оттуда хоть немножко виден мир.
Зьемелис легко подкатывает кресло к окну и уходит.
В соседней комнате он сталкивается с женой Берга. Красная от работы и кухонного жара. Нарядно одетая, бодрая и свежая. Радость ожидания дорогих гостей видны в ее серьезном лице и решительных движениях.
– Как он там? – И она кивком указывает на свою комнату. – Меня не звал?
Зьемелис, раздраженный и молчаливый, смотрит мимо нее. Потом протягивает ей пачку денег.
– Это тебе – последние. Вот мы и в расчете…
Она с какой-то злостью стискивает деньги в кулаке.
– Была нужда именно сегодня… – Она поворачивается и идет к мужу.
Берг смотрит в окно. Анна берет стул и присаживается к его ногам.
– Тебе не холодно? – Она пытается поправить плед вокруг ног, но отстраняется от раздраженного жеста.
– Скоро уже должны быть, – говорит Берг, не взглянув на нее… Голос у него куда суше и отчужденнее, чем когда он говорил с Льеной и Зьемелисом. Лицо точно такое же – замкнутое и безразличное, с восковой желтизной, какое-то высохшее. – Ты не знаешь, куда хоть они едут?
– Нет, об этом Валдис не писал. Ты же читал письмо.
– Да. Но я думал, что, возможно, он в другом… А, все равно. Это мне тоже ни к чему знать. В Ялту или в Пятигорск – все равно. Всюду хорошо… Хорошо, что ты зашла. Мне с тобой надо поговорить до их приезда… Скажи, а ты не хотела бы тоже поехать – ну, скажем, на какое-то время уехать отсюда?
Румянец на ее лице мгновенно потухает. Она инстинктивно выпрямляется. Настораживается, как косуля, услышавшая вдали подозрительный шорох.
Он замечает это. От него ничто не ускользнет, хотя он и смотрит мимо. И он криво усмехается.
– Только прошу тебя без околичностей и осторожностей. Я калека, но не больной, как полагает Зьемелис. Правду я могу перенести в любое время. Я бы и сам хотел, очень хотел бы, чтобы ты поехала с ними.
– Не говори глупости.
– Все-таки уклоняешься. А я было надеялся, что договоримся без долгих объяснений. Это же так необходимо и тебе и мне. Почему ты не можешь сказать прямо, что хотела бы поехать с ними?
– Ты только что сказал, что этого ты хочешь.
– Не отрицаю. Но пойми, что решится это только благодаря твоему желанию.
– Тогда я уже давно решилась.
Ее беспокойный взгляд на миг задерживается на его лице. Он явно недоволен, и ему не хочется говорить об этом.
– Зьемелис сегодня заплатил последние, так?
Анна кивает на стол, куда брошены деньги.
– Ну вот у тебя на книжке и девять тысяч. Это порядочный капитал. Широко жить ты не привыкла. Тебе довольно. Отдых ты за эти двадцать лет заслужила. Немножко жизни, немножко солнца. Надо пользоваться временем, пока есть сила, здоровье и радость жизни. Ты должна поехать с Валдисом.
– Должна… Вечно этот императив. А как же ты один?
Он морщит лоб от иронии, которая явно слышна в ее голосе.
– Ах, позволь уж мне как-нибудь управиться самому! И потом – мне поможет Льена.
– Значит, вот зачем нам приспичило взять эту Льену, хотя она совсем не нужна! Может быть, поэтому мне и эти деньги за аптеку надо было каждый раз аккуратно нести в кассу?
Берг кивает.
– Ведь ты же не считала меня таким деспотом, который решил на всю жизнь приковать тебя к инвалидному креслу. Загубить цветущую жизнь из-за этих бренных останков! Не отрицаю, я эгоист – как все уроды и калеки. Но не мерзавец! Так плохо обо мне ты не должна думать. Мне жаль только, что я не мог раньше тебя освободить. Что так долго тебя изнурял. Но ты прости. С кем судьба поступила безжалостно, те еще безжалостнее поступают с другими.
Своими чистыми, полными боли и блеска глазами она долго смотрит на мужа. И улыбается так, что у того мурашки пробегают по спине.
– Кончим эту пустую болтовню. Скоро гости приедут.
Она встает и разглаживает свое платье.
– Ты не хочешь! Нет? Ну, тогда я хочу. Пойми, мне нужно хоть какое-то искупление за то преступление, которое я совершил, так долго терзая тебя. Теперь, когда ты материально обеспечена, я могу искупить хотя бы часть своей вины. Я так хочу!
Он отворачивается еще больше. Не может вынести этих глаз, которые убивают его своей чистотой.
– Я тебе надоела? Я для тебя такая плохая? Ты хочешь от меня избавиться?
И тут она замечает влагу в его твердо-стальных глазах. У нее и у самой слезы в глазах, но она улыбается, с безграничной жалостью глядя на мужа. Ждет, что он ответит. И чем тяжелее в ней внутренняя борьба, заметная по морщинкам возле рта и на лбу, тем больше наполняются слезами ее глаза и улыбка делается сердечнее.
Но он уже справился со своим внутренним состоянием. Глаза у него по-прежнему холодные и голос сухой и отчетливый.
– Если тебе так угодно – да. Надоела. Ты думаешь мне помочь, а только мешаешь. Так нам обоим будет лучше. Теперь, когда ты материально независима…
– Да, да… – говорит она, оскорбленная до глубины души. Голос ее слегка дрожит от обиды и боли. – Моим желанием всегда было стать материально независимой от тебя. Мое единственное желание. Я скопила большой капитал.
Она берет со стола сберегательную книжку и сует ему в руки.
– Посмотри, посмотри! Там не только то, что Зьемелис платил за аптеку. Благодаря всяким мелким сбережениям я сколотила сумму куда более значительную. Копейку к копейке складывала, пока наконец не стала богатой и независимой от тебя. Все эти двадцать лет я больше ни о чем и не думала.
Берг протягивает книжку обратно.
– Нет, ты посмотри. Тогда увидишь, что мы думаем об одном.
Он нехотя перелистывает книжку. Пальцы какие-то нервные. Толстые листочки похрустывают под ними.
– Что это значит? Я вижу, пятьсот рублей на первой странице. Да и те потом сняты. Только двадцать пять копеек осталось. А дальше – пусто… Где же остальные деньги?
Она смеется сквозь слезы.
– Да, да, спроси, где остальные. Нет! Двадцать пять копеек – вот мой капитал.
С минуту он молчит. Глаза его зло сверкают из-под длинных ресниц.
– Неужели… он все растранжирил?
– Кто – он?
– Валдис… Неужели он не мог сам зарабатывать? В мое время студент умел себя содержать. Или белые тужурки и лакированные штиблеты так вздорожали?
Она слушает, стиснув кулаки, и не верит. Кажется, что говорит кто-то чужой. Но нет, какие тут сомнения. Это он – отец…
– Ты болен. И гораздо тяжелее, чем мы полагали… Сколько стоят белые тужурки и лакированные штиблеты, я не знаю. Но сколько химикалии, приборы, книги и атласы, это хорошо знаю. Очевидно, лучше тебя… – Она хватает со стола какую-то тетрадь и листает перед его лицом. – Здесь последний золотник записан. Я предчувствовала, что когда-нибудь придется давать отчет.
Берг сереет больше обычного.
– И ты хочешь сказать, что все твои деньги ушли на мои нужды?
– Мои деньги и твои. На мои и твои нужды. Гонораров, на которые ты хотел жить, не хватало и на журналы. Кроме тех пятисот рублей, которые надо было дать Валдису при поступлении в университет, все остальное растранжирили мы сами. Потом он ни копейки не получил. Зарабатывал уроками и переводами.
Книжка выскальзывает на пол. Прозрачные пальцы нервно теребят край пледа.
– А что я буду считать? Что я за ревизор? Ну и хорошо. Значит, мы одинаково думали. Вот и еще унижение. Мало сознания, что я, калека, тебе в тягость. Да еще твои последние гроши надо было растратить. Ты отняла у меня последнюю возможность хоть как-то облегчить тяжесть преступления, которое двадцать лет лежало на моей совести. Ты навечно сделала меня убогим, нищим и своим должником. Зачем ты поступила так безжалостно!
– Ты болен, Екаб. У тебя мания самоунижения и самоуничижения. При чем тут твое и мое? Разве мы не одно целое? Разве твоя работа, это и не моя работа? Разве не прожила я с тобой одной жизнью и не была счастлива? Почему ты беспрерывно думаешь о моем несчастье, когда тут ничего нельзя изменить? Мы не можем изменить свою судьбу. Надо смириться и жить. При всех несчастьях жить так прекрасно.
Он уже овладевает собой. Смотрит спокойно и холодно.
– Ты говоришь, как должен говорить каждый здоровый, жизнерадостный человек. А я калека, и у меня свои мысли. Я не могу не думать, почему не подстегнул лошадь на секунду, на полсекунды раньше, тогда бы поезд не сшиб меня на переезде. И о том, почему я сразу после этого несчастья не дал тебе свободу. Не избавил тебя от бессмысленной обязанности быть женой калеки и сиделкой при вечно больном. Твоя загубленная жизнь на моей совести…
Она смеется сквозь слезы, боль и восторг.
– Ребенок… Ты ребенок! А разве тогда ты не хотел этого и не делал попыток? Все твои попытки, как от каменной стены, отскакивали от моей железной воли. И я об этом не жалею. Нет! Эти двадцать лет остались в моей памяти как что-то красивое и богатое. Я горда и счастлива, что прожила их с тобой, за твоим трудом. А ты еще говоришь о загубленной жизни… Ребенок!
Но он остается при своем мнении. Словно камень в трясине, залегла в голове его одна-единственная мысль.
– Женщины любят романтику и самообман. Но что самообман может зайти так далеко, я не представлял. Не в счастье, а в иллюзии счастья прожила ты эти годы. Пора пробудиться. Хоть и поздно, но пора. Здоровье и сила стремятся к здоровью и силе. Это естественное стремление. Я должен исправить свое преступление – хоть и поздно. С этого дня ты свободна. Ты можешь ехать с ними или делать, что хочешь. И все законные мотивы для нашего развода имеются. Формальности легко уладить.
Она вытирает глаза, но все еще улыбается.
– Чистый ребенок – при всех твоих годах и знаниях. И ты хочешь, чтобы я поверила всему, что ты тут наговорил? Чтобы поверила, что ты это серьезно думаешь? Скоро гости прибудут. Я прошу тебя, брось эту ерунду. Они могут неверно понять то, что мы оба так хорошо понимаем.
Но от этого увещевания и этой улыбки Берг снова теряет самообладание. На виске его бьется синеватая жилка, стиснутые губы дергаются.
– Я вижу, что и ты неверно понимаешь. Ты говоришь ерунда, а я так серьезен, как бывают серьезны, глядя смерти в глаза. Мое решение не изменить ни улыбками, ни слезами. Мы должны расстаться, и мы расстанемся. Разумеется, без ненависти и без шума. Мы же можем сделать это так, что никому не бросится в глаза, никто даже не заметит. Год-другой, и никому в голову не придет, что что-то произошло. Да и какое им дело?
– Ничего не произошло и не произойдет. Пока я жива…
Она делает движение, словно собирается наклониться к нему. Во всей ее фигуре такая тяга к нему, что ему приходится собрать все силы, чтобы холодным жестом удержать ее.
– Ты вынуждаешь меня. Я хотел быть деликатным и не упоминать об этом. Ты же не можешь сказать, что я тебе или кому-либо иному давал понять, что я знаю. Но ты сама вынуждаешь. Так что не жалуйся и не ставь мне это в вину.
Она отступает, словно ожидая удара. Отступает, отступает, пока не припадает к стене. И остается в этой странной, неловкой позе. Ей просто тяжело говорить.
– Ты знаешь? Что ты знаешь?.. Что ты хочешь сказать?
Он вскидывает голову.
– Ты испугалась? Чего же? Неужели ты действительно была настолько наивна и полагала, что я ничего не вижу и не понимаю? Глаза-то у меня здоровые и рассудок тоже. Тут не надо быть химиком, социологом и психологом, чтобы понять это. Ты в свои сорок лет еще здоровая и молодая женщина. Он вполне приличный человек. Самый приличный, каких я видал. Вы одного склада, вам с самого начала надо было быть вместе. Это ошибка, что мы… Но это еще можно исправить. Спасти хотя бы то, что еще осталось от жизни. Я глубоко сожалею об этом малодушии, из-за которого тебе пришлось страдать долгие годы. Но и я изрядно претерпел из-за этого малодушия, изо дня в день мучаясь, не в силах решиться. И вот этот миг настал. Не будем зря тратить слова. Я не скажу, что мне легко. Ты видишь, я откровенен и не скрываю ничего. В качестве компенсации мне остается сознание, что я могу сделать счастливыми двух хороших людей. Ведь вы же мои лучшие друзья. Мне кажется, мы можем остаться ими и впредь.
– Что ты говоришь? О чем ты говоришь?
Голос ее почти беззвучен. Она уже не плачет и не смеется. Подбородок дрожит, как от внутреннего озноба.
– Не мучай, прошу, ни себя, ни меня. Я не хотел говорить об этом. Я думал, мы поймем друг друга без долгих слов. Но ты не откровенна. Ты пытаешься еще скрыть то, что я вижу ясно и что видно каждому. Зачем нам это надо? Разве мы, все трое, не настолько близки, разве мы не взрослые, трезвые люди и не можем открыто смотреть друг другу в глаза? Я, ты и… Зьемелис…
– А! так вот ты о ком… – стонет она от невыносимой боли и ломает руки. Пальцы ее хрустят, как сухие ветки под тяжелым сапогом. – Так вот что мне от тебя приходится слышать! Убей… тогда уж лучше убей меня…
Но тут дверь распахивается и влетает Льена. Взволнованная, улыбающаяся, оживленная.
– Гости приехали! Гости! – шепчет она. Разводит руками и указывает головой на дверь.
А оттуда уже появляются они. В обеих комнатах топот, шуршание одежды, возгласы и смех.
Студент – в толстой, потертой, распахнутой зимней куртке, в сдвинутой на затылок фуражке. Запыхавшись, влетает, раскрасневшийся, потный, ноги пыльные, дорожная пыль на одежде. Смеется, разводит руки, точно собирается обнять всю комнату со всеми ее обитателями. Стремительно обнимает мать, целует ее губы, лоб, волосы, руки. Снова обнимает. Гладит руки – потом, отпрянув от нее, бросается к отцу. Обнимает его, не обращая внимания на то, что легкое кресло на колесах угрожающе пошатывается, и долго смотрит ему в глаза – так близко, что их веки соприкасаются и дыхание смешивается.
Отстраняется он только тогда, когда его отталкивают. Стройная девушка в черном, также запыленном жакете, в широкой соломенной шляпе, обнимает Берга за плечи и целует так простодушно-искренне, что у него на миг перехватывает дыхание. Молодые смеются и одновременно здороваются, мечутся и громыхают – ни минуты не могут оставаться спокойно. Комната ходуном ходит от их смеха, поцелуев, стука сапог и шуршания одежды.
Арай позади них с деланной обидой покашливает. Расталкивает молодежь и освобождает себе проход. Переступает через брошенный зонтик и подходит к Бергу.
– Дайте же и мне, вертоголовые! Мне кажется, я имею такое же право пожать руку старому приятелю.
Долго и сердечно он жмет руку Бергу. В глазах какой-то влажный блеск. Быстро отыскивает платок.
– Ужас какая пыль – эта ваша дорога… Ну, как тебе живется? Сколько лет мы с тобой не видались?.. – Но, заметив, что в лице друга что-то нервно дергается, спешит переменить разговор. – Ты глянь, как сын-то у тебя вымахал? Можешь еще узнать? А она… – И он бьет себя по лбу. – Да ведь ты же ее впервые видишь! Это же моя дочь. Нета, поди сюда!
Он берет ее за руку и подводит к креслу. Та смотрит, слегка закинув голову, часто дыша от бега и волнения, улыбаясь во все лицо.
Берг кивает. И он взволнован, но это видно только по тому, как брови его неравномерно вздергиваются и снова опадают.
– Невеста?
Нета как будто прячется за отца, но не перестает улыбаться и не спускает глаз с лица Берга.
– Уже знаешь? Жаль, что проболтались. А мы хотели приготовить тебе небольшой сюрприз.
Берг уже подавил свое волнение. Серые глаза снова глядят холодно и иронически.
Нета сникает от этого неприязненного взгляда. Точно в поисках поддержки, смотрит то на Валдиса, то на Анну.
– Не так-то уж трудно узнать и без болтовни. И без того понятно – когда молодые в эти годы… и в таких обстоятельствах…
Не столько от того, что он говорит, сколько от его голоса и нервно исказившегося, злого лица в комнате водворяется неприятное молчание. Льена недоуменно оглядывает всех по очереди, потом уже не сводит глаз с Анны. А на нем видно, как борются два чувства: недавняя глубокая обида и вот теперешняя радость от встречи. Два встречных потока сшиблись в ней. Яростная волна в ее груди вздымается так высоко, что кружится голова и захватывает дыхание.
Она замечает, что взгляды всех прикованы к ней. И чувствует – еще миг и случится что-то нелепое и безобразное. Она упадет прямо на том месте, где стоит. И начнет истерически не то рыдать, не то смеяться… Потом собирает все свои силы и отворачивается. Одной рукой обхватывает Валдиса, другой Нету и, опираясь на них, уходит в соседнюю комнату.
Берг остается с Араем вдвоем.
Арай растерян. Смотрит вслед ушедшим, потом подходит к Бергу.
– Что это значит? Что здесь происходит? Ты нездоров?
Голос у Берга глухой. И все же в нем слышно что-то вроде звона стеклянных осколков.
– Если не принимать в расчет ноги, то здоров. Здоровее обычного. Сегодня, когда мы все вместе, разрешим самое важное. Самое важное в жизни. Прошу прощения, что вынужден буду испортить вам эти веселые дни. Но у вас они случаются довольно часто. А для меня все эти годы были одним бесконечным судным днем. Я думаю, пора его кончать. Я всех вас прошу окончить его. Последняя услуга, которую я еще прошу.
Арай стоит в полном недоумении. Лицо его постепенно сереет.
– Ничего не понимаю. Абсолютно ничего.
– Ах, поймешь! Нет ничего слишком сложного и неразрешимого. Так сказать, последнее действие. Простая формальность…
С минуту оба угрюмо молчат и смотрят каждый в свою сторону.
* * *
И вот все сидят за обеденным столом.
В самой середине Берг. Передняя часть кресла задвинута под стол, так что он сидит наравне со всеми. Издали никто не скажет, что это калека. Желтое лицо с высоким лбом и пышными серыми, на висках уже серебрящимися волосами, немного напоминает портрет Ибсена – одноцветная литография на плотной, шершавой, желтоватой бумаге.
По левую руку от него Валдис, за ним Нета. По правую – Анна и Арай. Напротив места для Зьемелиса и Льены. Прислуга обычно ест за одним столом с ними. Это выдумка жены, и Берг не имеет ничего против подобного, – как он иронически говорит, – демократизма.
Пока что Льена сидит там одна. Зьемелиса по каким-то делам вызвали в аптеку.
Обычно здесь едят втроем. Стол мал и неудобен для такого количества людей. То ли поэтому, то ли по другой причине, чувство неловкости испытывает и все общество и каждый в отдельности. Даже Льена какая-то пришибленная – несмотря на те восхищенные взгляды, которые она то и дело бросает на Нету. Непонятно почему – но испытывает какую-то гордость за нее, за то, что она такая же образованная и умная, как мужчины, умеет говорить, спорить и вообще из Петербурга.
Все как будто уже сыты. Напрасно Анна, по обыкновению, угощает то одного, то другого, напрасно и Льена подсовывает то солонку, то хлебницу. Только Арай еще что-то нехотя жует и как-то украдкой, как будто думая о чем-то, смотрит на них. Анна кажется веселой и довольной. Но стоит приглядеться к ее движениям и улыбке, как становятся заметны деланность, прикрытая нервозность и особое, настороженное внимание к мужу.
Нета с Валдисом, голова к голове, читают что-то. Это письмо Бергу от их столичных друзей и знакомых. От студентов и курсисток. Среди подписей много имен рабочих и профсоюзных работников. В письме с восторгом отзываются о последней книге Берга. Прочитав письмо, они читают подписи и наперебой характеризуют Бергу и остальным каждого подписавшегося. Оба и сами в восторге, то и дело возбужденно поправляют друг друга и спорят. При всей своей взвинченности, Анна улыбается. Глаза ее блестят от этих похвал ее мужу и его труду. На лице как будто написано: все это верно и приятно, но я это знала уже давно. Для меня тут ничего нового нет.
Арай кончает есть и кивает головой. Он тоже может что-то сказать, но он не хочет прерывать восторги молодых.
Берг холодно усмехается.
– Приятно. Весьма. Поблагодарите, когда снова встретите… Как это там было сказано: «Хотя мы и идем в ином направлении…»?
Нета с Валдисом, водя пальцем по письму, быстро отыскивают его место.
– «Хотя мы и следуем несколько отличными культурными путями, но цель у нас одна и та же. Мало кто ее так ясно различил и так ярко осветил – именно тогда, когда мрак все гуще…»
– Ах, так… Может быть, вы знаете, какие это иные пути, которыми они следуют?
Берг смотрит на Арая. Но тот кивает на другой конец стола.
– Пусть они скажут. Это их ближайшие друзья и соратники. Я больше платонический союзник – сочувствующий.
Валдис отодвигает письмо.
– В твоей книге цели мировой культуры и само ее понятие рассматриваются слишком теоретически. Мы же люди практической жизни и борьбы. Мы находимся среди тех масс, из которых теперь ежедневно вырывают тысячи, посылая их на смерть за высокие, облеченные в звучные слова идеи. Эти идеи утверждаются и в твоей книге. И они же провозглашаются нами, и нашей демократией, и демократией всех других народов. Свобода, самоопределение, братство и сотрудничество между народами… Точно красная ракета, твоя книга выстреливает в насыщенную ненавистью и кровавыми парами тьму. У тебя хватило смелости сказать это открыто и громко. За это мы тебя так и любим. Редкий голос слышится и там, по ту сторону линии фронта. Но вы идеалисты и мечтатели. Напрасно вы верите, что протестами и пропагандой культуры можно чего-то добиться. Провозглашений вечного мира и братства народов было уже много. А жизнь развивается по своим законам. В грохоте пушек и в потоках крови тонут все красивые слова. Потому мы и предпочитаем другие пути и другие средства для достижения той же самой цели.
Берг слушает с кажущимся вниманием. Но на самом деле он занят своими мыслями. Обычная холодная ирония посверкивает в его серых глазах.
– Вы… Если я верно понял, это означает – современное молодое поколение. Но разве это не те же громкие слова? Ну, скажем, пылкость и благие намерения. Но разве вы способны – по происхождению и воспитанию – на труд и жертвы, а не только на пылкость и громкие слова? Ты меня прости, но я сомневаюсь.
Нета вскидывает голову и сжимает обе руки в кулаки.
– А вы не сомневайтесь. Наша работа только еще начата. Судить можно будет потом.
– Вы меня простите, – говорит Берг, и голос его звучит сухо и холодно, – но в ваших способностях и результатах вашего труда я все же сомневаюсь. Я знаю, что выросло новое поколение. А труд это то, что от вас и в детстве, и в молодые годы находилось дальше всего. Это я говорю, вспоминая свою и нашу молодость. Вы не знаете тяжелого, физического труда ради куска хлеба и непрестанной жажды знаний и образования. Не знаете голодной жизни в чердачной каморке, беготни по урокам и занятий по ночам у коптящей керосиновой лампы. Вы не носили залатанной одежды и стоптанных сапог… Вы не обидитесь на меня, калеку и несчастного человека, если я скажу неприятную правду. Вы не поколение вдовьих детей. Вы – дети образованных, обеспеченных родителей. Вы дети суетного мира и изнеженности. Житейские удобства и развлечения у вас в крови и плоти. Ваша пылкость и жажда труда мимолетны.
– Ты считаешь, что у нас на уме только удобства и развлечения?
Валдис произносит это серьезно, но не обидчиво и не взволнованно. Глубокое уважение к отцу проявляется в каждом его слове и взгляде.
– Ты не знаешь молодого поколения, о котором судишь, – сердито вмешивается Арай. – Не знаешь и не можешь знать. Так же, как не знаешь и не можешь знать жизни, которая за эти годы прошла мимо стен твоей лаборатории. Я тебе должен открыто сказать: твоя книга – чисто кабинетный и спекулятивный труд. Своеобразная смесь мизантропии и идеализма. С теперешней жизнью она мало связана. Точно так же обстоит дело и с твоими взглядами на нынешнее молодое поколение. У него свои воспоминания. Голод, чердак, книжки и фантастические мечты в одиночестве – это судьба нашей молодости. Ты прав, нынешнее поколение не изведало всего этого в той же мере. Хотя не так уж у них много веселья и развлечений, как ты думаешь. И твой сын может очень хорошо рассказать тебе, как рыскал по столице в поисках уроков и грошовых заработков. Нынешняя молодежь выросла и живет в других условиях, не будем спорить. Из дома она выносит больше интеллектуального багажа. Но по твоим словам получается, что ты это ставишь им в упрек. Они живут и работают в других условиях, чем мы. Мы жили, страдали и мечтали каждый сам по себе. У нас не было общества, кроме нас самих и маленьких групп идеалистов. Теперешняя молодая интеллигенция с первых же дней вовлекается в водоворот общественной жизни и борьбы. Выхваченная из теплого лона семьи и ее опеки и брошенная на житейский сквозняк. Семья утратила свое влияние руководителя и законоположника. Я не скажу, что это плохо. Семья, это замкнутое в себе целое, где царит узость, предрассудки, традиционность, близорукая эгоистическая любовь и затхлый дух себялюбия. Даже в самых лучших свободомыслящих семьях. Я не знаю отца и матери, которые не намеревались бы вырастить ребенка по своему образу и подобию… Сужу по своему опыту. Мы можем быть счастливы, что наши дети служат тем же самым идеалам, которые были дороги и нам. Это дает нам право немного гордиться собой. Это доказывает, что наши идеалы коренятся в реальной жизни и что у них есть будущее, что молодое поколение пытается осуществить то, о чем мы так мечтали и фантазировали.
Берг все время спокойно смотрит на покрасневшее не то от внутреннего пыла, не то по другой причине лицо друга.
– Ты высокого мнения о нашем молодом поколении. Разумеется, ты более компетентен в этом вопросе. Ты можешь ходить, бывать на митингах, собраниях и слушать. Но не ставь это и мне в упрек. Мои мысли не такие безногие, как моя бренная оболочка. Отголосок порою характернее голоса. А я внимательно прислушивался к ним все эти годы. Говорить оно умеет, это молодое поколение, куда лучше нашего. А то, что оно якобы говорит то же самое, о чем фантазировали мы… не знаю, стоит ли нам этим так уж гордиться. Я слыхал и сам полагаю, что у каждого поколения должны быть свои идеалы. Если молодое поколение повторяет только то же, что старое, то оно бедно собственными мыслями и само по себе является лишь копией старого поколения. Значит, оно звенит чужими деньгами в своем кармане. А по аннулированному векселю в жизни ничего не купишь. Жизнь движется по тем же старым рельсам и ждет другого поколения, которое проложит новый путь.
Анна ласково прикасается к руке мужа.
– Екаб, ты забываешь, что великая идея не может явиться усилием одного человека и одного поколения.
Берг легко берет ее руку и кладет рядом на стол.
– Ах и ты за философствование! Не угодно ли, вот вам то, что Арай назвал семейной узостью и эгоистической любовью! Первое требование к интеллигентному человеку – это свобода от слепой, эгоистической идеализации ребенка. От любви к такому, каким он есть, ради такого, каким должен быть. Великие идеи не могут быть результатом усилий одного человека, это верно. Но это констатируют хронисты и историки. Вдохновленное жизненной борьбой поколение всегда борется за свои, за новые идеи. Продолжение идеи – есть только идейный рефлекс, отражение без сияния и горения. Теплота тут может быть, но огня нет.
Нета хочет что-то сказать, но Валдис удерживает ее и укоризненно качает головой.
– Значит, ошиблись мы в тебе и в твоей книге. Мы-то думали, ты обращаешься к нам. А выходит, смотришь поверх наших голов – на какое-то другое, более молодое, может быть, еще несуществующее поколение. Но без нас оно невозможно. Мы еще непонятый этап в ходе идейной борьбы. И если даже мы сами это сознаем, так неужели от этого утратили свою ценность? Я не знаю, повредило ли когда-нибудь понимание своего положения и своей задачи отдельному человеку, поколению или классу? Наоборот. Теперь общепринято, что без определенного сознания определенная общественная деятельность невозможна…
Нета не выдерживает и перебивает его:
– Самые лучшие идеи и борьба за них так же стары, как и само человечество. В борьбе общественных идей нет ничего внеисторического. Мы видим разные действия, разное оружие и методы – они меняются с поколениями и классами. Но направляющая та же самая. И цель та же самая. Мы ближе к ней на шаг, чем вы. Вы пытались пробиться по одиночке, на свой страх и риск. Потому вы и были так беспомощны, и успехи ваши заключались преимущественно в области фантазии. Мы пытаемся действовать соединенными усилиями, и поэтому у нас в реальной жизни больше опыта. Это новый метод – то новое, что ваше поколение в массе своей не познало.
Точно подтверждая свои собственные мысли, Берг качает головой.
– В склонении слова «борьба» я с вами тягаться не могу. Это я теперь вижу. Говорить и спорить вы умеете. К сожалению, слишком хорошо и слишком много. Только одно замечание. Вы говорите о старых идеях и новом методе. Но забываете, что новый метод, в первую очередь, новая разновидность идеи. Абсолютная, неизменная истина или ее сущность – чисто метафизическое понятие. Каждая новая форма и се наглядность находятся в органической связи. Вы хотите сказать, что мы были индивидуалисты, вы же встали на путь коллективизма. Хотел бы я знать, что у вас будет за коллектив без глубоко убежденных и сложившихся индивидов.
– Эти два понятия не исключают друг друга и не находятся в неразрешимом противоречии. Как это годичное наслоение в дереве включает в себя прошлогоднее и держится на нем. Здесь нет никакой метафизики и никакой абсолютной истины…
– Довольно! – резко прервал его Арай. – К черту-дьяволу! Мы что, на какой-то философский диспут явились? Мы же не собираемся решать идейные или социальные проблемы!
– Это верно, – искренне подхватывает Анна. – У меня все время такое чувство, будто я нахожусь между двумя враждующими лагерями. Фу! – и это в первый же момент встречи. Ешьте давайте, как старое, так и молодое поколение! Здесь я руководитель и законоположник. И все должны меня слушаться.
– Извини, повелительница, – криво улыбается Берг. – Одно короткое замечание – и покончим с этой метафизикой… Я не верю в ваш коллективизм. Если мы были индивидуалисты, то вы индивидуалисты в квадрате. Во всяком случае, мы в двадцать лет еще не обзаводились невестами и не предавались радостям жизни. Мы просто не могли. У нас для этого не было ни времени, ни средств. Не правда ли, Арай?
– Екаб! – дергается Анна, жестами утихомиривая его. – Что ты говоришь!
Молодые переглядываются, словно их обдали холодной водой. Льена, скрывая растерянность, начинает без надобности переставлять посуду на столе. Арай смущенно кашляет.








