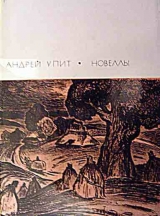
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Андрей Упит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 50 страниц)
– Кхе! Хватит. Хотя… Ну, да весь свет не пригласишь. И не три же дня гулять. Не принято теперь.
– Там видно будет, там видно будет… – смеется Айзозол. – Рожь сожнут, сено уберут – люди будут свободны.
– Так-то так… Кхе! Но я всегда говорю: все надобно делать в меру, с умом. Сами, со своими, можем как угодно, но на что нам всю округу… Лучше, если поменьше толкотни.
– Ну, уж так тоже нельзя, – покраснев, перебивает отца Катрина. Она одна из самых ревностных посетительниц всяких гуляний и насчет сестриной свадьбы думает так: чем больше будет народу, тем лучше – скорее попадется какой-нибудь молодой или еще не старый благоразумный человек, которому нужна благоразумная жена и хорошая хозяйка и который не придает значения этой никчемной красоте. Давно уже она махнула рукой на все любовные идиллии и алчным, оценивающим взглядом выискивает среди молодых людей такого, который выказал хотя бы малейшее желание добиться ее расположения. К свадьбе сестры она готовится с воодушевлением, возлагает на нее большие надежды… У нее словно какое-то тайное предчувствие.
– Ну уж так тоже нельзя, – говорит она. – Нельзя же, чтоб над нами смеялись. Люди скажут: не могли свадьбу как следует сыграть…
Айзозол, улыбаясь, наклоняет голову.
– Я тоже считаю, что нужно поддерживать честь своего сословия. Янис Карклинь, из Варпулиней, тоже будет, мы с ним большие друзья.
– Тот самый, что на рождество… в театре? – У Катрины загораются глаза. – Курчавый?
– И Петер Земен… Мы с ним вместе призывались…
– Ага… ловкий малый.
Отец встает и выходит. И как только он затворяет за собой дверь, с его лица сходят последние следы благодушия, теперь оно выражает явную досаду.
– Мать! – зовет он приглушенным голосом у двери кухни. – Мать! – нетерпеливо рычит он, войдя в кухню. Но матери здесь нет. Обед уже готов, кушанье разложено по блюдам.
Мать, уже в третий раз вдоль и поперек обойдя сад, идет через двор, останавливается и, поднявшись на цыпочки, смотрит куда-то вдаль.
– Чего там смотришь? – сердито спрашивает отец и смотрит в ту же сторону. – Анны нет?
Мать в величайшем недоумении разводит руками и пожимает плечами.
– Нет… Где это слыхано! Девчонка совсем спятила. Где это видано! – Она опасливо оглядывается на окно комнаты дочерей. Отец смотрит туда же. Его рыжая борода трясется, в глазах вспыхивает гнев.
– Выпороть бы ее! – цедит он сквозь зубы. И забыв Библию, книгу псалмов и всегда так усердно соблюдаемую патриархально-ханжескую благопристойность, в неудержимой злобе выкрикивает: – Какого черта ты туда смотришь!
– Как будто она… – испуганно шепчет мать и прикрывает ладонью глаза, чтобы лучше разглядеть.
Отец подходит к ней, становится рядом, подносит ладонь ко лбу, поднимается на цыпочки и тоже всматривается.
Да, наконец-то, наконец Анна медленно идет вдоль луга к дому.
У отца и матери словно камень с сердца сваливается. Они облегченно вздыхают. Отец возвращается в комнату, а мать чуть ли не бегом бежит за клеть навстречу дочери.
У Аплоциней довольно длинный обеденный стол. На белоснежной скатерти расставлены приборы на пять персон и две привезенные Апзозолом бутылки: большая темная бутылка коньяку и прозрачная Аллажская тминная. По обеим сторонам у стола стоят по два стула – на одной стороне для отца и Катрины. на другой – для Анны и Айзозола. Стул для матери – в самом конце стола, поближе к кухне.
Но и с рассаживанием не получается так, как было намечено. Анна, слегка задумчивая, надменная, первая выходит к обеду и садится за стол на место матери.
– Аннынь, детка! – волнуется мать. – Это мое место, мне придется вставать, выходить в кухню, – так будет мне удобнее.
– Садись туда, – отвечает Анна, – я схожу, если понадобится.
Мать переглядывается с Катриной и садится рядом с зятем, которому больше не удается согнать со своего гладкого лица выражение обиды и недовольства. Но по его голосу еще ничего нельзя заметить. Он говорит много, громко и остроумно, особенно после того, как они с отцом почали темную, а женщины прозрачную бутылку. Катрина с матерью без умолку смеются. Анна почти не слышит острот жениха. Ест она много, даже слишком много, но с каким-то ужасно задумчивым видом. Иногда она тоже вставляет слово в разговор или смеется, и всякий раз так неуместно и неожиданно, что всех опять охватывает уже рассеявшееся было чувство неловкости. Свое обещание Анна позабыла: она и не видит, когда на столе чего-нибудь не хватает, – мать сама раза три выходит в кухню; разобиженный Айзозол мало говорит со своей невестой, зато очень внимателен к теще – подает ей то соусник, то хлебницу… Мать тает от счастья, довольна вниманием и услужливостью зятя, и все чаще бросает на дочь свирепые взгляды.
После обеда все собираются пройтись. Отец с матерью идут впереди, Айзозол, Анна и Катрина – немного позади. Мать раза два-три оглядывается и многозначительно покашливает. Воспользовавшись первым удобным случаем, Катрина убегает к родителям. Они втроем, немного ускорив шаг, уходят вперед. Молодая парочка может теперь поговорить наедине.
На губах у Анны играет загадочная недобрая улыбка. «Пусть он заговорит», – мелькает у нее в голове, и тут ей чудится, что кто-то в самом дальнем уголке ее сердца скалит зубы. «О чем же он будет говорить?» – думает она. От злости у нее немеют кончики пальцев; опустив глаза, стиснув зубы, она идет рядом со своим женихом.
– Подвенечное платье уже шьется? – говорит Айзозол, и голос его звучит как чужой.
Анна слушает и почти не верит своим ушам: неужели он и впрямь заговорил об этом?
– Скоро будет готово, – отвечает она и затем с тайной иронией, избегая слов «ты» и «вы»: – А подвенечная тройка?
Айзозол улыбается и подкручивает кончики усов.
– Через неделю будет готова. В Риге шью! Здешние швецы ни чер… ничего не умеют… Платье у тебя будет с газовой отделкой? К шелковой материи очень идет…
Он затевает пространный разговор о принадлежностях свадебного костюма. Видно, что он об этом много думал, что это для него очень важно. Анна слушает его и думает: «Неужели это случится? Неужели я в самом деле выйду за него?» Она ни слова не говорит ему о том, что так недавно терзало ее сердце. Но надо говорить, сказать, пока еще не поздно. От страха странное, необъяснимое бессилие сковывает ей язык, а невыносимая ненависть к жениху все растет и растет, как лавина… «А почему бы мне не выйти за него? – настойчиво повторяет она себе, напрягая всю силу воли. – Почему не выйти…»
– Старая береза. – Айзозол, меняя разговор, приостанавливается и глядит вверх. – И еще такая крепкая.
Анна тоже приостанавливается и подымает глаза, затем оборачивается к жениху: ей кажется, что береза что-то шепнула ей на ухо… Она скажет!..
Айзозол смотрит на невесту, видит на ее лице невысказанное желание и, как всегда, превратно истолковывает его. С его лица мгновенно сбегает долго накапливавшаяся досада, широкий жирный румянец счастья заливает щеки. С распростертыми объятьями он приближается к невесте.
Но в глазах ее вспыхивает такая ярость, что он отскакивает, широко раскрыв глаза и подняв руки, точно ему за ворот вылили ушат холодной воды. Мгновение они стоят так: она – с поджатыми губами, злыми, горящими глазами, он – с удивленным, оторопелым видом. Затем оба одновременно приходят в себя, отворачиваются друг от друга, идут дальше и думают, как загладить образовавшуюся в их отношениях трещину.
К вечеру, когда хмурый жених, которого больше уже не могут задержать, сидит в бричке и сытая лошадь, покусывая удила, роет копытами землю, Анна одна, с выражением твердой решимости, подходит к Айзозолу.
– Нельзя ли приехать в среду вечером? – говорит она, не глядя жениху в лицо и, как обычно, избегая слов «ты» или «вы».
У Айзозола губы кривятся в горькой презрительной улыбке.
– Рабочая пора… Почему именно в среду вечером?
– Мне надо поговорить… мне надо кое-что сказать.
Он важно пожимает плечами.
– Не могу обещать… то есть – может быть, приеду.
В воздухе клубится пыль, сверкает окованная медью дуга, а потом слышится постепенно удаляющийся стук колес по большаку.
У матери и Катрины прибавилось работы: они бранят Анну. Они делают это и порознь и вместе, поддерживая и дополняя друг друга. Безобразное, непростительное поведение Анны в воскресенье разбирается на все лады и всячески осуждается. Не забыто ни одно слово, ни одна гримаска. Все было плохо, все не так, как полагается. С нескрываемым ужасом они приходят к выводу, что еще бы немного – и жених, окончательно рассердившись, бросил бы ее. Широко раскрытыми глазами, затаив дыхание, они с минуту смотрят на Анну. Но глаза Анны кажутся погасшими, безжизненными.
«Ну, почему бы мне не пойти за него?..» – безвольно, не вдумываясь, говорит она себе – на этот раз без ненависти и волнения… И ждет среды.
В среду, под вечер, Айзозол является пешком, одетый не то по-праздничному, не то по-будничному. Он выглядит еще привлекательнее с красной гвоздикой в петлице пиджака. Мать с Катриной тают от счастья и рассыпаются в любезностях.
Вчера Айзозол ездил в Ригу – за своей свадебной тройкой. Сорок рублей отдал… Анне он привез роскошную коробку шоколадных конфет. Открытая коробка стоит посреди стола. Айзозол сидит по одну сторону стола, Анна – но другую. Айзозол ест конфеты, а Анна сидит, ничего не ест и молчит. Они одни в комнате.
– Кушай, – говорит Айзозол и пододвигает ей коробку. В его голосе опять слышится нервное, тревожное нетерпение. – Или конфеты плохие?
– Спасибо, – отвечает Анна, – конфеты хорошие, но мне не хочется.
Она чувствует, что ведет себя нехорошо, что так нельзя, что надо сказать что-нибудь серьезное, положить конец таким отношениям.
– Что это с тобой, не понимаю? Ты нездорова?
– Что? – спрашивает Анна, словно не расслышав.
Айзозол вдруг краснеет.
– Я спрашиваю, ты не больна?
– Нет… может быть, у меня немного болит… – Она вдруг поворачивается и выпрямляется: – Я… должна вам сказать…
– Ах, «вам»! – Он морщится. – Я уже давно жду, что же «вы» мне скажете.
Но Анна снова смотрит ему прямо в лицо и не говорит ни слова.
Это уж слишком. Айзозол медленно и важно встает, медленно и важно берется за шляпу.
– К таким шуткам я… не привык… Нет, не привык.
– Скажите, – начинает она, сама еще хорошенько не зная, что хочет спросить, повинуясь какому-то тайному, едва ощутимому побуждению. – Я хотела вас спросить…
Айзозол стоит, держа шляпу в вытянутой руке, лицо у него сердитое, надменное. Каждое произносимое ею «вы» он явно воспринимает как укол иглы.
– Я хотела спросить… сколько раз вы ездили свататься?
– Что? – Айзозол раскрывает рот, глаза его чуть не вылезли из орбит.
Но Анна уже сама не помнит, что сказала. Спутанный клубок ее мыслей уже покатился дальше.
– Это верно, что люди поговаривают про вас и… Трину Лайдынь?
Айзозол вздрагивает, словно от удара, шляпа выскальзывает у него из пальцев. Еще один такой удар, и он, пожалуй, рухнет наземь от разрыва сердца. Но Анна сама опомнилась, туман перед ее глазами рассеялся, голос ее звучит холодно и твердо.
– Извините, этот вопрос у меня вырвался нечаянно. Я не хочу осуждать вас. Я вас позвала сюда, чтобы сказать, что не могу стать вашей женой. Ищите себе другую…
Он не чувствует этого нового удара, – настолько ошеломил его предыдущий. Не то он не верит своим ушам, не то принимает ее слова за шутку. Он растерянно улыбается и трет пальцами вспотевший лоб.
– Что… что с тобой сегодня?..
– Это не только сегодня. Я все это время думала, и… я не могу иначе… не могу иначе… Ищите себе другую невесту.
Он начинает постигать ужасную правду. Обеими руками хватается за стол. В нем борются гнев и отчаяние.
– Как… – бросает он, задыхаясь. – В церкви уже огласили, все люди говорят… пиво заказано, свадебная тройка готова… А теперь!..
Анна только пожимает плечами и снимает с пальца десятирублевое обручальное кольцо.
– Вам придется испытать из-за меня небольшие неприятности, но что поделать, я тогда еще не знала себя. Простите, если можете… Уж лучше так, чем навсегда испортить нам обоим жизнь.
Она сует ему кольцо в руку и начинает что-то искать по всей комнате. Он бегает за ней, ищет слов и не может найти.
– Ваши книги, все ваши подарки я верну. – Она собирает по одной разные вещички и складывает их на столе.
– Анна… – немного придя в себя, говорит он глухим голосом. – Не делай глупостей! Одумайся, это ведь уже невозможно… Я до августа должен заплатить две тысячи…
Отрывистый, сухой смех впивается ему в уши.
– Очень сожалею, господин Айзозол, – до августа невесту с двумя тысячами, правда, трудно будет сыскать. А что, если бы вам поговорить с ростовщиками, – они скорее смогут…
– Одумайся, что ты делаешь? – дрожа, почти умоляюще шепчет он, и во всей его фигуре нет больше и следа прежней самонадеянности и удали. – Ты наслушалась болтовни кумушек…
– Ничего я не наслушалась! – отрезает Анна.
Айзозол в отчаянии разводит руками.
– Так почему же? Почему же?
– Потому что мы друг друга не любим.
– Любовь! – На лице Айзозола краска стыда сменяется расцветающей надеждой. – Значит, из-за такой ерунды! Так в этом вся и беда!
– Уходите, – резко вскрикивает Анна. Одной рукой она показывает на кучу подарков на столе, другой на дверь. – Берите свои вещи и уходите!
Айзозол еще немного медлит. Теперь все многообразные чувства, которые за полчаса отразились на его лице, вытесняет величайшее удивление – удивление перед тем, что его прогоняют из-за такой ерунды, как любовь… Он сгребает в охапку свои вещи и выходит в другую комнату.
Немного погодя оттуда вбегают мать, Катрина, отец… У матери на одной ноге чулок, другая – босая, у Катрины засучены рукава, в одной руке ложка, другая выпачкана мукой, у отца – трубка еле держится во рту, – из нее прямо на рубаху и штаны сыплются искры и зола… Мать, и плача и уговаривая, бросается Анне на шею. Катрина останавливается посреди комнаты, размахивает ложкой и таращит глаза. Отец, весь багровый, кряхтит у двери.
– Доченька моя! – с трогательной нежностью целует мать Анну. – Безрассудство-то какое!.. Поди попроси… Скажи, что ты не хотела так… Он тут, в передней, ждет…
Но Анна высвобождается из нежных объятий матери. Это уже не задумчивая, нерешительная, тихая Анна – в каждом ее движении, в каждой черточке ее лица чувствуется твердая решимость, непреклонная воля.
– Оставьте меня в покое – раз не могу, то не могу.
– Я же говорила, я же говорила! – шипит Катрина, тараща глаза. А отец передвигает трубку из левого угла рта в правый, осыпая при этом рубашку целой горстью золы и искр, и, сжимая кулаки, бормочет:
– Блажь… Кхе! Выпороть…
– Доченька! – кричит мать, роняя крупные слезы. – Нельзя же так! Разве мы тебя неволим, разве мы ради себя… Ведь нельзя же так! Такой человек, такая усадьба… К августу ему нужны две тысячи – где их взять?
Анна пытается сдержаться, но не может:
– Пускай украдет, если негде взять.
– Анна!
Все трое возмущены низостью Анны.
– Почему же ты передумала?
– Потому что я не могу его любить…
Мать, Катрина, отец – все пятятся от Анны, изумленно смотрят на нее и не верят своим глазам. Неужели из-за такого пустяка и поднялась вся эта кутерьма? Они не могут прийти в себя от удивления…
Случилось это много лет тому назад. Старики очевидцы словно сказку рассказывают эту историю молодым. Анна Аплоцинь отказала Янису Айзозолу, владельцу усадьбы, резвых коней, ветряной мельницы, каменных хлевов… Ему пришлось занять у ростовщика две тысячи, чтобы выплатить их сестре. Долг этот чуть не разорил его. А Анна Аплоцинь осталась старой девой…
Молодые слушают, удивляются – и не верят.
7. БРАТЬЯ
Паровоз давно остановился, но все еще пыхтит и выбрасывает равномерными толчками струи белого пара.
Застоявшейся, облепленной мухами лошади хочется нестись рысью, но Екаб натягивает вожжи и придерживает ее: на мощенной булыжником аллее и без того трясет. Эрнест все время держится левой рукой за край обитой кожей тележки.
– Трясет? – спрашивает Екаб. Из-за грохота колес его громкий голос кажется непривычно тихим и даже нежным. Он нагибается, заглядывает в лицо брату и улыбается.
– Ничего! – бодро откликается Эрнест и дотрагивается левой рукой до корзины, поставленной поверх кожаного фартука. Там у него среди других вещей бутылка коньяку. Не разбилась бы… И он ответно улыбается брату.
Безмолвная улыбка иной раз ясней и понятнее длинных речей. Глаза, рот и каждая черточка в лице брата выражают свое. Улыбка – тайный голос души, и когда он зазвучит – умолкает все остальное.
Даже когда лошадь останавливается у закрытого переезда и можно расслышать каждое слово, братья продолжают молчать. Оба понимают, что нужно что-то сказать, подыскивают слова и не находят. Оба чувствуют, что их связывает идеальная искренняя дружба, какую редко встретишь между братьями при такой разнице в положении и образовании. Екаб с трудом может расписаться – с малых лет его прочили в хозяева отцовского хутора. Эрнест окончил городское училище, отбыл военную службу и уже восьмой год служит помощником столоначальника в правлении железной дороги.
Екаб окидывает брата ласковым взглядом. Глаза его задерживаются на новой фуражке с кантами и бело-голубой эмалевой кокардой.
– Недавно купил? – спрашивает он.
– Фуражку? Нет, она у меня уже с год или больше…
Эрнест, видимо, хочет еще что-то сказать, но удерживается. Екаб и не ждет объяснений. Только кивает еще раз.
Оба сидят молча. На лице Екаба светлая, счастливая улыбка. У Эрнеста вид более задумчивый. Он всегда такой задумчивый…
– Чего так долго поезд стоит? – заговаривает Екаб, когда лошадь начинает плясать на месте.
– Десять минут… Пусть стоит… – отвечает Эрнест и с довольным вздохом откидывается на мягкую спинку тележки.
Усмирив лошадь, Екаб берет вожжи в левую руку, а правой снимает с рукава братниной шинели белую пушинку. Снимая, проводит пальцами по материи и ощущает, какая она мягкая и тонкая.
Из-за деревьев и сторожевой будки доносится звонок. Свисток. Равномерными толчками выбрасывая вперед большие белые клубы пара, ползет паровоз. За ним, все ускоряя бег, несутся зеленые, желтые и синие вагоны…
– Вот в этом ты ехал. – Екаб указывает на последний зеленый вагон и дергает вожжи. Шлагбаум на стершейся до блеска цепи взвивается вверх, колеса четыре раза стукаются о рельсы, и, плавно покачиваясь на рессорах, они переезжают полотно.
По ту сторону переезда ровная, покрытая мелким гравием дорога. Приятно шуршит под колесами верхний, мелко перемолотый слой песка. Белое облачко пыли поднимается в безветренном воздухе над придорожными ракитами, вьется за тележкой.
Эрнест невольно прикрывает рот рукой и кашляет сухим кашлем.
Екаб с испугом оглядывается и становится серьезным, очень серьезным.
– У тебя?.. Ты?.. – Он хочет о чем-то спросить и останавливается. Взгляд его следит за рукой брата, поглаживающей мягкую обивку тележки. – Весной дал обить… – говорит он не то сконфуженно, не то виновато. – Недорого стоило. Кожа своя, а с шорником у нас давнишние счеты. Иначе с него не получишь – деньги у него не держатся.
Эрнест поддакивает. Конечно, так лучше… И ехать гораздо удобнее. Не трясет. А ему тряска вредна. Врач…
Будто чего-то испугавшись, он умолкает. Прикладывает руку ко рту и снова нехотя откашливается. Екаб молча придерживает лошадь, чтобы шла медленнее. Лицо у него серьезное. Между бровями глубокая морщинка. Но это у него с давних пор.
Немного помолчав, Екаб снова заводит разговор. Рассказывает о сенокосе, о том, какой в этом году ожидается урожай, о детях… Рассказывает возбужденно, торопливо, и в этой торопливости чувствуется тайная тревога. Кажется, и Эрнест замечает ее, но ничего не говорит, задумчиво слушая брата.
Лиене и обе девочки бегут им навстречу. Все трое принарядились и радуются от души. Чем-то теплым повеяло на одинокого горожанина. Радушные, милые люди. Вот старые, хорошо сохранившиеся крытые соломой службы, новый выстроенный братом дом с тремя трубами и террасой. Большой фруктовый сад, обнесенный изгородью из белых жердей… У колодца – столб с рассохой и опущенным журавлем. За клетью поросший орешником пригорок и песчаный отвал, где они, бывало, каждый день после обеда искали в глубоких норах стрижей… Под обрывом, среди зарослей аира, мочило для льна, затянутое зеленой ряской… Теплой волной бьются и льются воспоминания… а вокруг радостные, милые лица.
Он идет в дом, ведя за руки голубоглазых девочек с выгоревшими на солнце волосами. Они прыгают, тормошат его, заглядывают в глаза, радуются, смеются. Эрнест тоже смеется. Смеется и Лиене – она идет впереди с корзиной в руках и все время оглядывается. Распрягая лошадь, тихо смеется Екаб.
В комнатах чистота и порядок – для него прибрали… Он проходит просторную хозяйскую половину и останавливается перед дверью крайней комнатки. Улыбаясь, заглядывает через его плечо Лиене. Кровать застлана одеялом в красную полоску, на нем белоснежная подушка. В ногах глиняный таз для умыванья и полотенце с длинной бахромой, за изголовьем березовые ветки. На покрытом скатертью столе стакан с анютиными глазками и божьим деревом, тарелка домашнего печенья и аккуратно сложенный последний номер газеты… Трогательное внимание и забота… Эрнест оборачивается, берет Лиене за руку и пожимает, взволнованно глядя в ее смеющиеся глаза.
Садятся за стол. За обедом все шумят и смеются. Дети уже успели отведать дядиных гостинцев и теперь плохо едят, вмешиваются в разговоры взрослых. Братья наливают по стаканчику из привезенной Эрнестом бутылки и чокаются. Солнце заливает большое, сияющее чистотой окно, свежевыбеленные стены комнаты.
Потом идут погулять в поле. Тут есть на что посмотреть, о чем расспросить, что рассказать, так что под конец устают и языки и глаза. Под вечер снова собираются в той же комнате. Все немного устали от прогулки, от разговоров, радостного волнения, притихли, стали задумчивее. И, как обычно в таких случаях, все испытывают некоторую неловкость за преувеличенные восторги, которые так не вяжутся с обычным ходом будничной жизни. Лиене теребит скатерть, Екаб вертит пальцами, Эрнест откинулся на спинку стула и смотрит в окно.
Смотрит и время от времени покашливает.
Лиене вздрагивает, переглядывается с Екабом и опускает руки на колени.
– У тебя… ты все еще кашляешь?
По лицу Эрнеста пробегает тень.
– Да, все еще… Теперь немного меньше, но все еще кашляю.
Лиене тяжело вздыхает, поднимается, оправляет передник и опять садится. Потом снова встает, оглядывается, словно что-то ищет, и закрывает полуотворенную дверь.
– Как бы не продуло… – сконфуженно объясняет она и, вернувшись на место, спрашивает: – Неизвестно, можно ли тебе возвращаться обратно?
Движением головы, рук, всего своего тела Екаб дает понять, что об этом не следует говорить. Глаза у него широко раскрыты, весь лоб в морщинах. Но волнение его напрасно. Эрнест молчит и только еще сильнее перегнулся к окну, как будто ему там во что бы то ни стало нужно что-то разглядеть.
Все понимают, что он не мог не расслышать. И странное его молчание может быть истолковано лишь как неправильный ответ на необдуманный вопрос Лиене. Молчание становится невыносимым, и Екаб начинает говорить. В его словах нет никакой связи с предыдущим, говорит он первое, что взбрело на ум.
– Хлеба поднялись, ничего… Ну а вдруг будет засуха, как в прошлом году? В тот раз посеял я за горкой ячмень. Взошел – душа радовалась, а потом посох, пожелтел… И сам-восемь не собрали…
– Нынче весной ржи тоже досталось, – добавляет Лиене.
– Рожь еще туда-сюда, а вот клевер редковатый. Если еще не удастся как следует сено убрать, придется будущей зимой кормить коров ржаной соломой. Нынешней зимой, милая моя, не то, что в прошлые годы, – что в ясли, то и на подстилку. Придется побережливее быть.
– Да, с хозяйством не так-то просто… – начинает Екаб с другого конца. – Думаешь одно, а получается другое. Думаешь, за хутор почти выплачено, земля – ничего… урожай середка на половинку… А там, глядишь, то одно, то другое… Батраки дороги и ленивы. Концы с концами не сведешь. Стыдно сказать, но что правда, то правда – концы с концами не сводим. Из волости три раза повестку присылали насчет подушных…
– Хлев того гляди обвалится, – подсказывает Лиене.
– Да и хлев. Клети обветшали, но еще годик-другой простоят. Что поделаешь, как-нибудь подпорки поставим, и простоят. – И оба, будто над чем-то издеваясь, громко и принужденно смеются. – А хлев придется строить. Будь что будет, а осенью надо начать свозить материал. И соседи смеются, – для себя вон какие хоромы поставил, а хлев вот-вот на коров обвалится. Конечно, говорю, это не порядок, да разве мы для себя. К нам гости приезжают, нельзя же… И луг в низине надо бы осушить, там сток к реке хороший, иначе какой от него толк, одна осока… – Вдруг он спохватывается. – Нам еще что, другим куда труднее. Нам каждый месяц пятнадцать – двадцать рублей присылают… Соседи смеются – чем не жизнь? Всем бы такого братца…
Умолкает и вместе с Лиене смотрит, как брат прижимает ко рту бледные, прозрачные пальцы, чтобы сдержать кашель. Эрнест оборачивается и говорит так, будто ничего не слышал:
– Врач говорит – поезжайте на юг. Сейчас еще… сейчас еще есть надежда. Смотрите – пальцы как выбеленные. – И смеется фальшивым смехом, точь-в-точь как Лиене и Екаб. – Только вот не знаю…
Смеркается. В комнате долго длится молчание.
Вот и высказано то, чего все ждали и о чем все время думали. Не хотели думать, но думали.
Эрнесту и самому кажется, что он сказал что-то неподобающее. Он спешит повернуть разговор на другую, более безразличную тему.
Разговоры, лица, взгляды и улыбки – все становится каким-то безразличным, чужим и далеким. Все трое чувствуют перемену и внутренне борются с ней. Перескакивают с темы на тему, стараются подогреть себя. Но все слишком остро ощущают свое бессилие перед чем-то чужим и назойливым, что вместе с вечерними сумерками вползает через все окна в комнату, обволакивает их.
Но вот пригнали скотину, и все идут смотреть ее. Теперь говорит больше Лиене. Скотина – гордость хозяйки. И Лиене действительно есть чем гордиться. Коровы – все бурые – лоснятся от жира. Пушистые, недавно выкупанные овцы. Бело-розовые свиньи английской породы на низких ногах с отвислыми ушами и почти без щетины. Три матки супоросые. Лиене все показывает и объясняет, но как-то нехотя. Можно подумать, что все это не доставляет ей ни малейшего удовольствия, что она хочет на что-то пожаловаться. Особенно обстоятельно рассказывает она о всяких мелких неполадках со скотиной.
Возвращается с дальнего луга батрак с сенокосилкой. В кухне две батрачки поочередно вертят ручку сепаратора, – пока одна вертит, другая моет и ополаскивает большие с железными обручами бидоны. На краю белой кафельной плиты шумит вскипевший самовар. Утомившись, братья и Лиене идут в комнату и садятся. Девочки притихли, оробели, держатся особняком, смотрят серьезно, недоумевающе.
Эрнест по привычке заслоняет рот рукой и кашляет сухим кашлем.
– Я подумал-подумал… – говорит он, запинаясь, и вдруг краснеет, будто сказал что-то неприличное. Проглатывает комок, от которого так першило и щекотало в горле. Он так и не досказывает свою мысль, но она всем понятна. Екаб большими шагами подходит к окну и распахивает его. Лиене вносит чайную посуду.
За ужином Екаб и Лиене соревнуются перед Эрнестом в любезности и услужливости. Следят, все ли у него есть, не нужно ли чего, не мешает ли что. Он окончательно смущен этой как будто непритворной приветливостью. От окна дует в спину, холод пробирает до костей – в последнее время он не переносит сквозняков. Но обстановка такова, что ему неловко об этом сказать. Обычно он пьет два стакана чаю, но тут под натиском гостеприимства выпивает и третий. Да еще делает вид, что очень вкусно…
В их отношения вкрались ложь и притворство. Непонятно… Каждый думает, что говорит именно то, о чем необходимо и хочется сказать, и все-таки каждый чувствует, что это только маска, и тайком наблюдает за другими: не заметили ли?
Только когда бутылка коньяку убавляется наполовину, в братьях мало-помалу происходит перемена. Они становятся разговорчивее, шумнее и как будто откровеннее.
Становится теплее друг с другом… Правда, нет еще прежней задушевности – это понимает отуманенная коньяком голова, чувствуют возбужденные нервы.
Екаб расстегнул жилет и, налегая грудью на стол, тянется к брату. Лицо у него раскраснелось, прищуренные глаза смотрят добродушно.
– Ты. брат, не думай, что нам жить невозможно. Дай бог каждому такую жизнь. Работать, конечно, приходится, но кто же не работает? Хлеб на дороге не валяется. А ты разве не служишь? Иной раз, наверно, еще труднее моего приходится…
– Ничего… жить можно… – улыбается Эрнест, подливая коньяку.
– Ты мне не рассказывай. – Екаб машет рукой и, выпив, крякает. – Мы, по крайней мере, всегда на свежем воздухе. А у нас что: пыль, дым, смрад… Я бы и полгода в городе не выдержал. Случится если на ночь там задержаться, то уж знай – забудь про сои. Глаз не сомкнешь из-за этого дурацкого шума. И как только люди не шалеют, когда изо дня в день приходится жить в этой сутолоке? – Он опять тянется через стол к брату. – Не думай, брат, что я забыл, сколько ты мне добра сделал. Да никогда в жизни! Случалось так, что не знаешь, куда и податься… и вдруг повестка – получай пятнадцать – двадцать рублей…
Речь его прерывается. Последние слова Екаб произносит дрожащим голосом, на глазах у него слезы. Он бросает быстрый взгляд на жену. Лиене, опустив глаза, нервно застегивает и расстегивает нижнюю пуговицу кофты.
Эрнест тоже смотрит на пол и улыбается какой-то неопределенной улыбкой.
– Стоит ли говорить. Я ведь не вовсе даром. Каждый раз что-нибудь беру у вас.
– Не болтай! – резко перебивает его Екаб. Если бы его узкие глаза не сияли улыбкой, можно было бы подумать, что он и в самом деле сердится. – Добро какое – фунтик масла, корзинка яблок… Смех один. Но ты сам знаешь, пока на ноги не встанем – трудно. Только в нынешнем году шестьсот саженей канавы пришлось выкопать.
– А на будущий год надо новый хлев строить, – добавляет шепотом Лиене.
– На будущий год обязательно надо хлев строить… Осенью начнем материал свозить. И это все ничего. Мы с Лиене уже давно решили, что теперь ты должен больше брать из дома. Молоко, конечно, нельзя, а вот творог… А иногда найдется и кусочек мяса, яйца или там цыпленок… Время от времени кто-нибудь из знакомых в город едет. – И Екаб заскорузлыми пальцами скатывает из хлебных крошек шарик. – Если завтра едешь… Неужто больше одного дня не можешь побыть? Пора страдная, и кто его знает, сколько времени продержится ведро, но я уже батракам работу до самого обеда задал. Опять сам отвезу. Неужто я ради брата не могу один день…








