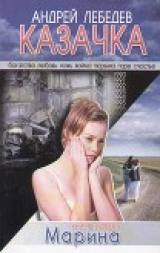
Текст книги "Казачка. Книга 1. Марина (СИ)"
Автор книги: Андрей Лебедев
Соавторы: Andrew Лебедев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Витька, оказывается, едва проводив Олечку до общаги, всю ночь продрых в собственной теплой койке.
Хранивший загадочное молчание Серега – тот на такси приехал в общежитие за час до подъема. Откуда приехал? Не известно.
А вот Ваня…
А Ваня пришел на стройку, когда ребята уже час как кидали в опалубку бетон. Он было сразу схватился за самое тяжелое, за что никто и никогда не любил хвататься – за электровибратор, но его остановил жесткий окрик:
– Введенский! Иди сюда!
На дощатой эстакаде, по которой бетоновозы заезжали на опалубку, стояли Игорь с Владим Санычем.
– Введенский, ты почему не был на разводе?
– Я опоздал.
– Ты знаешь правила?
– Знаю.
– Я и командир – мы отстраняем тебя от работы, и сегодня в девятнадцать часов будет собрание студентов.
Чего Ваня в своей жизни не умел, так это упрашивать начальство о прощении. Ему это казалось настолько унизительным, что он предпочитал получить «на полную катушку», чем канючить, «ну простите, ну извините, я больше не буду»…
До обеда он просто загорал на траве неподалеку от стройплощадки. Потом, когда из столовой привезли термоса с борщом и кашей, сел обедать со всеми.
– Не бзди, Джон! Выговор объявят и все будет о-кей, – принялся успокаивать всегда все знающий наперед Серега, – ты хоть спал с ней, надеюсь?
Ваня почувствовал, что краснеет и промычал в ответ что то нечленораздельное, не сумев даже отшутиться или просто послать Серегу к черту.
– Владим Саныч! Может допустим Введенского после обеда? У нас в бригаде некому на вибраторе! – подал голос Витька…
– Ну, да в самом деле, Владим Саныч! – разом загалдели ребята
– Чего там, ну намылим ему на собрании башку, а чего от работы то отстранять?
– Так и работать некому будет – всех разгоните
А вот этой реплики, источника которой Ваня не уловил, подавать бы и не следовало… И точно!
– Что значит «некому работать будет»? Вы соображайте, что говорите у меня! – «Гестапо» аж борщом поперхнулся, так его заело, – мы потому и выносим проступок студента Введенского на собрание, чтобы на его примере показать всю серьезность этого дела.
– Ага, тебя, Джон для острастки засудят! – буркнул в алюминиевую миску Серега.
– Да давайте Ваньку на поруки возьмем! – крикнула некрасивая, но бойкая и от того удачливая в любви Верка Мамулова.
– На по-ру-ки, на по-ру-ки, на по-ру-ки! – принялись все стучать ложками.
– Владимир, в бригаде и правда ребята зашиваются, у многих мозоли от лопат с непривычки. А бетон идет – четыре бетоновоза в час – только успевай! Давай допустим его! – очнулся наконец командир – Игорь Сутягин.
– Ну, ладно. В виде первого и последнего исключения допустим условно до работы, а вечером на собрании будем решать вопрос…
Ух! Отлегло на сердце!
После обеда – перекур пятнадцать минут.
– Ну как? Было дело? – снова наехал Серега, как только закурили по первой послеобеденной.
– Да иди ты к черту, – наконец нашелся – таки, что ответить совсем уже заикающийся от пережитого и раскрасневшийся Ваня.
– Ну, значит – было, вижу… А у нас с Ирочкой, скажу я тебе!
– Серега…
– Да ты че, Джон! Влюбился? Она у тебя первая телка?
– Серега, перестань, я прошу!
– Ну-ну-ну-ну… Все! Но все равно, у нас с Ирунчиком – все тип-топ. В лучшем виде. Она – коренная москвичка! Предки в Болгарии на курорте, квартира, все такое… Мы первый раз с ней прямо в ванной…
– Сергей!
– Все! Молчу!
Всю неделю Ваня работал в каком то отчаянном порыве, словно галерный гребец, предупрежденный, о том что скоро будет выброшен за борт, словно чернокожий раб на хлопковом поле штата Миссисипи, которому за лень или иной проступок были обещаны субботние плети, словно плененный египтянами эфиоп, строящий пирамиду Хеопса, которого за нерадивость грозили отдать в жертву богу Осирису. В ушах все время звучало: «Ты, Введенский – первый кандидат на вылет с практики, а автоматом из института. Ты, Введенский – теперь на особом счету и всегда под самым пристальным вниманием руководства»… Да, с таким послужным списком, с такой отметиной – далеко не убежишь, – думал Ваня, кидая тяжелый цементный раствор самой захватистой лопатой, что нашлась в арсенале у бригадира.
Даже Серега с Витькой, и те порой ворчали, – да брось ты Джон упираться рогом! Не бзди, и никто тебя не выгонит…Только грыжу заработаешь.
А сами уже обсуждали между собой, как в воскресенье поедут на рандеву с Ирой и Олей.
– На меня не рассчитывайте, меня «Гестапо» теперь вообще никуда не пустит, разве что возле общаги на площадке в волейбольчик попрыгать – на виду у всех.
– А как же Маринка твоя?
– Не знаю, – отвечал Ваня мрачнея лицом.
Однако, есть все же Бог на небе! В пятницу «Гестапо» отвезли в больницу с приступом аппендицита.
– Так ему! – сказал Серега, узнав эту сногсшибательную новость.
– Лежал бы он теперь там до конца практики! – добавил Виктор.
Душа у Вани ликовала. И не смотря на то, что от изнурительной работы в конце смены он едва не валился с ног, в пять вечера забежал к Марине.
– Пойдем сейчас в кино?
– Пойдем. А куда?
– А куда у вас ходят?
– Давай в Россию. На Пушкинской. Я хочу свидание с тобой – у памятника. У фонтана. Там… Через полтора часа.
У Вани долго не поворачивался язык, но преодолев стыд и неловкость, он все же попросил у Виктора джинсов – «на один только вечер, и один только раз». Витька только улыбнулся.
– Смотри, не обтрухай, – сказал Серега, и в другой раз, может Ваня бы и обиделся, но теперь не стал.
– Куртку будешь брать? – спросил Виктор, и не дожидаясь ответа, протянул Ване свой почти не линялый Blue Dollar.
– Спасибо, Витя.
– Да ничего…
Цветов Ваня нарвал с клумбы возле общаги. Раньше он себе такого и представить бы не смог, а тут… Во как забрало!
Маринка уже стояла возле фонтана, в коротком платье, в котором она ну никак не походила на студентку… На вид сейчас ей можно было дать едва шестнадцать.
– Привет
– Привет
Краснея, Ваня неловко протянул букет садовых ромашек и с еще меньшей ловкостью ткнулся носом в ее щеку.
– Куда пойдем?
– А все равно.
Пошли пешком по Бульвару. Сперва до Никитских ворот, потом еще дальше. Посидели на скамейке напротив литературного института. И все время жутко хотелось целоваться.
В кино попали только на сеанс «двадцать один-тридцать». В «Ударник». Показывали какую то итальянскую комедию с Челентано. Но Ваня на экран почти не смотрел. Его все тянуло целоваться. И ей тоже. И они себе в этом не отказывали.
– А мы с Ирочкой, наверное, поженимся…
Серега лежал поверх одеяла. Голый, в одних плавках. Жара на улице, если доверять не телевизору, а своим ощущениям, была под тридцать. Оба окна их комнаты были открыты настеж, а там, за едва колыхавшимися занавесками было что то нехорошее. Вдали погромыхивало, и темно-серое небо, цвета совсем как у Невской воды в хмурый день, давило и парило духотой.
– Гроза будет, – сказал Витя, тоже голый, и тоже в одних плавках лежащий поверх одеяла.
– Поженимся мы с Ирочкой…
– Что, так приспичило? – хмыкнул Виктор, пуская в потолок струйку сигаретного дыма.
– Дурило ты. У меня, ты знаешь, с этим делом – никаких проблем. Я онанизмом уже в десятом классе бросил заниматься и полностью перешел на конкретных телок.
– Ну так и что?
– А то, что браки надо заключать тогда, когда это выгодно…
– Ну?
– Вот и ну! Ирка – баба что надо, ты ж видел.
– Ну.
– Но меня не это берет. У меня, ты ж знаешь, телок в Ленинграде – миллион и еще больше. Ирка как жена – перспективная.
– Ну.
– А и то – папаша у нее, сам понимаешь – в министерстве не последний человек, квартира у них, ты бы видел! И потом – это ж Москва…
– А че, Ленинград наш хуже, что ли?
– Дурак ты Витек, конечно хуже.
– А мне наоборот, Москва не нравится.
– Просто ты ее не знаешь. Судишь о ней с точки зрения проезжего транзитного пассажира, которому надо с Белорусского вокзала на Казанский. В руках у него чемодан тяжелый, да надо до поезда еще подарок жене в ГУМе купить. Вот он ее – Москву и не любит – его тут все толкают, как куда пройти – не говорят, он устал, ему полежать хочется и вообще – город этот для него чужой. Вот он по приезде в свои Большие Говнищи и рассказывает родне – какой плохой и неуютный это город – Москва. А ты поживи в ней, как в родном городе!
– Нет, Серега, ты не патриот.
– Да, я не патриот. Я хочу в Москву.
– И поэтому на Ирочке женишься?
– И поэтому тоже.
– Ну и что, она согласна?
– Я думаю, будет согласна.
– А-а-а! Так ты еще ей не предлагал?
– Дурак, она в меня втрескалась, я тебе говорю!
– То что ты с ней спал? Так у нее тут до тебя, и одновременно с тобой может сто таких как ты, да еще и покруче.
– Нет. Нет, Витек, я в бабах понимаю. Я вижу, когда они контроль теряют.
– А сам?
– Ну, она мне в кайф. Классная телка, ты ж видел!
– Ну видел.
– И грамотная в этом деле – я тебе доложу!
– Это для женитьбы опасно.
– Почему?
– Жена должна иметь пониженную сексуальность, чтобы любовников не было.
– И чтобы муж страдал от ее фригидности и бегал за другими бабами! Я думаю, если уж жениться, то чтобы в постели с женой – было лучше чем со всеми остальными телками!
– А если у тебя стоять перестанет?.. Ну хоть временно? Ну заболеешь?
– Знаешь, в одном французском анекдоте Жан говорит Пьеру: «лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо в одиночку»
– Ну, ты даешь! А я б никогда не смог простить своей жене, если б она мне изменила.
– А как у тебя с Олечкой?
– Спали мы или нет?
– Да.
– Нет, не спали. Она девочка еще.
– Ты уверен?
– На все сто. Она мне сказала.
– Ха-ха! И ты поверил.
– Ей – поверил. А твоей Ирочке, кабы она мне такое заявила – не поверил бы…
– Ну и дурак!
– Ну-ну…
За окном грозно сверкнуло и через несколько мгновений как будто кто то со страшным треском разорвал это Московское небо, словно женщина с треском рвет на тряпки старую простыню. Колыхнулись занавеси, и в комнату дыхнуло первым предгрозовым дуновеньем.
– Someone told me long ago
There s a calm before a storm
I know!
It being coming for sometimes
Витя тоже изобразил, будто держит в руках гитару, и подтянул за Сергеем во всю глотку:
– I wanna know
Have you ever seen the rain!
I wanna know
Have you ever seen the rain?
Comin here someday…
Одновременно с первыми каплями дождя, тяжело ударившими по жести за окном, в комнату ввалился Ваня.
– Ну там, ребя, и погода!
– Джон! Ты как всегда так кстати…
– А что, вы пьете?
– Нет, Серега про женитьбу рассказывает.
– Про чью?
– Про твою. Ты же на Маринке женишься, как честный человек?
– А что, я обязан это с вами обсуждать?
– А с кем еще ты вообще можешь это обсуждать кроме нас?
– А это надо обсуждать?
– Во все времена у друзей было принято делиться.
– Ну не всем же!
– Когда она тебе станет женой, поверь, никого не будет интересовать, как там у вас, но пока ты наш друг, нам интересно.
– Пока у нас все хорошо.
– Как это, нам не понятно! Вот у Сереги с Ирочкой – по его словам все на мази. И он уже даже решил почти что жениться. А как у тебя с Маринкой?
– Она очень хорошая.
– Ну ты даешь! Кто ж сомневается?
– Я влюбился, ребята. Не знаю че и делать.
– Женись, дурак!
За окном не на шутку блеснуло с почти одновременным раздирающим душу грохотом
– I wanna know
Have you ever seen the rain!
I wanna know
Have you ever seen the rain?
Comin here someday…
Грянули ребята в три глотки разом.
………………………………………………………………………….
Знаете, что такое настоящая любовь? Это когда в отношениях нет эксплуатации.
Не понимаете? Это когда никто не использует другого для какой то цели, пусть даже вполне благородной и социально оправданной. Например, для воспитания детей. Семья, построенная на обязанностях может существовать. Таких семей – миллионы. Их поддерживает государство системой законов и прочей системой социальных институтов. Но такая семья, если в ней нет любви – это плод эксплуатации. И не даром, обществоведы называют ее ячейкой общества и первоосновой государства. В такой семье есть все элементы государственной эксплуатации. Там есть и свои суды, и своя полиция, и своя тюрьма. Вспомним, разве теща на кухне – это не суд? А тесть с зятем – это ли не полиция? Впрочем, и сама жена может порою выполнять все силовые функции принуждения. И цели, преследуемые ею всегда найдут самое большое сочувствие у окружающих – как же! Ведь она хочет сохранить семью. Она хочет, чтобы у детей был отец.
Но настоящая любовь – может быть только свободной. Свободной от всякой эксплуатации. Любовь, это такие взаимоотношения, когда радость только дарят, не требуя взамен ничего. Любовь не предполагает бартерных отношений, вроде некого товарообмена: я делаю хорошо тебе, чтобы ты делал хорошо мне. Такие отношения называются сговором, но не любовью. Любовь – это дарение себя и своих богатств другому безо всяких обязательств с противоположной стороны. И когда любовь взаимна – это истинное счастье. Такая любовь – это Дар Божий.
Впрочем, что я говорю! Умение любить – дарить себя не получая ничего взамен, это счастье, даже тогда, когда чувства не разделены… Это может трудно так сразу понять, не испытав. Но главное, я хочу, чтобы вы поняли: любовь не терпит никакой эксплуатации. Как только кто – то начинает говорить об обязанностях – это уже не любовь. Впрочем, эксплуатация может носить и скрытый характер. Вот он, например, пользуется ее любовью, понуждая ее рисковать ее общественным статусом, или она, удовлетворяет свои сексуальные прихоти, не считаясь с его нравственными или религиозными убеждениями… Это – эксплуатация. Вы понимаете?
Я несчастный человек. Я несчастен от того, что любим самым чистым и бескорыстным существом на всем этом свете. Но я эксплуатирую ее чувство. Я потребительски пользуюсь им. Так, как моя жена потребительски пользуется мною. И что интересно, моя жена совершенно уверена, что любит меня. Искренне заблуждаясь, и принимая выполнение социальных функций за любовь… Вы не понимаете? Ну ладно.
Моя жена ходит ко мне в институт к руководству и говорит: верните моим детям отца, а мне мужа. Детям нужен отец, а государству нужен работник, у которого хорошая и крепкая полноценная семья… И местком, поддерживаемый всею общественностью, ищет рычаги… И находит их. Например, задерживают публикацию моей книги, пропуская вперед какого то другого автора. Или, не пускают меня на Конгресс в Италию… Как же меня можно пускать за границу, если я морально не устойчив? Я поди, и Родину так смогу предать!
А жена моя, добросовестно заблуждаясь, относительно истинности любви, полагает, будто насилуя меня, она меня любит.
Но ведь и я тот еще фрукт! То существо, что любит меня совершенно бескорыстно – я не имею силы сделать счастливым. Я не могу найти в себе сил уйти от жены, потому что тогда на моей научной карьере сейчас можно будет поставить крест… Но и бросить это высшее небесное существо – бросить его, прекратить наши встречи, я тоже не в силах. И это эксплуатация. Я упрекаю мою жену в том, что она эксплуатирует меня, а сам… А сам, позорно урываю минуты счастья для себя, не в силах сделать то существо счастливым…
Иван с Марикой уже три часа ехали в поезде Москва-Ленинград и слушали этого пожилого пьяненького мужчину, разоткровенничавшегося с ними толи от выпитого коньяку, толи от того, что в Ленинграде ему с вокзала придется идти совсем не в тот дом, в который ему бы хотелось.
– Смешной он, правда?
– Смешной… и жалкий какой то…
А за окном справа налево бежала августовская ночь.
Благословенна летняя тишина старых московских квартир.
Как удивителен этот контраст – контраст удушливой асфальтовой жары с недвижимой прохладой больших высоких потолков. Контраст – неистовой суеты городского полдня с величественным покоем просторной прихожей и мудрым мраком длинного и темного коридора. Этот контраст шума тысяч моторов и тысяч шин по Садовому кольцу с такой завораживающей тишиной и покоем спальни. Этот контраст запаха горячей резины, перегретых тел, болгарского табака с той тонкой смесью запаха старых книг и картин в гостиной и кабинете, контраст бензинового духа с полувековым амбре добротной московской еды, что въелся в стены просторной и старомодной кухни. Этот контраст рациональности линий разноцветных, несущихся по улице авто с вечной иррациональностью фарфоровых безделушек.
Однако, ленинградские квартиры совсем непохожи на московские.
Эти вечные перевязанные бечевой пыльные стопки старых книжек. Они приговорены к сожжению… Или к переработке в утиль…Но исполнение приговора пока отложено… И никто уже никогда не будет их читать. Придут пионеры. Позвонят в квартиру, – макулатура есть? И засуетившаяся бабуля возьмет, да и отдаст эти книжки – берите ребята, все равно от них только пыль одна…
А эти застывшие в неестественной выгнутости рассохшиеся лыжи – свидетельство насилия над детками, которых так же гнут и выгибают в школе и дома, делая из них людей… как из прямых и ровных досочек выгнули эти снегокаты, да бросили потом на антресоль…
Было субботнее утро, и мама была дома. Она уже встала, но еще не причесывалась и вообще не выходила из комнаты в общую кухню или в коридор. В стареньком фланелевом халате, надетом поверх ночной сорочки, она смотрела по телевизору какую то ерунду и думала о сыне…
– Привет, ма! Это вот Марина, она в Институт культуры поступает. Мы на выходные из Москвы Ленинград посмотреть, а завтра вечером назад, у нас и билеты уже есть.
– Как же… Как же так? А тебя не выгнали с практики то? Что же вы приехали, не предупредили?
– Да мы сами решили только вчера. Я аванс получил – пошли, купили билеты и приехали. Петродворец посмотреть, Эрмитаж, и обратно.
Мать чувствовала себя совершенно растерянной. Эта девочка… А в комнатах совсем не убрано, и сама она…
– Ах, Ванька, Ванька, предупреждать надо, что же я? Как я вас принимаю?
– Вы извините нас, Людмила Александровна…
– Да что там! Я ведь рада.
– Ваня, а кто эта девочка? – полу – шепотом спросила мать, буквально вытащив сына из комнаты в коридор.
– Ма! Ну это девочка, хорошая знакомая из Москвы.
– Ваня!
– Ма!
…………………………………………………………………
Петергоф пленил.
День выдался солнечный, но ветреный.
В электричке, которые с Балтийского вокзала уходили на Петродворец почти каждые пол-часа, мест для сидения не менее не оказалось. Они стояли в тамбуре. Ваня курил. А когда сигарета сгорала, он пытался лезть к ней целоваться.
А ей так хотелось увидеть это чудо!
И чудо превзошло все ее ожидания.
Ну что фотографии? У учительницы по литературе был цветной альбом Пригороды Ленинграда. И они смотрели этот альбом всем классом тогда, в седьмом или даже в восьмом, когда Алевтина Андреевна приехала из отпуска. И они даже сочинение писали на тему, «Почему я хочу поехать в Ленинград».
Но фотографии, пускай даже и цветные – ничего не передают.
Разве можно передать этот морской простор, который открывается с лестницы Большого каскада? А балтийский ветер и брызги на губах? А такое неповторимое единение цвета золота куполов и синего ветреного неба?
Она ходила по аллеям нижнего парка, как во сне, улыбаясь и пытаясь схватить глазами и запомнить как можно больше этой красоты.
И только Ванечка… Мешал ей, подлезая со своими поцелуями.
– Ну, Маринка… Ну, Маринка…
Он тянул ее назад – домой в Ленинград, зная, что мать на весь вечер ушла к подруге на юбилей. В нем пульсировало нетерпение. Он рассчитывал именно на этот вечер.
– Маринк, ну поехали, а?
А она так хотела напиться допьяна этим ветреным днем, этим свежим балтийским порывом, бросающим в лицо мелочь искристой влаги из Самсоновой струи. Ну куда? Куда и зачем уезжать, покуда на это можно смотреть и смотреть!
За три недели знакомства она уже привыкла к тому, что Ваня туговато расстается с деньгами. Но это совсем не раздражало ее.
– Давай, пообедаем в ресторане!
Ваня явно испугался…
– Зачем в ресторане? Давай поедем домой, шампанского возьмем, музыку послушаем…
Но ей хотелось устроить праздник. Ну нельзя, нельзя уехать от этой красоты просто так!
– Ванька, да я тебя угощаю… Не стесняйся…
И в его глазах она вдруг разглядела блеснувший там страх. И она все поняла. Она поняла, что и он понял. Не пара они.
Не пара он ей.
В уютном подвальчике, стилизованном под крепостной каземат Петровских времен, они сели. И принялись молча смотреть друг на друга. Она улыбалась, не скрывая своего счастья – она видела Петергоф, и она восторженно переживает эту сбывшуюся мечту.
А Ваня грустил. Он грустил по тем потерянным минутам, что они могли бы провести дома, у него в комнате, когда мама ушла к подруге на весь вечер…
Официант принес шампанское.
Какую то нехитрую ресторанную закуску.
Они выпили.
Шампанское было очень сухим и сильно щипало губы и язык.
– За нас, – сказал Ваня, вложив в слова и во взгляд всю свою тоску.
– За встречу с Петродворцом, – ответила Марина и улыбнулась.
В электричке он снова лез целоваться.
А дома.
Она давно все поняла, и готовилась к объяснению,
– Не надо, Ваня. Я не люблю тебя. А без любви я не могу и никогда не смогу. У меня был любимый. Я и сейчас его люблю. Он в Ростове. Поступает на Юридический. А тебя я не люблю. И не надо, Ваня. Не надо так страдать.
Лицо его в искусственном полумраке плотно зашторенной комнатки выглядело по – рембрантовски трагичным.
– Маринка, я так…
Ваня сглотнул, преодолевая спазм в горле.
– Ваня, я тебе сказала всю правду. Я, может виновата перед тобой, что ходила с тобой почти месяц, дружила… и целовалась даже… Но это не любовь. Ты должен понимать.
Глаза у Вани были как у собаки Вильяма Шекспира, когда тот увлеченно писал своего Короля Лир… Если только у Шекспира была тогда собака… Но если была – то у нее были именно такие глаза, как были теперь у Вани – такие же полные грусти, и даже отчаяния… Хозяин меня приручил, а что бы приласкать – так нет!
– Марина! Я так тебя…
И он сделал – таки неверное движение, протянув руку, попытавшись дотронуться до нее.
– Нет. Нет, Ваня, нет! Я люблю другого.
– А он тебя?
– А он… А он не любит.
Ваня как бы ухватился за соломинку,
– Ну, так почему ты не хочешь полюбить меня?
– А потому что моя любовь это часть меня. Это даже не он сам, а я сама. И моя любовь от него теперь даже не зависит. Понимаешь?
Она видела, что он не просто НЕ понимает, но и не хочет ничего понимать. Он просто в недоумении и сильно разочарован, страдая от несбывшихся надежд на счастье.
– Я его люблю. Но он здесь даже и не при чем… Тебе это странным покажется. Но я так ощущаю, что любовь эта – мое сокровенное. Она как раскрывшийся во мне цветок. И этот цветок – он мой. И даже не его, не Мишкин…
Ваня вздрогнул.
– Его Миша зовут?
– Да. Но это не важно.
А потом они ехали обратно в Москву.
Всю почти дорогу молчали.
Маринка хотела сказать Ване, что он глупо себя ведет, но по-взрослому вдруг поняла, что он просто не в состоянии ее понять, что просто он еще маленький, глупый и очень эгоистичный.
Да, он жалел себя. И жалел тех денег, что потратил на нее за весь этот месяц… И что теперь ему не хватит на музыкальный центр.
И к своему несчастью он никогда и не смог уже понять, что СЧАСТЬЕМ – был уже только сам тот факт, что Марина целый месяц была рядом…
А потом наступил сентябрь. И Марина осталась в Москве…
А Ваня уехал в Ленинград.
…………………………………………………………………………………………..
3.
Но учиться на хореографа она не стала… В конце сентября, в общежитии ее нашел Дима Заманский. У него дела были какие то в Москве.
Пригласил в ресторан. В очень красивый и вкусный. Дима как узнал, на какое отделение она поступила, так и зашелся от возмущения – чуть не подавился.
– Только на экономический факультет! На бухучет… И не будь дурочкой!
Поверила. Убедил.
И на следующий день Дима сам бегал с ее документами из деканата в ректорат и обратно, в деканат, но другого уже факультета.
Сперва тоска брала – девчонки в класс идут, танцами заниматься, а у нее лекции по теории математической статистики или практика по программированию. Думала, дура – послушалась Димку, всю жизнь себе загубила… Но дела на дворе, действительно, такие начались, что на бухгалтеров спрос стал, как на хлеб в голодный год. У них даже некоторые старшекурсницы, и те без отрыва от учебы – принялись вести бухгалтерию каким-то кооперативам и мелким фирмочкам.
Димка приезжал в Москву где то раз в два месяца, и всегда водил ее в ресторан. Каждый раз – в новый. Потом отвозил на такси, но подняться к ней не просился. А она не предлагала.
Жила она теперь в Химках, в квартире, снятой пополам с другой девочкой из Калинина.
В институтском общежитии, где она сперва, по неопытности своей попыталась было устроиться, жить было просто опасно. Ночами в комнаты вламывались какие то азербайджанцы и грузины, ругались, оскорбляли, угрожали. Проституция и наркотики – здесь откровенно цвели, как маков цвет, и приживались в общежитии только те девчонки, кому не дороги были – ни честь, ни здоровье.
Товаркой по квартире оказалась очень тихонькая девочка – Юля. Училась она в медицинском на стоматолога. Была она некрасивой и немодной, мальчики ей не звонили, и каждые две недели она уезжала на уикенд. К папе с мамой в Великие Луки.
Зато Маринке парни звонили с утра и до ночи.
А иногда звонил Аркадий Борисович. Доцент Савицкий.
Вообще, кафедра философии, где работал Аркадий Борисович, относилась не к их экономическому факультету, и пути– дорожки их с Мариной совпали лишь на непродолжительной дистанции краткого курса логики во время весеннего семестра. Курс был действительно кратким – по два часа лекций через неделю, и по два часа семинаров в две недели раз. И то и другое в их группе вел Савицкий. И непрофильность предмета казалось бы определяла его чисто формальную необходимость – с вытекающей из нее неизбежностью легкого зачета… Однако, если для всей группы зачет и вправду носил характер соблюдения лишь внешних приличий: пришел с зачеткой – ушел с зачетом, но для Маринки кажущаяся формальность приобрела характер некой непреодолимой и досадной загвоздки.
Савицкий четыре раза заставлял Марину приходить к нему на кафедру, вынудил переписать у подруг полный конспект его лекций, и уже навис было над ней общий недопуск к экзаменам, но вдруг препод сжалился, но поставил при этом тайное условие, что она согласится съездить с ним на машине в Клин – в дом – музей композитора Чайковского.
Машина у Савицкого оказалась такой же необычной, как и он сам. Это была «Победа» бежевого цвета, выпукло – неуклюжее автомобильное творение в стиле глубокого ретро. Машина, оказывается, некогда принадлежала еще дедушке самого Аркадия Борисовича – крупному ученому и чуть ли не академику каких то наук. Получалось, что три поколения Савицких охмуряли барышень, катая их на этом много повидавшем автомобиле.
Машина была забавная. Маринка сперва испытала некоторое замешательство, когда на кольце автобуса позади метро «Сокол», где они условились встретиться, Аркадий предложил ей сесть именно в такое…
Но потом, когда переборов сомнения, она уселась рядом с водителем, чувство разочарования и неуверенности сменилось ощущением некого озорства. Некой веселой забавы.
Вообще, сидеть на диване… Именно на диване, а не на сиденье – было необычайно удобно и приятно. Несколько непривычным был плохой, по сравнению с «жигулями» обзор, но машина ехала хоть и медленно, но очень и очень мягко.
– Представляете, Марина, этой машине сорок лет, и она еще сорок лет прослужит, и моим внукам перейдет…
– У вас есть внуки?
– Мари-и-и-на! Вы обижаете.
– А что?
– Я о том, что машины раньше делали гораздо добротнее, впрочем как и все остальное, включая и человеческий материал…
– Но что касается женщин, вы, я вижу, предпочитаете новоделы, а не старину.
– Мариночка, а вы язвочка!
– Характер папин – он у меня гаишник.
– Ах, вон оно что! А знаете, я на такой машине – гаишников не боюсь. Они ретро не останавливают.
– Потому что она больше шестидесяти не разгоняется.
– Напрасно вы так, мотор у нее, хоть и свой еще тот родной, но «сто двадцать» она по шоссе вполне идет.
– А какой у нее «прием»?
– А?
– Ну, за сколько минут, или часов она у вас до этих ста двадцати разгоняться будет?
– А-а-а! Чувствуется кровь гаишника в дочке! Все про машины и про моторы…
– Наслушалась за семнадцать то лет.
– А знаете, раньше, когда машин не было, как столько, и когда во всем Дегтярном переулке, где мы с дедушкой жили, было лишь две машины – вот эта «Победа», да «Победа» какого то генерала из Генштаба, нас – деток и внучков первых автовладельцев так и дразнили: «папина победа»… И, представьте, в фельетонах про стиляг, что регулярно печатались в «Крокодиле», нас именно так и называли.
– Стиляги – это вроде панков что-ли?
– Ну, что вы! Это были первые неформалы, но в отличие от всей этой шпаны из области, что толпится нынче в подземных переходах, стиляги были в основном из очень интеллигентных семей.
– Вы были стилягой?
– Я? Что вы! Неужели вы думаете, что я такой старый?
– А какой вы?
– Марина, с вами трудно.
– И мне с вами тоже, особенно на зачете.
– Ну, кто плохое попомнит, тому глаз вон.
– Так вы не были стилягой?
– Я возрастом не вышел. Но видел их и помню очень хорошо. Дядя мой – младший папин брат – был стилягой. Ходили они по улице Горького в узких черных брючках и толстенных твидовых пиджаках с плечиками, а на голове носили этакий «кок».
– Как у панков – ирокез?
– Нет, что вы! Этакий милый хохолок зачесанный назад, как у Элвиса Пресли и Билла Хейли… Не знаете таких?
– Почему же? У нас на дискотеке Элвиса Пресли рок-н-роллы крутят.
– Вот видите! А вообще, быть стилягой было опасно. И вы представить себе не можете, до какой степени это было опасно, и в какой несвободной мы все жили стране.
– Ну, панков и теперь в милицию загребают, у меня папа – мент.
– Нет. Вы не понимаете, теперь их заберут и отпустят…
– Да! Только, бывает так в отделении надают, что мало не покажется.
– А раньше, милая моя, са-жа-ли. И давали сроки по политическим статьям.
– За что?
– А формально – могли припаять все что угодно. Вот я помню как раз процесс был по делу высокопоставленных стиляг – и вы обратите внимание, из простой молодежи, как бы сказал Ницше – из черни, из любимых Лениным рабочих – стиляг не выходило. Это теперь панки из рабочих… Да и партия тогда чернь держала в кулаке. Стоит появиться у парня красному длинному шарфу, какие бывают у стиляг – паренька сразу на комсомольское собрание, да из института, да в армию! Так что – все стиляги были из генеральских, да це-кашных сынков. «Папина победа»… И вот, было дело стиляг – сынков одного известного композитора, потом какого то сынка зам-министра культуры, да еще пары – тройки иже с ними… И появилась тогда в газете «Комсомольская правда» статья под заголовком «Плесень».
– Забавно!
– Да, только после этой статьи им всем сроки припаяли.







