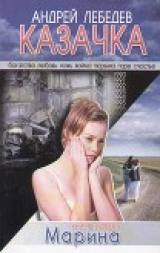
Текст книги "Казачка. Книга 1. Марина (СИ)"
Автор книги: Андрей Лебедев
Соавторы: Andrew Лебедев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Вишни то можно было и не ломать, пробурчал Батов, пожимая руку спрыгнувшему с брони Трофимову. Поднимайся сюда, наверх. Дело долгим будет. Так мне кажется.
– Товарищ генерал-майор, вас Черномордин на связь.
– Какой к херам Черномордин?
– Премьер-министр правительства Российской Федерации, товарищ генерал-майор…
Этот сюжет обошел все выпуски мировых новостей. Премьер Степан Иваныч Черномордин говорит по телефону с генералом Батовым, а потом с полевым командиром Султаном Довгаевым.
Ну, Батов немножко поволновался… Нельзя сказать что струхнул. Нет! Просто понервничал. Ему сразу все ясно стало – Черномордин светится перед избирателями и перед мировым сообществом – очки перед президентскими выборами набирает. И дураку понятно, что из Кремля за две тысячи километров – много не наруководишь. А эти «цэ-у» типа «освободить», «не допустить», «проявить» и «защитить»
– за них Батов и гроша ломаного не даст.
А вот Султану такое высочайшее внимание – явно по душе пришлось. Он того и добивался, когда больницу брал.
По телевизору то это не показали, а зря!
Султан прямо и без обиняков Черномордину сказал условия – выпускаете семьдесят чеченов, что с разными сроками в лагерях – список прилагается, и десять миллионов долларов наличными.
А Черномордин то тут весь и вышел! Ничего он оказывается решить не может! Орал в трубку как дурачок, воображая себя начальником Султана…
– Довгаев, я приказываю вам добровольно сдаться федеральным войскам, я приказываю вам сдаться, и тогда я обещаю вам и вашим сообщникам честное судебное разбирательство…
Либо дурак – либо наивный! А премьер наивный – может быть? Ну и послал его Султан на три буквы… А всех собак из Москвы спустили на Батова.
Мол, мы все необходимое и все от нас зависящее – сделали, так что, давай генерал Батов – проводи антитеррористическую операцию! И если что – мы с тебя погоны…
Это – последнее – в новостях не показали. Как не показали и сюжет с батюшкой – отцом Борисом.
После того, как Султановы боевики отбили единственную попытку разведчиков спецназа ГРУ ворваться в больницу, Батов решил особенно не рыпаться. А и то! Женщины из окошек простынями машут – куда там стрелять? Пальнешь, а потом всю жизнь будешь этот выстрел вспоминать как конец своей генеральской карьеры.
Собственно и переподчиненный – приданный ему спецназ, Батов послал под окна – только ради блезиру… Чтобы не обвинили потом, де ничего не предпринимал, занял пассивную позицию и все такое… Разбирать полеты и махать кулаками после драки – это у нас умеют. Вот попробовали бы здесь – на месте поруководить!
Одним словом, когда спецназ вернулся ни с чем, Батов окопал своих по периметру, понаставил «коробочек» за укрытиями и стрелять разрешил только снайперам из ГРУ – где каждый снайпер не ниже старлея…
Теперь вокруг больницы воцарилась почти мертвая тишина, иногда только нарушаемая пулеметной очередью с той – с ихней стороны.
И вдруг…Синицын, что ни на минуту не расставался со своей СВД, кричит,
– Товарищ генерал-майор, глядите-ка, поп бежит.
– Какой еще поп?
– Такой… Натурально – провославный поп… Батюшка.
А отец Борис, как только узнал, что чечены захватили больницу, помолился Иверской, да и пошел туда, где как полагал – была нужда в нем.
Только еще перед тем как идти, приколол на рясу свой орден Красной звезды и памятную медаль за «интернациональный долг» в ДРА…
А Султан отца Бориса сразу не узнал – с длинными волосами да с бородой, да в рясе. Ему его привели на КП, что Султан оборудовал в ординаторской хирургического отделения.
– Вот, поп русский с белым флагом к нам пришел, – оскалился опоясанный лентами к РПК весельчак Махмуд.
– Поп? Зачем поп? Я просил у них телевизионщиков с ОРТ и НТВ – я заявление делать хочу, а попа я у них не просил. И че ты так смотришь?
Отец Борис же, напротив, Султана сфотографировал в одну секунду,
– Не узнаешь, Султан? в/ч 88 840…
– Сержант Майданов? Замкомвзвода?
– Вижу, признал ты меня, наконец.
Посидели с минуту молча. Султан даже как то занервничал, что вообще для него было несвойственно. Достал сигареты, машинально предложил отцу Борису. Тот только покачал головой ни слова не говоря.
– Ты в восемьдесят четвертом по весне на дембель пошел?
– А тебе тогда еще пол-года оставалось, – ответил батюшка, и Кольке Демьяненко – корешку моему…
– Кольку в Союз «тюльпаном» послали. Нас в июне в дело запустили. Начальству тогда под Кандагаром активное развитие успеха понадобилось. Из взвода нашего еще и Гошу Маргеналашвили тогда и Леху Сайкина…
– Я знаю. Я в областной совет ветеранов теперь вхожу. Почетным заместителем председателя…
– Понятно.
– А ты теперь с женщинами воюешь, десантник?
Султан насупился. Бросил сигарету и принялся длинными пальцами ощупывать жесткие рыжие волосы моджахедовской своей бороденки.
– Нет, Борис, я не воюю с женщинами. Да и не десантник я теперь… В моей Ичкерии нет вэ-де-ве… Это у вас – у русских есть и самолеты и вертолеты.
– А там, в Афгане, ты был десантником?
– Там?
Султан замолчал. Махнул раздраженно весельчаку Махмуду – «выйди, оставь нас»…
– Это было там. – Он сделал ударение на последнем слове, – Было и прошло. А теперь у нас наша нынешняя реальность. Нету больше ни СССР, ни Афгана, ни десантуры…
– Нет, неправда твоя, есть десантура, – спокойным алтарным своим басом пророкотал отец Борис, – и десантура с женщинами не воюет.
– Ты меня, замкомвзвод, на жалость не разводи! Да и не замкомвзвод ты мне теперь. На тебе вон – и одежда поповская. Где твой камуфляж да кроссовки? Нет больше десантуры, и страны той нет. И я теперь воюю за свою собственную страну – против вас. Против русских. И мой тебе совет – уходи по добру – по здорову, пока мои ребята тебя сгоряча как барана не прирезали…
Отец Борис ясными голубыми глазами своими посмотрел из под светлых бровей,
– А я и пришел себя предложить в залог… Вместо женщин. По крайней мере – вместо беременных и тех что с грудными. Отпусти их Султан, если в тебе осталась хоть капля чести. А со мной – что хотите.
Султан от нервов весь зачесался, запуская пальцы то в рыжую бородку, то за воротник камуфляжа,
– Ты меня на жалость не разводи! Что было – то прошло. У меня теперь другая честь. Была раньше десантная, а теперь ичкерская честь у меня… И с десантурой вашего Батова я теперь воюю.
– Женщин то все равно – отпусти. Меня возьми, а женщин с детьми – отпусти.
Султан вдруг длинно выругался по – матерному. Забористо, смачно.
– Ну что ты пришел, Борис? Пришел бы ты в другой раз…
– И что? Ты бы выпил со мной? Тебе ж ислам не велит!
Султан достал из одного из многочисленных своих нагрудных карманчиков бронежилета черные светозащитные очки. Кликнул Махмуда.
– Позови главврача. Заманскую эту. Софью Давыдовну. Пусть собирает этих…
Он запнулся на слове «женщин», мягко с характерным акцентом выговаривая начальный слог…
– Женщин из родильного отделения пускай выводит. Свяжись с Батовым, чтобы не стрелял. Мы здесь еще долго сидеть будем. Пока Ельцин телевидения обещанного из Москвы не пришлет… И ты, Борис с ними уходи.
– Нет, останусь я у тебя. Потому как много у тебя еще больных здесь. А покуда люди русские православные здесь в плену у тебя, и я с ними останусь. Но за беременных и тех что с грудными – спасибо.
Телевидение потом показало, как двадцать женщин из родильного отделения выходили с грудными из больницы. Под белым флагом из простыни. И дикторы сказали, что это премьер Черномордин с бандитами договорился.
Маринка смотрела это по НТВ. По спутниковой антенне. И гостивший в ту неделю у матери – у миссис Самюэль ее сын Генри, сочувственно цокал языком, -
– Это ужасно! Это ужасно! Как вы должно быть счастливы, что уехали оттуда!
А Маринка наоборот. В последнее время стала выписывать всю английскую литературу по практическому садоводству. И принялась прикупать садовый инструмент – ножницы, секаторы, маленькие ручные опрыскиватели. В Кроули в филиале универмага Маркс есть большой отдел товаров для садоводов-любителей.
Потому как папа незадолго перед смертью все жаловался, что вредители – тля, шелкопряд… совсем замучили бедные вишенки.
И Маринка решила, что скоро поедет туда. В Новочеркесск. В Россию.
Приводить свой сад в порядок.
Конец первой книги.
Казачка
Cossack – woman
Казачка
Cossack – woman
Книга вторая
Маринкины сны
1.
Марина часто видела сны. В детстве так бывало, что даже боялась ложиться спать, вдруг увидит там… Кобу…
Откуда она его взяла, в каком кино подсмотрела – никто из родных так и не сподобился узнать. Но с трех еще годочков, бочком, бочком обходя некоторые в их саду места, она все приговаривала, – Коба… Здесь Коба живет. И когда родители спрашивали ее недоуменно, – кто такой Коба, – она округляла глазки, растопыривала пальчики и пытаясь придать своему ангельскому голоску страшные басовые нотки, гудела, – У-у-у! Это такой страшный Коба…
Она часто видела сны. Почти каждую ночь. Может и каждую, но виденное не всегда запоминалось. И в сны верила, как в продолжение дневной жизни, полагая в них либо зашифрованные послания от так рано ушедшей мамы, либо неразгаданные попытки собственной Маринкиной совести, которая пользуясь ночной слабостью разума, пытается сказать ей… Что сказать?
Что?
А и хорошие сны ей снились в ее саду. Под большой папиной вишней. Бывало, снился необычайный простор. Вот она подходит к краю обрыва, с которого видно на сотни верст вперед, подходит, разводит руки, словно это крылья, и грудью ложась на упругий теплый ветер – летит. В дальние края, туда, где ждет ее счастье.
А в Англии в последнее время что-то часто снился ей один и тот же сон, повторяясь с незначительными отличиями. Снился ей страх академической задолженности. Будто ходит она по аудиториям института, где все ее подруги, с зачетками наперевес штурмуют задерганных преподавателей… А у нее – ни одной курсовой, ни одной контрольной! И вот девчонки ей машут, Маринка, айда с нами зачет сдавать, а она непослушными ногами не знает и в какую сторону идти – то ли на кафедру экономики и планирования, то ли на бухучет, то ли на матстатистику – все одно – ничего у нее не готово, и ждет ее полный провал и отчисление из института. И мучило ее во сне не то что так страшно ей было вылететь из ВУЗа, а мучило сознание ускользавшего времени, мучила потеря той точки, за которой уже не ты контролируешь цепь событий, а они – события несут тебя по горной реке, где тебя бьет и бьет о камни… и неизвестно, когда перестанет бить и вынесет вдруг на чистую воду.
Два года всего в России не была, а Москвы и не узнать!
В Шереметьево таксисты приобрели какое то подобие европейского благообразия. Некоторые даже при галстуках. И машины поприличней стали, на смену ободранным ржавым «волгам» пришли «мерседесы»… Но врожденное хамство шоферское никуда не делось. Оно только слегка прикрылось фиговым листочком показного лоска.
– Мадам? Вам до центра? Всего двести долларов, мадам.
Маринка качает головой, улыбается. Из Хитроу за такую цену она бы пол-Англии в кэбе проехала, аж до Ливерпуля. С одной сумкой она теперь и на маршрутке до метро доедет. Зачем мафию поощрять?
А таксисты, с улыбочками, намеренно громко, чтобы ей слышно было, чешут все что думают про нее, и что она мол из бывших валютных проституток, и что таких как она – они бравые шофера…
Плохо женщине одной. Плохо, когда ее некому защитить. И от хамов – шоферов, от их злобной завистливой брани… Был бы жив ее Володя… Он бы в один миг заставил эту гнусную банду униженно извиняться.
Или Димка Заманский.
Плохо женщине одной. Без мужчины. Особенно красивой женщине.
Стоя в очереди на маршрутку, позвонила по мобильному домой в Кроули. Спросила Юльку, как там Аннушка. Уже соскучилась по ней. Вот только наладит в Новочеркесске быт, сразу Анечку заберет. И чтобы там ни говорили, мол дура, умные люди из России бегут, а она наоборот…
В Москве у нее была еще пара дел.
Въезжала Марина по российскому паспорту, как россиянка, но тем не менее, в греческом посольстве решила все же отметиться, на всякий случай. Вдруг, с выездом какие сложности возникнут? А ей еще за Анечкой ехать!
Ну и еще хотела кое-кого повидать. Наташку Байховскую, та уже год как в столице – замужем, не замужем, не поймешь! В общем, с чеченом каким то живет, у него тут магазин, или целый рынок на юго-западе.
Сперва в посольство. Неприятно резанул вид огромной очереди в визовый отдел. Стоят, в основном – девчонки. Модные такие. С умными интеллигентными личиками… На нее глядят как на врага, не скрывая жгучей зависти, что она без очереди с греческим паспортом наперевес проходит мимо милиционера, и нажав кнопочку звонка, спокойно входит в ту дверь, ради которой они занимали очередь аж с шести утра…
Отметилась в консульском отделе. Чиновник – милый загорелый мальчик – этакий классический танцор сиртаки, начал было с ней по-гречески. А она улыбается… Все понятно! Но ничего – он сразу по русски так вежливо объяснил, пускай госпожа Кравченко не волнуется, визы никакой на выезд не надо, на границе в аэропорту только посмотрят отметку в паспорте, и все…
Позвонила Наташке. Та изобразила страшную обиду, чего, мол, не предупредила, она бы с Ахметом в аэропорту встретила на машине!
Тут же возле посольства поймала частника на «жигулях» и за двести рублей сговорилась до Коньково.
Шофер – пенсионного возраста в потертой джинсовой курточке, ей было переднюю дверь открыл. И хмыкнув, удивился, что она на заднем предпочла устроиться.
Прилипла к окну. Сильно изменилась Москва. Оевропеилась.
Реклама, реклама, мерседесы…
Наташка с бланшем под глазом. Открыла дверь и улыбается как то боязливо. А из кухни крики гортанные на чеченском.
– Это тебя твой так отделал?
Наташка ухмыляется через силу,
– А! Свои у нас с ним разборки, не обращай внимания.
Марина в нерешительности встала посреди прихожей. Через маленький коридорчик, ведущий на кухню были видны спины двух или даже трех чернявых молодых мужчин, одетых в спортивное.
– Может в другое место пойдем? В ресторан, что ли?
Наташка замежевалась,
– Да нет, проходи, это к Ахмету тут родственники приехали, пусть они на кухне, а мы с тобой в комнате посидим.
Обнялись.
– Два года не виделись…
– Два?
– Как время летит!
В квартире неуютно. В коридоре обои старые отклеились и загибаются по углам. И в комнате как то пустовато. Диван без ножек, ковер, да телевизор в углу. И то не на тумбочке или подставке, а так – на коробке картонной.
Наташка как бы извиняясь, опережает расспросы,
– Ахмет снимает тут. Ему до рынка удобно – пять минут пешком.
– А тебе?
– А мне?
Наташка вздыхает.
– А! Все ерунда!
– Зачем ты с ними связалась, Наташка? Они же зверье! Они Юльку мою чуть не убили, и Володю моего Руслан убил, я точно знаю. Зачем ты с ними?
Наташка скривилась, готовая расплакаться.
– Тебе хорошо рассуждать, ты богатая, тебе Володя твой оставил, да ты и уехала, брезгуешь здесь жить А теперь то ты зачем приехала? Меня учить? Были бы у меня деньги, как у тебя, мне б не пришлось у тебя ума занимать. Думаешь, я по любви с ним?
Марина почувствовала, что в Наташке говорит ревность и детская обида, что не ей повезло, а Маринке.
– Я сюда жить приехала, подруга. И Анночку мою привезу, как только дом в порядок приведу.
– Наташка!
Словно гортанный клекот хищных птиц послышался из кухни,
– Наташка, твою мать! – и дальше по чеченски…
Подруга в мгновение ока очнулась и покорно засеменила на хозяйский зов. Оттуда сперва донесся возбужденный хохот чернявых спортсменов, потом грязная матерная брань, по всей видимости, это был Ахмет, потом хлесткие удары, как пощечина, когда мокрой рукой по мокрому лицу…
Марина поднялась с дивана в решимости уходить.
Но проем дверей уже загораживал один из чернявых. В костюме «адидас».
Лыбился, обнажив в оскале пару золотых зубов.
– Тебя как зовут, подруга!
Маринка достала из сумочки телефончик, набрала многозначный номер, и отчетливо проговорила в трубку,
– Я тут на Южном шоссе дом двести сорок корпус три, квартира пятьдесят шесть…
Потом достала из сумочки свой паспорт, не раскрывая его, на вытянутой руке сунув обложкой в небритую харю, сказала с расстановкой.
– Я, морда твоя черножопая, гражданка Греции. И тебя, ублюдка недоделанного, если я только свистну сейчас, не то что милиция, интерпол мочить будет. Понял, козлина чеченская?
По тому, как сальный оскал на морде чернявого спортсмена сменился выражением смутной озабоченности, Марина увидела, что он что-то понял. По крайней мере, понял, что с Мариной у него ничего не получится.
Оттолкнув спортсмена, она решительно отмерила десяток шагов до выходной двери, и взявшись уже за ручку, крикнула в строну кухни.
– Наташка, не будь дурой. Не будь дурой, уходи, пока не поздно. Я тебя в Новочеркесске ждать буду…
Вот говорят, мол где прошел хохол там еврею делать нечего… А где чечен прошел? Султан дал Диме денег в долг под тысячу процентов.
Чтобы Диме до Тбилиси добраться, где у него был верный кредитор, надо было как минимум тысячу долларов. И Султан дал.
– А отдашь десять.
И куда деваться?
Сперва сомневался, а вывезет ли его Султан из Новочеркесска? Вдруг просто шлепнет его прямо на площади – к чему ему свидетель старых дел? Однако, когда Дима оценил весь масштаб войны, разыгравшейся вокруг их больницы, до него дошло, что Султану уже бояться нечего. И после того, что он устроил расстреляв райотдел милиции и захватив больницу с тремя сотнями заложников, никакие старые дела Султану были уже не страшны.
Только убедившись, что мама жива и здорова, Дима решил покинуть город вместе с боевиками Султана.
А иначе было и нельзя! Останься он – его бы в момент арестовали, фээсбэшники и бежать во второй раз ему бы вряд ли уже удалось.
Султан уходил из города четырьмя автобусами, взяв заложниками нескольких милиционеров и женщин. Среди пленных ментов был и Мишка Коростелев… Они узнали друг друга, и несколько раз обменялись многозначительными взглядами. Как бы там ни было, но Димка теперь был уже окончательно скомпрометирован перед всем их Новочеркесском. Султан на показ держался с Димой наравне, и даже велел ему держать в руках автомат… Правда незаряженный. Но кто об этом кроме них еще знал? Поди потом – докажи, что не бандит!
Так до самой границы и ехали – сверху вертолеты федералов, сзади бронетранспортеры генерала Батова, впереди – неизвестность…
То, что было потом, всю неделю затем показывали по всем телеканалам. Как ни надувался премьер Черномордин, мол не дадим бандитам уйти, и все такое – все люди Султана благополучно растворились в зеленой полосе. И Дима вместе с ними.
Для верности, Султан велел выдать Диме рожок с патронами, и приказал своему оператору запечатлеть на видео-пленку, как Дима строчит по кустам из своего АКСУ.
Димке уже было все равно.
Потом через всю Чечню – где на машине, где пешком – до самой Грузинской границы. Вот там то, взятая у Султана тысяча и пригодилась. Триста проводнику, и пятьсот – грузинским погранцам. На оставшиеся двести долларов автобусами добрался кое-как до Тбилиси.
А там уже отъелся – отоспался. На квартире у старого друга– подельника Арама Гурамовича Потаринишвили.
Арам и денег дал на дорогу, и паспорт грузинский с греческой визой сделал. За свой процент. Но уже не за такой, как у Султана. И надо же такое сказать про хохла, что где он пройдет – еврею делать нечего!
Но потом, уже на пароходе, когда впереди показался Босфор, до Димы дошло…
А ведь и правда!
Корнелюк то – хохол его, Димку с Мариной опередил!
Хохлу досталась любимая!
Где она теперь?
Увидит ли он ее?
2.
Мишка в форме… Смешной такой!
В милицейской она его раньше и не видала никогда, в их уголовном розыске все по-гражданке, в штатском расхаживали тогда. А тут – бац! Мишка и в форме и при фураге и при погонах.
Ему идет. Как и всем парням в их краях. А он смеется, мол – «подлецу – все к лицу».
И это верно…
Похудел, осунулся, отчего худая длинная шея с выпирающим кадыком стала казаться еще длинней. И эта рыжеватая жесткая двухдневная щетина, которой Маринка никогда раньше не замечала, вдруг резанула глаз и сердце.
Постарел. Потерял свою былую небрежную лихость.
Парни на Ставрополье да на Дону, казаки – одним словом, матереют быстро. Как армию отслужат, как перевалят за двадцать пять – враз набирают мужицкий сок. Только одни вширь, да в пузо, как ее батька покойный или дядя Петро, а другие, вроде Мишки – в худобу да в рыжую щетину.
Форма на нем военного покроя – зеленая. Погоны с тремя маленькими звездочками на каждом. Старший лейтенант. Инспектор пожарной инспекции.
Машину вот купил, Мишка с нескрываемой гордостью похлопывает фиолетовую крышу «опеля»…
Такие и в Англии выпускают на заводе «Воксхолл». А Мишкиной «вектре» лет восемь – не меньше… И странно как то Маринке стало от того, что Мишка разгорделся вдруг такою ерундой.
– Прокатить?
Маринка усмехнулась краешком губ.
– Нет. Сама дойду. Городок – то маленький. Да и пешком полезно.
Впрочем, своего «мерседеса», преодолевая некоторую при этом неловкость, она всеж у тети Люды забрала. Муж тети Людин ездил, видать, аккуратно, и никаких неприятных изменений или огрехов, как снаружи, так и изнутри, Маринка в машине своей не нашла. А впрочем и не искала. Только запах какой то чужой сперва в салоне ощущался, и Марина, хоть и не курила никогда, но ездила теперь с открытым люком. Благо погода и природа – позволяли.
Неделю просидела с юристом и главным бухгалтером.
По отъезде в Англию, в универмаге у нее оставалась небольшая доля. Да и в Ростове Володя имел кое – что помимо трехкомнатной квартиры. Еще уезжая, она дала юристу все необходимые доверенности на ведение дел по наследству, и теперь ей предстояло подвести некоторый итог.
Нужны были деньги. И на учебу Юльки с Сережкой, и на восстановление дома.
А дом… А дом представлял собою жалкое зрелище. Трехэтажная кирпичная коробка, превращенная местным хулиганьем в отхожее место.
Все придется переделывать.
Но не так она теперь хочет.
Не так.
В Англии она поняла, каким должен быть дом.
Свит хоум…
Совсем не такой, какой был у папки с мамой, не такой, какие строят нынче цыганские бароны и новые русские, но и не такой как у миссис Сэмюэль.
Она хотела совсем другой. И ей не терпелось начать.
Быстренько обжила одну из двух квартирок на проспекте Революции, где они когда то жили с Володей. А во вторую никого не пустила, хоть и просились друзья да родственники – оставила ее чем то вроде гостевой. Вдруг кто приедет… Хотя, кроме тети Люды из Кисловодска никто к ней особо и не приезжал.
А Мишка как то явно поглупел что ли?
Принялся было звонить ей вечерами, да по ночам. Но она быстренько его отвадила. А чтобы не баловался, как маленький, типа наберет номер – и трубку положит, подсоединила свой телефон к привезенному из Англии компьютеру-ноутбуку. Тот теперь сперва определял, откуда звонят и только потом давал хозяйке сигнал. А оба Мишкиных номера – домашний и рабочий, она занесла в «черный список», и посему глупых звонков стало меньше.
Но было дело – все же поговорили они.
Мишка начал с каких то банальных сальностей, мол «не забыла ли золотых деньков», да «как теперь тут ночами долгими да одна»… Но почувствовав в интонациях ее голоса неподдельные удивление и иронию, догадался все же, что взял с нею неверный тон.
Во второй раз – принялся было бить на сентиментальность. И звонил явно под хмельком. «Как мне без тебя тяжело», да «ты моя первая любовь». И снова не понравился ему холод в ее «чужом», как он выразился, голосе.
– Чужом, в смысле?
– Ну, не родном…
– А почему он должен быть тебе родным, на каком основании?
– Ну…
Хотя, она в глубине сердца лгала себе. Было у него основание рассчитывать на родственную свойскость. Все же он отец ее Анечке. Но он об этом не знал. И пусть не знает как можно дольше. Да и не должна какая то кровная свойскость быть залогом вечного родства!
Прошло.
Проехало!
Был родным не тогда, когда ребенка от него в Англии родила, а тогда был родным, когда она любила его. В десятом классе.
И вообще, поглупел он как то. Явно поглупел.
В школе он ей самым умным казался. А теперь? Пожарник, да и только! Причем, провинциальный.
«Как тебе длинными ночами одной, не холодно ли?»
Да в Англии и в самом грязном пабе такой пошлятины не услышишь!
Он тут книжки то какие – нибудь хоть читает?
И он выдал – таки на последок:
Ты меня, мол – пожалей!
Но что есть женская жалость? И верен ли тот расчет, что подсказывает дорогу под женское одеяло через эту жалость?
Любовь – это, как понимала Маринка, от скуки прохаживая в Лондоне на семинар по психологии, – это подсознательное одобрение и принятие качеств кандидата в мужья и в отцы будущих детей… Неосознанное восхищение его доблестями и талантами. Причем, в самых разнообразных и неожиданных проявлениях – так подсознание может одобрить и принять не только юного мускулистого красавца, но и немощного, но умного старика, потому как тот вполне может оказаться надежным и верным мужем и отцом, способным обеспечить счастливую жизнь своих детей…
Но или ум и богатство, или молодость и красота… Но не жалость к отсутствию того и другого!
Там, на социологических курсах при Лондон Скул оф Экономикс, она многое поняла и переосмыслила. И ее интерес к доценту Савицкому. И потерю этого интереса. И ее счастливый брак с Володей.
А пожалеть Мишку?
Женщина должна по природе жалеть.
Ребенка. И своего и чужого. Это в программе хромосом. Потому как жалость к ребенку – это составляющая материнства.
Раненого или больного – потому как раненого или больного мужа надо скорее вернуть к продуктивной деятельности – вернуть его к войне и охоте, вернуть дому добытчика и защитника… И это тоже компонента – женского естества.
Но можно ли построить любовь на одной только жалости?
Или еще точнее – вернуть любовь, если нынче жалок некогда любимый тобою человек?
Нет, не может нормальная, молодая, здоровая, красивая и социальная женщина полюбить из жалости!
Призреть…
Потому как любовь – это восхищение любимым.
А чем восхищаться, если он сир и убог?
Одна студентка тогда на семинаре спросила, а как у Шекспира – «она его страданья полюбила, а он ее – за состраданье к ним?»
И Маринка тогда тоже напряглась, как ответит профессор Гинсбург – этот щеголеватый и молодцеватый шестидесятилетний еврей из Венгрии.
И он вывернулся тогда, что мол в Дездемоне сверх меры развито мазохистическое начало. Дездемона – это тот архетип страдалицы, что олицетворяет униженность женщины во время полового акта. Недаром, ее избранник – негр.
И Шекспир подчеркивает, что она такая белая и нежная, а он – этот мавр, такой грубый и черный. И в этом контрасте автор добивается особенного повышения индекса сексуальности в скрытой эротичности смысла драмы. В ее латентном эротическом подтексте. Отдавая грубому и старому негру, этому африканскому солдафону, юную, нежную и белую свою героиню, Шекспир преследовал целью обострить у читателя сексуальное восприятие ситуации. Он делал много заимствований. И это чисто Апулеевский прием, создать высокое напряжение эротизма противопоставлением нежного – отвратительно-животному. Ведь, в представлении древних римлян – негр это та же горилла – тот же зверь! И если, у Апулея, нежная матрона отдается ослу, то и способный ученик Апулея – Шекспир прибегает к подобному приему. Но у Апулея – это сказка, в традиции античных мифов, а у Шекспира, драма из жизни средневековой Италии. Поэтому, Шекспиру потребовалось как то оправдать несколько необычные наклонности Дездемоны. И ему это удалось, ведь если «каждому хочется убить своего отца», как говорил на суде Иван Карамазов Федора Достоевского, то и каждая белая женщина хочет быть унижена черным рабом… Только надо раскопать на дне своего подсознания этот скрытый и подавленный комплекс.
Профессор Гинсбург даже спросил тогда юных студенток своих, а что мол, когда, под кайфом вина или наркотиков, неужели никому из вас не хотелось быть изнасилованной, грубо взятой грязным черным самцом? Профессор потом еще сделал тысячу оговорок на тему расовой терпимости демократических обществ, какими кстати не были ни времена Апулея, ни времена Шекспира. И вконец развеселив студенческую публику, Гинсбург вдруг приплел еще и увлечение современных порнографов темой «блэкс он блондиз»… Его тогда еще переспросили, что мол, профессор, порнушкой не брезгуете?
И Марина, покраснев в справедливом, как ей показалось тогда гневе, потом призадумалась. А есть ли резон в словах профессора? И так и не смогла себе ответить ни утвердительно – ни отрицательно.
Но что касается жалости? И любви из жалости…
Нет, не мазохистка она, а нормальная русская женщина!
«Пожалей меня», – канючил тогда в трубку пьяненький Мишка.
А она сказала, «стыдно тебе потом будет», и трубку повесила.
Но жалость к нему вдруг появилась. И очень сильная жалость.
Когда умерла его Галка.
О том, что Мишкина жена больна, Марина узнала от Софьи Давыдовны Заманской. Городок небольшой, и с каждым его жителем хоть в неделю раз – да обязательно где-нибудь пересечешься.
Софья Давыдовна проживала в единственной в Новочеркесске кирпичной девятиэтажке, которую построили еще к тридцатилетию Победы. А Софья Давыдовна – участник войны, и ее портрет на девятое мая всегда вывешивался на площади Ленина, вместе с портретами других ветеранов. На портрете – чернявенькая кучерявенькая востроглазенькая лейтенант – военврач с орденом Красной звезды на гимнастерке. И не узнаешь в ней нынешнюю Софью Давыдовну – поседевшую и сгорбившуюся худенькую старушку.
Марина увидала ее, когда Заманская возвращалась с рынка. И как то неловко ей стало, притормозила.
– Софья Давыдовна, давайте подвезу!
– Ой, Мариночка, да я тебе вишней все сиденья попачкаю…
Ехать три минуты. Вот и девятиэтажка.
– Софья Давыдовна, дайте я вам помогу сумки донести.
Ну, уговорила ее Заманская зайти, и отказаться было просто неудобно.
– Сейчас я тебя чайком вкусным угощу с конфетами. У меня шоколадные есть и мармелад.
Марина оглядывалась пока.
Вот Димина фотография за стеклом в книжном шкафу. Школьная. В пионерском галстуке. Серьезный такой мальчик, умненький. А вот еще – Дима за роялем. А Маринка и не знала, что он играет. А вот он, наверное, с отцом…
– Это он с папой, с Александром Аркадьевичем, – заметив Маринкин интерес, комментирует Софья Давыдовна, – Александр Аркадьевич был директором нашего авторемонтного завода.
– Я знаю.
– Рано умер Александр Аркадьевич.
Софья Давыдовна накрыла на кухне.
Помолчали. Но как то не тягостно помолчали, а как это водится, чисто по-женски, как бы помянув с грустью тех, кого с ними теперь нет.


































