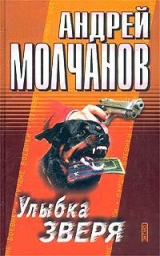
Текст книги "Улыбка зверя"
Автор книги: Андрей Молчанов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
– Это на него похоже, – ничуть не удивилась Ксения. – Он у тебя всегда такой был. Уж на что наши художники на язык злы, а Витьку твоего никто не смел хаять. Все признавали за ним талант…
– Талант, черт бы его подрал! – разозлилась Галя. – Тебе ведь живые деньги платят, возьми кисть, краски, малюй, раз уж ты такой талант! Ну, походи, помайся, это – ладно… Это я пойму, перетерплю. Но и работай же, нельзя семью в черном теле держать из-за своих дурацких принципов. “Я не изменю искусству!” – передразнила она. – Вымотал он мне всю душу… Это он тогда меня, дуру молоденькую, голыми словами взял, а теперь меня вся эта романтика только бесит. Завел семью, так будь добр содержать ее!.. Меня трясет от его выходок. Представь себе, я ему на нашу нищету жалуюсь, а он мне отвечает: “Все относительно. Ты себя, говорит, не сравнивай с сытыми мира сего, ты себя с бабушкой Настей сравни с третьего этажа, она раз в месяц хек покупает и супчик варит. И счастлива”.
– Это, конечно, сильный аргумент, – усмехнулась Ксения.
– У него еще сильнее был аргумент. Он мне книжку какого-то дурацкого Солоневича принес. “Россия в концлагере” называется. “Сравни, говорит, как люди жили и выживали, и радуйся, что у тебя есть вдоволь хлеба, тепла, есть крыша над головой, трехкомнатная квартира и полный шкаф тряпья…” Я ему кричу, что это все давно из моды вышло, а он отвечает, что мода “несущественна”.
– Ничего себе, мода для него несущественна! – изумилась Ксения. – Хотя они все, художники эти, чокнутые малость… Слушай, Галка, у меня есть для тебя сюрприз, ты только сразу не отнекивайся. Я хочу тебя с детишками отправить на пару недель куда-нибудь отдохнуть… На Средиземное море, скажем…
– Да что ты, Ксюша.!..
– Ты только Витьке не говори пока. Ни слова, поняла? Может, урок для него будет… Договорились? А документы мы вам быстренько оформим, у меня в ОВИР связи… О’кей?
– Да как-то чудно все это, – протянула смущенная Галина. – У нас-то и одеть нечего для заграницы… Спасибо, дорогая, за заботу, но, пожалуй, мы не сможем…
– Молчи, Галка… Сможете. Все это – мои проблемы. Главное – Витьке – ни слова! Обещаешь?
– Н-ну…
– Вот и чудно!
ВЕРЕЩАГИН
Дня через три, утром, возвращаясь с дежурства, Верещагин заглянул в почтовый ящик. Теперь обычно приносили бесплатную рекламную газету, в которой был вкладыш с телевизионной программой. Газеты в ящике на этот раз почему-то не оказалось, но зато, к немалому удивлению Верещагина, среди целой груды рекламных листков обнаружился вдруг плотный длинный конверт, адресованный на его имя. Адрес был написан аккуратным женским почерком.
Верещагин постоял в задумчивости, повертел конверт в руках, затем поднес к лицу и понюхал. Ему показалось, что от конверта веет тонким, еле ощутимым запахом духов. Он сунул письмо во внутренний карман пальто и вызвал лифт.
Осторожно, стараясь не взбудоражить чутких сварливых пуделей, которые в свою очередь могли разбудить Галину, вставил ключ в замочную скважину и вошел, тихонько скрипнув дверью. Тотчас из спальни заливисто забрехали собаки и выскочили в коридор.
“Сама виновата, – подумал Верещагин, проходя мимо спальни. – Развела зоопарк…”
На кухне он, не раздеваясь, присел к столу, откинулся спиной к стене.
“Странное письмо, от кого бы это?”
Вошла сонная Галина в длинной ночной сорочке.
– Привет, Верещагин. Денег принес?
– Спи, спи, Галка… Нет денег, не давали сегодня. Иди спи, мне подумать надо…
– Ты думай, где денег взять, – посоветовала жена и зевнула. – За квартиру надо платить, пеня… Разделся бы. Вперся в ботинках на кухню, а мне мыть потом…
– Сам вымою, иди…
Галина неопределенно хмыкнула и ушла.
Верещагин закрыл дверь и надорвал конверт.
“ Милый Верещагин!
Извините меня, Бога ради, за столь фамильярный тон, но мне надоело уже сто раз переписывать начало данного письма. Как ни напишу, все нескладно. Так что не взыщите, буду писать как пишется. Вы меня не знаете, точнее, мы с вами виделись и даже разговаривали, но вы вряд ли это вспомните сейчас. Не скажу, что после разговора с вами я могла сразу составить верное о вас мнение, но когда я случайно столкнулась с вашими работами, то очень многое увиделось мне совершенно в новом свете.
Ваше творчество великолепно и изумительно!
Но самое главное в том, что вы один из очень немногих творцов, сумевших устоять перед дьявольскими соблазнами мира. Я после разговора с вами, грешным делом подумала, что все это бравада, что ваши слова ничего не стоят, что это просто форма светской болтовни. Слава Богу, я ошиблась.
Милый Верещагин, (не буду извиняться!), я довольно много о вас узнала окольными путями, но мне хотелось бы, чтобы вы сами рассказали мне о себе и о своей жизни. Мне все-все важно и интересно, любая мелочь, любая черточка, которая касается вас и вашего творчества. Напишите мне, пожалуйста. В двух словах о вашем отношении к творчеству, о вашем кредо…
Я знаю, что вы женаты и вполне счастливы с вашей женой. Поэтому в этой части будьте совершенно уверены, я никак не посмею посягнуть на ваше спокойствие и благополучие.
О себе скажу кратко – мне чуть больше тридцати лет, я дважды была замужем… Догадываюсь, что вам, как и всякому нормальному мужчине, хотелось бы узнать, как я выгляжу внешне. Тут все в полном порядке, даже слишком. Меня называют пошлым словом “сексапильная” и, честно вам сказать, мне страшно надоели постоянные приставания на улице и назойливые просьбы “дать телефон”. Ну их к черту, все эти прилипалы омерзительны, тупы и однообразны. Вы – совершенно иное дело, но я, разумеется, говорю о духовной стороне. Впрочем, признаюсь, что вы и внешне очень симпатичны. Вот так! Всего вам доброго. Ваша М.”
– Наша “эм”, – пробормотал растерянно Верещагин, отложив на стол это странное и неожиданное письмо. – Кто же ты, наша милая “эм”? Не та ли ты Марина, с которой беседовал я на банкете? Очень возможно… А откуда у нее мой адрес? Сболтнул? Вероятно… Но все-таки чего же такого я наговорил, что она так распалилась?… “Внешне симпатичны”. Вот те на!
Он бормотал все это, стараясь подавить в себе возникшую дрожь волнения. Письмо, надо признать, его взбудоражило чрезвычайно. Пожалуй, тон этого письма был несколько вольным, но не развязным.
“Она умна, – рассуждал Верещагин. – Умна и красива, судя по ее словам. Самоуверенна. Кое-что понимает в искусстве. Видимо, старается быть оригинальной, что настораживает… По существу, если отбросить все условности, это письмо не что иное, как призыв к адюльтеру. Больно нужны ей мои рассуждения…”
Сердце его сладостно затомилось, глаза затуманились, но в то же мгновение он ощутил жгучий прилив стыда, который сразу его отрезвил. До сих пор ему не приходилось сознательно, “находясь в ясном рассудке и полной памяти”, изменять Галине. То, что происходило с ним время от времени за эти двадцать лет совместной жизни было абсолютно случайно и никак не запланировано заранее. Во всяком разе, никогда с ним не происходило этого на трезвую голову. Досадные эпизоды, броуновские столкновения атомов. Быт художников в паузах между приступами вдохновенного и изнурительного творчества известен – несколько угарных дней и ночей полного расслабления, с непрерывным дымным застольем, нескончаемой сменой собутыльников и собутыльниц, и при этом довольно хаотичные, свободные и ни к чему не обязывающие связи, напоминающие в этом смысле брачные игры насекомых, положим, кузнечиков…
Теперь же, если бы Верещагин принял вызов неведомой соблазнительницы, ему пришлось бы существенно менять сам образ жизни, к которому он худо-бедно привык и притерпелся. Нужно было ловчить и изворачиваться, сознательно и тяжело лгать, отправляясь на тайное свидание, покупать регулярно дорогие цветы и шампанское, ловить такси, водить любовницу по барам и ресторанам, может быть, даже в казино, а для этого у него не было ни подходящей одежды, ни денег, ни, самое главное – воли и желания.
Но даже если бы он все это преодолел, оставалась еще Галина и дети. Пусть его почти не распаляла уже по ночам ее родная и пресная плоть, пусть любой пустяковый разговор с неизбежностью перерождался в унылую безысходную ссору, пусть она пренебрежительно относилась к его творчеству, пусть она обзывала его “сморчком”, но решиться на такую продуманную подлость… Нет, нет, нет. Прощай, милая “эм”.
Верещагин глубоко вздохнул, словно собирался нырнуть в воду, взял письмо со стола и разорвал его пополам, сложил половинки и разорвал еще раз, опять сложил… И с каждым разом все труднее поддавалось письмо уничтожению, еще можно было сложить его и склеить, хотя бы для забавы, чтобы небрежно показать и похвастаться перед Мишкой Чиркиным, но он добросовестно довел дело до конца и высыпал клочки в мусорное ведро.
Пудели, внимательно следившие за его манипуляциями, тотчас сунули носы в ведро, думая, должно быть, что хозяин по тупости выкинул туда шкурки от сардельки. Верещагин открыл холодильник, вытащил остаток вареной колбасы, поколебался, но разломил на две части и кинул псам. Налил в два блюдечка молока котам. Котов он любил больше. За независимый характер и отсутствие подобострастия перед человеком. Поставил чайник на плиту и зажег конфорку. Снова присел на стул. Теперь, когда он избавился от искушения, успокоившееся на минуту сердце его снова затревожилось. Он понял вдруг, что в какие бы мелкие куски ни изорвал письма, его нельзя уничтожить окончательно и навсегда. Он просто механическим движением пальцев на миг успокоил взбунтовавшуюся совесть, но зато теперь, когда улики больше не существовало, можно было свободно помечтать о таинственной и милой незнакомке. Ну, здравствуй, “сексапильная” “эм”!..
Где-то в глубине квартиры зазвонил будильник. Это у дочки, у Светки, определил Верещагин. Он взглянул на стенные конторские часы, которые когда-то купил за бутылку водки у случайного прохожего возле проходной обогатительного комбината. Восемь часов утра, сейчас встанут дети и будут собираться в школу. Будильник звонил и звонил, и Верещагин поднялся уже, чтобы пойти и разбудить дочь, но в это мгновение нудный звон оборвался. Слышно было, как по коридору простучали шлепанцы на деревянных подошвах, – дочка шла поднимать брата. Эти громыхающие шлепанцы всех выводили из себя, особенно – живущую этажом ниже тихую семью соседей-чеченцев, но Светка упрямо днем и ночью ходила только в них. Это упрямство было непонятно Верещагину.
– Привет, пап! – сказала Светка, распахнув дверь в кухню. – Опять накурил тут. Сколько тебе повторять можно, всегда одно и то же…
– А ты стучишь деревяшками своими… Соседей будишь.
– Хочу и стучу, тебе-то что? А на всех соседей мне начхать, не нравится, пусть убираются…
– Ну-ну… Ты тут геноцид не разводи… Ваську разбудила?
– Как же, разбудишь его, хомяка… А-а, нет, встал уже. – Света прислушалась. – Я его, пап, когда-нибудь точно прибью. Вчера с Ленкой Буровой на дискотеку с пацанами пошли, и он поперся. Мелкий, а прется. Казалось бы, мелкий, так сиди дома, ешь сало… Нет, ему нужно переться, назло мне… Ладно, чайник выключи потом… Пойду зубы почищу.
Деревяшки простучали по кафельному полу ванной и тотчас оттуда послышался шум яростной схватки и раздался истошный вопль Светки:
– Ты, гадина, опять мою щетку для волос украл! Вот же наглая рожа!..
– Да подавись ты! Нужна мне твоя щетка, скотина! – так же злобно крикнул в ответ Васька. – Причесаться не даст…
– Ты мне пять долларов верни сперва, а потом причесывай свои сальные патлы… Подвинься!
– Верну я тебе твои вонючие пять долларов. Сама подвинься, я первый вошел.
– Ты верни сперва… Нет, это ты подвинься!
– Верну, надоела ты мне, лошадь!.. – Васька выскочил из ванной, вытирая лицо полотенцем. – Привет, пап! Я ее точно когда-нибудь урою. Она меня доведет…
– Сынок, ты все-таки мужик, уступи, не связывайся… Как же ты с женой будешь жить? Ты лучше отойди, перетерпи… Отойди. Знаешь, поговорка есть: “Волк собаки не боится, только лая не любит.” Так и с женщинами. Чайник кипит, выключи …
В кухню вошла Галина в наброшенном на плечи оранжевом банном халате. На плече зияла прореха, сквозь которую просвечивала ночная рубашка, рукав халата был надорван по шву.
– Ну, что вы тут опять сцепились? – проворчала она, открывая холодильник. – Пошли к черту! – брыкнула ногой, отгоняя от себя двух котов и двух собак, тесным алчущим стадом столпившихся вокруг нее. – Дня нет, чтобы они не поругались. Так-так-так, где же у меня блинчики вчерашние? Ага, вот… Светка, погрей. Каждому по три… Папе оставьте. Ты опять, Верещагин, весь мой кофе вчера выпил. Я намелю, а он возьмет и выпьет. И вообще, я на большую чашку три ложки кладу, а он пять. Так никакого кофе не напасешься…
– Я редко пью, – сказал Верещагин. – Я вообще могу не пить…
– Сделай одолжение, – Галина с кастрюлькой собачьей еды подошла к столу. – Хотя если бы ты так насчет спиртного… Что это за письмо?
– Да-а… Так, пустяки, – смешавшись, пробормотал Верещагин и потянулся к беспечно позабытому им на столе конверту. – Это казенное… Из худфонда. На собрание зовут.
– Когда собрание? – Галина быстро перехватила конверт и сунула внутрь пальцы. – Пустой?
– Я порвал, – сказал Верещагин. – Солить мне, что ли, эти письма? Порвал и выбросил.
Галина внимательно поглядела на него и молча стала раскладывать еду по собачьим мискам. Верещагин демонстративно разорвал конверт на четыре части и выбросил в ведро.
– Пойду, сосну часок, – сказал он, вставая. – Потом позавтракаю. Ты детей проводи…
Он неумело зевнул и потянулся.
– Верещагин, – тихо и со значением сказала Галя, когда он был уже на пороге. – Казенные письма с приглашением на собрание, насколько я могу судить, в наше время не пишут от руки. Их размножают на ксероксе и рассылают адресатам…
– Если ты думаешь, что это письмо от любовницы, – так же ровно отозвался Верещагин, – то могу тебе тоже заметить, что подобные сердечные послания не рвут и не выбрасывают, а перекладывают засохшими фиалками и хранят в заветных шкатулках… Можешь собрать клочки и склеить, – добавил он, больше всего опасаясь того, что жена именно так и поступит.
– Ладно, я просто так сказала, а ты уже заводишься. Вынеси, кстати, ведро…
Верещагин, с бьющимся сердцем и равнодушной миной на лице, вернулся, подхватил ведро с уликами, вынес на лестничную площадку и вытряхнул в мусоропровод.
Вечером жена, взяв зачем-то паспорта, ушла.
– Куда? – спросил Верещагин.
– По делам, – сухо ответила Галина. – В ЖЭК. Через два часа буду.
Верещагин послонялся из угла в угол, а затем присел к письменному столу. Достал лист бумаги и авторучку.
“Милая, загадочная М.
Скажу вам откровенно: мне приятно было получить ваше доброе письмо. Не знаю почему, но, прочтя его, мне стало как-то очень печально на сердце. Я вдруг замечтался, задумался, однако в итоге понял с самой жестокой очевидностью, что никаких перемен в моей жизни больше быть не может. Время мое прошло. Я, конечно, имею в виду физическую, бытовую сторону этой жизни. Что касается творчества, то и здесь все очень и очень неопределенно. Тут тоже время мое течет сквозь пальцы, и порой меня охватывает настоящая паника от того, что я не сделал ничего сколь-нибудь значимого, и дни мои проходят впустую, хотя все равно в глубине души живет уверенность, быть может, ложная, что самое главное впереди. Кроме того, если что-то делать, то делать надо самое главное. Написать последнюю книгу, написать последнюю картину. Единственную. Где-то я вычитал любопытное замечание о том, что если ты хочешь наверняка попасть в цель из лука, никогда не бери три стрелы, бери – одну.
Если говорить в двух словах о моем отношении к художественному творчеству, то сформулировать его можно приблизительно так: “Красота в искусстве – есть олицетворенное выражение любви. Безобразное – выражение страха и ненависти.” Вероятно, в этом смысле будет вернее всего понимать известное выражение Достоевского о том, что “Красота спасет мир”.
Впрочем, пишу вам об этом, а думаю совершенно о другом. И вновь признаюсь, что вы очень-очень растревожили меня. Сердце мое неспокойно. Если вы все это затеяли в шутку, то лучше не надо, прошу вас.
Верещагин.
P.S. Правильно ли я расшифровал ваше имя? Марина?”
Он дважды перечитал письмо и, как всегда это с ним бывало, написанное показалось ему до того ничтожным, глупым, пошлым, что он вознамерился тут же разорвать свою писанину в клочки. Но его отвлек звонок в дверь, – вернулась жена, и он пошел отпирать. А когда вернулся к столу, разрушительный порыв в нем угас. Верещагин поглядел на свое смутное отражение в темном оконном стекле. Стекло было с изъяном, а потому казалось, что отражение скалит лошадиные зубы, хотя Верещагин не улыбался.
Он еще раз перечел письмо. Следовало все переписать наново.
“А и черт с тобой!” – выругался он мысленно, неизвестно кого имея в виду, затем решительно заклеил конверт, и только тут обнаружил, что отправить его не сможет. Ибо загадочная и неожиданная его поклонница адреса своего нигде не оставила.
– Пап, тебя к телефону! – крикнула дочь из соседней комнаты.
– Алло, – сказал он, взяв трубку.
– Привет, художник, – прозвучал веселый женский голос. – Узнал?
– Узнал, – мрачно сказал Верещагин. – Ты откуда?
– Из Америки, – все так же весело ответил голос. – Вернулась из Америки… Письмо мое получил?
– А, так вот оно, что, оказывается, значит…
– Значит, получил и ответ написал…
– Никакого ответа я тебе не писал, – почуяв себя до глубины души уязвленным, сказа Верещагин. – И вообще, оставь меня в покое. Что было, то прошло…
– Витюшка, милый, – взволнованно и страстно заговорила Урвачева. – Времена меняются. Ты уж за письмо не обижайся. Но я подумала… Мы ведь тоже другие стали. Может быть, нам снова… Вить, не вешай трубку! Вить, я богатая стала, очень богатая…
Верещагин повесил трубку и крикнул дочери:
– Кто бы ни звонил, меня нет и не будет! Никогда не будет!..
В субботу судьба свела художника Верещагина с замечательным в своем роде человеком – Иваном Васильевичем Прозоровым.
С первого взгляда и, судя по одежке, Верещагин решил, что перед ним – если человек и не его круга, то все равно, как выражались встарь – “социально-близкий элемент”.
Явился тот в сопровождении Ирмы Садомской, постоянно чем-то напуганной и нервной женщины – секретарши “Скокса”, которая и представила его Мишке Чиркину и Верещагину:
– Наш новый сотрудник. Будет временно вместо полковника… Вы, ребята, ознакомьте его с правилами и покажите ключи…
– А полковник как же? – спросил Чиркин.
– А полковник ваш со вчерашнего дня уволен, – почему-то втянув голову в плечи и, озираясь, сказала Ирма. – Он Семена Ефимыча по щеке кулаком ударил и даже не извинился. Наоборот, обозвал еще черным словом и сказал, что всех перестреляет. Я сама свидетель, он и на меня костылем своим замахнулся… А какие же мы “кровососы”? Мы никакие не “кровососы”… Нехорошо… Ах, нехорошо, нехорошо, – бормотала она сокрушенно, уходя по коридору. – Нехорошо…
– Иван Васильевич Прозоров, – чуть поклонившись, с достоинством представился новоприбывший. Затем снял шляпу с широкими полями и церемонно пожал протянутые ладони. – Волею временных обстоятельств, обитатель социального дна. Пятьдесят лет. Земную жизнь прошел до половины и оказался в сумрачном аду… То есть в “Скоксе”… – продолжил он, оглядывая помещение. – Так. Письменный стол имеется, диван, чайник, полка… Настольная лампа. Великолепно!
Был он невысок ростом и довольно плотен телом. Как-то не совсем подходили к его простоватому лицу, к его белесым бровям и аккуратной плеши чуть подкрученные кверху усы и короткая, по-видимому, недавно отпущенная бородка.
– “В сумрачном аду…” – повторил он. – Знаете ли вы, друзья мои, что означает на самом деле слово “Скокс”?
– “Скокс” он и есть “Скокс”, – отозвался Чиркин.
– Нет, друг мой… Направляясь сюда, я заглянул в один словарик и выяснил вот какое любопытное обстоятельство, – Прозоров поднял вверх указательный палец. – “Скокс” – это демон из практики средневековых заклинателей. Похищает имущество из царских домов и возвращает через двести лет…
– Надо же, – удивился Верещагин. – А хозяева-то наши не лишены остроумия… Жаль только, что нужно двести лет ждать, пока эти демоны вернут украденное… Э-э, Мишка, постой-постой, дай-ка я перехожу…
Прозоров снял плащ, повесил его на гвоздь у дверей, затем осторожно поставил на подоконник огромный потертый саквояж и подошел к столу.
Верещагин все это утро сражался в шахматы с Мишкой Чиркиным, который задержался после ночного дежурства, поскольку жил бобылем и спешить ему было некуда. Правый фланг Верещагина, куда неожиданно вперся ферзь противника, был этим ферзем в несколько ходов развален, так что сопротивлялся он Чиркину исключительно из упрямства.
– Ты подожди, браток, пока я его дожму, – попросил Чиркин Прозорова. – Присядь… Сдавался бы ты, Витек, что зря время тратить…
Прозоров вытащил из кармана коричневую трубку, пакет с табаком, стал наощупь набивать, поскольку внимательно следил за расстановкой шахматных сил на доске.
– Эх, зараза, – вздохнул Верещагин. – Дал я зевка, а ты и обрадовался… Только на зевках и выигрываешь. Неблагородно, Мишка. И все победы твои такие… Пирровы победы.
– А ты меня простил в прошлой партии, когда я ладью подставил? – огрызнулся Чиркин. – Схавал, как миленький…
– То была продуманная комбинация, плод кропотливого расчета и ума… Не ты подставил ладью, а я ее заманил в ловушку. Н-да, правый фланг мой накрылся. Сдаюсь, сволочь… – Верещагин повалил короля, но тут неожиданно вмешался Иван Прозоров.
– А позвольте, коллега, – сказал он, простирая ладонь над доской и поднимая поверженного короля. – Все равно ведь партия проиграна. Но тут любопытная ситуация получается. Вот если бы укрепить ваш фланг, если поставить вот сюда вместо вашего слона иную фигуру, – говоря это, Прозоров снял белого слона и поместил на освободившееся поле спичечный коробок. – Поставим здесь слона, но слона особенного, который, допустим, может ходить еще и как конь… Обратите внимание, противник ваш получает через два хода очень красивый мат.
Прозоров провальсировал спичечным коробком по доске и, действительно, получился неожиданный эффектный мат.
Чиркин сдвинул брови, призадумался, уперев в подбородок кулак, а через минуту, просияв лицом, сказал:
– Положим, все верно… Но если мы вместо моего простого ферзя поставим, к примеру, ферзя с задатками коня, то вся ваша комбинация мгновенно рушится…
Теперь задумался в свою очередь Прозоров. Он несколько раз глубоко затянулся, выпустил дым из ноздрей, отчего голова его совершенно пропала из виду, скрывшись в густых сизых клубах, – так иногда осенью какой-нибудь древний степной курган совершенно пропадает среди окутавшего его тумана.
– Согласен, – сказал он наконец, когда туман слегка рассеялся. – Но мы вашу фигуру атакуем слева, и все вновь становится на свои места…
– Э, позвольте усомниться, – поблескивая стеклами очков, азартно опроверг Чиркин, но Верещагин решительно смел фигуры с доски.
– Прозоров, ты меня от верного мата спас, – сказал Верещагин. – Партия аннулируется, Мишка. Общий счет по-прежнему остается… – он заглянул в засаленную тетрадь. – Общий счет по-прежнему двести семь на сто тридцать. В твою, к сожалению, пользу…
– Как это аннулируется? – запротестовал было Чиркин, но в этот момент его перебил густой и властный баритон Прозорова.
– Господа, – сказал он, снимая с подоконника свой объемистый потертый саквояж. – У меня тут есть. Чистейшая…
Да, существуют люди надежные, уютные и теплые, словно русская печка, и именно таким человеком с первых же минут знакомства показал себя Иван Васильевич Прозоров.
Стараниями его довольно постная газета “Демократ Черногорска”, которой застелен был старый письменный стол, буквально на глазах превратилась в подобие сказочной скатерти-самобранки. Посередине стола празднично засияла бутылка водки. Затем из саквояжа, словно из рога изобилия, извлечены были, сопровождаемые попутно краткими и точными пояснениями Прозорова, разнообразные свертки и кульки. Во-первых, завернутый в прозрачную восковую бумагу батон душистого хлеба.
– Хлеб всему голова! – оглядывая примолкших друзей, торжественно провозгласил Иван Васильевич. – Лучший, доложу вам, хлеб в Москве! Да-да, не удивляйтесь. Доставлен нынче утром знакомой проводницей. Булочная на Старом Арбате, дом три. В пятом подъезде того же дома проживала некогда первая моя любовь Бодрова Галка. Видели бы вы, в какую ступу превратилась теперь моя некогда ненаглядная. Сорок, как говорится, килограмм тому назад…
На отдельной бумажке аккуратно разложены были ломтики тонко нарезанной ветчина.
– Сейчас Великий пост, друзья мои, – со вздохом пояснил Прозоров, – но для тех, кто в дороге, позволительно… А я полагаю, мы все нынче находимся в дороге. По крайней мере, уж я-то всегда в дороге, пусть дорога эта, как метко выразился один мой приятель, ведет прямиком в ад.
Следом из целлофанового пакета вытряхнут был влажный ворох петрушки, сельдерея и зеленого лука.
– Если бы мужчины знали свойства сельдерея, они засеяли бы этой невзрачной на вид травой весь земной шар! – прозвучал комментарий. – Лук же, как вам известно…
– От семи недуг! – радостно выкрикнул Чиркин.
Затем появился на свет кусок желтого сыра.
– Сыр голландский, – объявил Прозоров. – Существует мнение, что к водке лучше рокфор, но при наличии маринованных опят, голландский предпочтительнее… – Он сунул руку в открытую пасть саквояжа, вытащил пол-литровую банку, снял пластмассовую крышку, понюхал и произнес: – Благороднейший гриб! Станция Суходрев, Калужской области. Девственные леса, древняя Русь…
Напоследок на столе появился шматок копченого сала с розовыми прожилками.
– Родина этого поросенка Украина, – с некоторой философской грустью в голосе заметил Прозоров. – Да-да, друзья мои, славный городок под названием Умань. Хохлушки, надо вам заметить, простодушны как домашние куры. Но пугливы, в чем имел удобный, но несчастливый случай убедиться лично. Однако довольно пустых слов. Прошу вас, господа, сдвинуть свои стулья потеснее.
Через полчаса совместной беседы за общим столом всем уже казалось, что они давным-давно знают друг друга, и, право же, не только выпитая водка была тому причиной. Можно предположить, что такому стремительному и тесному сближению содействовали несколько причин. Важнейшая из этих причин была та, что людей этих не связывали низменные материальные интересы, а потому в отношениях их не было никаких подспудных напряжений и тайных расчетов. Никто из них не мог ни при каких раскладах использовать ближнего, допустим, как ступеньку или трамплин на пути в своей служебной карьере. Сторож он и есть сторож, профессия, которой присуща некая абсолютная законченность и почти философская завершенность.
– Не знаю, братцы, что еще нужно от жизни, – благостно улыбаясь, говорил Мишка Чиркин, несколько помутневшими глазами оглядывая тесно заставленный стол. – Так бы и остался здесь навеки… Прощаю тебе, Верещагин, твой проигрыш.
Чиркин пил редко, а захмелев, становился сентиментален и романтичен, но обстановка и в самом деле располагала к разговорам задушевным и отвлеченным.
Водка, оказавшаяся на вкус и в самом деле превосходной, была выпита в два приема: “За первое знакомство” и “За улучшение жизни”. Несмотря на обилие еды, стол, после того, как пустая бутылка перекочевала в мусорное ведро, как-то внезапно осиротел. Выждав необходимую паузу и дав друзьям немного погрустить, Прозоров докурил трубку и снова направился к заветному саквояжу.
– Теперь предлагаю по традиции выпить за женщин! – сказал он, возвратившись к столу и откручивая жестяную пробку. – Как-никак, а во вселенной нашей доминирует женское начало. Вы, Верещагин, как художник должны это чувствовать интуитивно, ученейший же друг наш Чиркин, вероятно, согласится с нами, что и экспериментальная физика стоит на тех же позициях.
Верещагин молча кивнул.
– Вселенная процентов на девяносто девять состоит из женского начала, – подтвердил Чиркин. – Это, впрочем, не научный факт, а мое личное мнение…
– Ну что же, если мнения троих людей совпадают, то имеются все юридические основания считать это мнение доказанным научным фактом, – подытожил Прозоров. – За женщин, друзья!
Все встали, чокнулись чашками и выпили. Потянулись к закуске.
– Ты знаешь, Прозоров, – сказал Верещагин, задумчиво дожевав веточку сельдерея. – Мы вот выпили за женщин и женское начало. А все-таки хорошо, что здесь нет баб. Я вот представил себе, что открывается дверь и входит моя жена: “А, гад такой-сякой, пьешь!” Ну и все в таком роде. И все, пропал праздник. Удивительная способность разрушить гармонию. Все-таки нет у них чего-то очень существенного в душе, а они и не подозревают об этом. Мне иной раз сдается, что женщины не человеки, что они просто очень искусно ими притворяются…
– Признаюсь, я не раз думал об этом предмете, – откликнулся Прозоров с готовностью. – И приходил к похожим заключениям. Все-таки я тоже был женат, и женат неудачно, так что поневоле задумаешься. Но скажу вам, что нельзя осуждать человека за то, чего у него нет. Слепого же не станешь ругать за то, что он не различает цветов. А у женщин нет сущности, только и всего. Почему говорят, что женщина любит ушами? Потому, что она себе не доверяет, не верит никогда глазам своим, но легко поддается постороннему влиянию. Что ей нашепчут в уши, то для нее истина…
– Скажи какой-нибудь зубастой крысе, что у нее обворожительная улыбка, она и будет скалиться при всяком удобном случае, – вмешался Чиркин, внимательно слушавший разговор. – Зеркалу не поверит, а пустому слову проходимца – запросто!
– Но, с другой стороны, поверить-то она поверит, но так, сверху только… Она ни за что в глубину к себе никакой истины не допустит. Женщины, они по природе своей практики и позитивисты.
– Мне вот что в голову сейчас пришло, – снова встрял Чиркин. – Женщина, она ведь и устроена как сосуд, даже и в физическом смысле слова. Амфора. Что туда вольешь, то там и вырастет…
– Вы слишком вольно обращаетесь с метафорами… – заметил Прозоров. – Но я вам, друзья, один любопытный пример приведу, очень, кстати, показательный в этом смысле. О том, насколько глубока вера женщины, я не говорю о святых, там измерения иные… Вот слушайте, я сам это в серьезной книге вычитал. Факт реальный. Итак. Лет сто назад поветрие пошло среди простого народа о близком конце света. Эти поветрия, конечно, всегда по Руси кочевали и никогда не утихали вполне. Мы ведь, что ни говори, народ эсхатологический. Но тут все это с необычайной силой вспыхнуло, какой-то пророк объявился особенный. Я его очень зримо представляю – вдохновенный, дикий, страстный, заросший до ушей… А тут еще гроза идет от горизонта, ветер гудит, молнии блещут над лесом, гром вдали рокочет… Картина! Написали бы, кстати… – неожиданно предложил он Верещагину, и, прикурив трубку, продолжил: – Да, картина… Народ столпился у сельской церкви, священник-старичок что-то пытается возражать “пророку” слабым голосом, пробует увещевать толпу. А тот ему страшным таким рыком:







