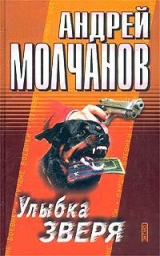
Текст книги "Улыбка зверя"
Автор книги: Андрей Молчанов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Непьющий вот уже полгода Варламов, черной тенью сидел посреди стремительно разгорающейся пьянки, с отвращением глядел на обильную еду, и лицо его искажено было внутренней борьбой. В груди его назревал мятеж и рвался наружу страшный русский бунт против самого себя. Да, он знал, что все это обман и наваждение, что самая приятная часть всякого застолья длится только первые полчаса, до третьей рюмки, а потом начинается безобразие и скотство, вытесняющие собой искреннее веселье, что очень скоро пирующие начнут, да и начали уже по нескольку раз повторять одно и то же, перебивая и не очень слушая друг друга…
“Вот же скоты… Ну не скоты ли? – думал Варламов, с брезгливостью поглядывая по сторонам. – Истинные скоты!..”
А “скоты” между тем веселились от всей души, не обращая никакого внимания на одиноко скорбящего Варламова.
Бобриков уже обнимался с поэтом Шалым, который, успев забежать далеко вперед и достигнуть предельной точки, теперь уже двигался против общего течения и потока, с каждой рюмкой становясь несколько трезвей и крепче держась на ногах.
– Степушка, душа моя!.. Изо всей этой швали… Ты один… Разве они поймут? – говорил Шалый, глядя на друга влажными глазами. – Ты один, брат… Не вижу людей…
– Да, Ваня… Люди есть, но нет среди них человека… – вторил Бобриков, глядя на Боброва, который низко склонился над банкетным столом и, пользуясь минутой, прятал в подаренный кейс два штофа водки.
– Степушка, ты один здесь человек, – говорил Шалый, подымая рюмку.
– Два! Два человека, – поправлял Бобриков. – Среди всей этой гнили…
– Ах, душа моя! – восхищался Шалый, снова увлекаемый общим потоком и стремительно пьянея. – Знаешь что, друг… Я тебе кейс подарю, бери… Тебе не хватило, а я все равно потеряю… Бери, не сомневайся!
– Беру, Ваня! У Боброва бы не взял даже под пыткой, а тебя уважаю. Беру и не сомневаюсь…
Варламов тосковал и ерзал на стуле.
– Ну как водочка? – дрожащим от напряжения голосом поинтересовался он у только что выпившего соседа, жизнерадостного бородатого скульптора из местных.
Тот, мощно пережевывая ветчину, кивнул и поднял вверх большой палец.
– Э-э… Так и быть, – решился наконец Варламов. – Рискну. Если что, вы уж меня в гостиницу доставьте.
Скульптор снова кивнул и снова молча поднял палец.
Часть медсестер пересела уже к пирующим, часть пирующих пересела к медсестрам. Там и сям возникали спонтанные рои восхищенных словес, вздымалась вдруг дружно начатая песня и как-то очень скоро утихала недопетой… Время гудело, кружилось, жужжало, и летело незаметно. Уже тушили окурки в салатницах и в кофейных чашках, уже успел местный художник Верещагин, обругав местного же художника Агуреева, схлестнуться с тишайшим в обыденной жизни, но вреднейшим во хмелю Жиновичем, уже поэт Шалый искал повсюду исчезнувшего Бобрикова, чтобы разбить ему “его поганую харю”…
Но наступил момент, когда метрдотель, перешагнув через тело спящего на полу Варламова, уже не церемонясь, объявил об окончании банкета, и набежавшая охрана стала вытаскивать под мышки гостей из-за стола и подталкивать их к выходу.
Возникла естественная и забавная путаница с кейсами, ибо все они были абсолютно одинаковы, и в этот миг Сократ Исидорович Бобров обнаружил, что его личный кейс, хранившийся под столом с двумя тяжелыми штофами, подменила чья-то злодейская рука на кейс легкий, порожний. И Бобров совершенно определенно знал, кому именно принадлежала эта рука.
ВЕРЕЩАГИН
Пожалуй, единственная отрада следующего утра для художника Верещагина состояла в том, что проснулся он на диване совершенно один, не считая, разумеется, своего сменщика Мишки Чиркина, который спал на этом же диване у стенки, валетом. Сменщик даже не пошевелился ни разу за все то время, пока Верещагин вставал, тихо прокашливался, возился с ботинками, ощупью искал свою вязаную шапочку и пояс от зимнего пальто.
За окном едва-едва начинало светать, и когда Верещагин для облегчения поисков решился зажечь настольную лампу, окна снова налились безнадежной февральской темнотой.
Верещагин некоторое время постоял, бездумно глядя в эту неожиданно вернувшуюся, подступившую к самым окнам зимнюю ночь, затем встрепенулся и снова принялся искать шапочку и пояс. Движения его были судорожны и беспорядочны, он то и дело задумывался и замирал, остановившись посередине комнаты или же ненадолго приседал на краешек стула, но потом, спохватившись, вскакивал и снова кружил по тесному пространству, заглядывая во все углы и щели, выдвигая по нескольку раз ящики письменного стола и снова задвигая их обратно.
Шапочка, в конце концов, случайно отыскалась в пыльной щели между ребрами батареи под окном, а вот пояс, похоже, потерялся безвозвратно. Верещагину никогда не везло с поясами. Вероятно, потому, что в хмельном виде имел он с юности привычку ходить нараспашку, не застегивая пуговиц и не подпоясываясь, какая бы стужа ни леденила грудь.
“Опять придется со Галкой разбираться, – уныло думал он, шаря ладонью в безжизненной пустоте под тумбой письменного стола. – Сперва, стало быть, посеял пояс от плаща, перед Новым годом пропал пояс от куртки, а теперь вот и от пальто… Орать будет. А и черт с ним! Главное, один проснулся. Вот что самое существенное…”
Он тяжело вздохнул, нащупал в кармане пальто пачку “Беломора”, спички и присел боком на широкий холодный подоконник, свесив одну ногу почти до пола. Поглядел на беззащитную узкую спину спящего Чиркина и невольно усмехнулся. Тот как всегда спал совсем по-детски, посапывал, свернувшись калачиком и подложив обе ладони под щеку. И таким покоем, такой отроческой невинностью веяло от фигуры Чиркина, что Верещагин невольно позавидовал ему и на миг засомневался, не слишком ли рано сам встал, однако с места не двинулся, зная, что все равно сон к нему сегодня больше не вернется.
Совсем рядом за толстыми стенами глухо и враждебно рокотал невидимый город. Здесь же горел желтый свет настольной лампы и от этого казенное помещение казалось даже уютным, похожим на коммунальную кухню. Тем более, что на письменном столе поблескивал электрический чайник, стояло несколько разномастных чашек, белела коробка сахара, а в железной миске еще оставалось полбуханки черного хлеба.
У Верещагина стучало в висках и кружилась голова, и от этого мерещилось, что подоконник тихо покачивается. Он вытащил папиросу из полупустой пачки и снова впал оцепенение, пусто глядя на безмятежно спящего Чиркина.
“Вот ведь как странно вывернулась жизнь, – подумалось ему. – Физик-теоретик, отставной полковник и художник сошлись вместе в тесном полуподвале, и по очереди охраняют паскудное имущество удачливых и бойких проходимцев, укрывшихся под вывеской фирмы “Скокс”. Имущество, в сущности, награбленное у народа, то есть, у нас с вами, господин полковник, физик и художник…”
Спичечный коробок выскользнул из дрогнувших пальцев и с сухим треском упал на выстланный каменной плиткой пол. Верещагин, пытаясь поймать его в полете, запоздало нырнул следом, черпнул ладонью воздух и, свалив стул, рухнул на четвереньки.
– Курил бы поменьше, Витек, – тотчас послышался недовольный голос с дивана. Вслед за этим Мишка Чиркин перевернулся на живот и, оттолкнувшись ладонями, выпростался из-под старой солдатской шинели, которой укрывался, усевшись на краю постели. Был он довольно мелок телом и узок плечами, отчего его большая голова с высоким лбом и обширными залысинами казалась еще больше. Из-под толстых стекол ученых очков глядели умные печальные глаза.
– Бросил бы ты курить, Витек, – повторил Мишка Чиркин. – Глупая же привычка, все равно что, к примеру, стул грызть… Да и с пьянками завязывай…
– Я вот чему не устаю удивляться, – радуясь, что кончилось его утреннее одиночество, произнес Верещагин. – Как это вы, господин ученый резонер, умудряетесь спать всю ночь в очках и при этом они не сваливаются у вас с носа?
– Трепач ты, Верещагин, – беззлобно сказал Чиркин. – Трепач и пьяница. Хорошо, совесть в тебе еще не угасла.
– Из чего ты заключил, что во мне совесть не угасла? – настороженно спросил Верещагин.
– Ну как же? Вчера вы, господин художник, явились в служебное помещение во втором часу ночи, так?
– Во втором часу? – Голос Верещагина дрогнул. – Во втором часу… Ну и где же я тогда, по-твоему, пропадал столько времени? Я ушел от них, вернее, охрана нас вытолкала в половине двенадцатого, потом провал… Неужели я все-таки…
– Поясняю, – перебил Чиркин. – Раньше положенного времени вы придти не могли, никак не могли. Ибо всякая нечисть имеет привычку являться к порядочным людям и вредить им именно после полуночи, но никак не ранее. Это время ее активной жизни и деятельности. Она не терпит солнечного света…
– Прекрати, – попросил Верещагин. – Не терзай мне нервы, ты не жена мне…
– Ага! – Чиркин хлопнул в ладоши и засмеялся. – Вспомнил про жену! Но нет уж, испей чашу правды. Итак, ты явился сюда, в служебное помещение во втором часу ночи в виде самом безобразном и скандальном. Но к жене ты не поехал, чтобы не оскорбить ее добродетель своим омерзительным состоянием, а потому я заключил, что совесть в тебе покуда не угасла. Ты вчера, честно тебе сказать, просто дымился от скверны…
– Дымился от скверны! – эхом повторил Верещагин. – Я не мог дымиться от скверны, потому что там ничего такого не было… Я всего, конечно, не упомню теперь, но был, судя по всему, обыкновенный скандал. Ругань… Но женщина-то здесь не замешана!
– Нет, я настаиваю, – ты именно дымился от скверны! Во всяком случае серой пахло и очень ощутимо…
– Это от спичек. Ты мне суть говори. Что я тебе рассказал вчера? По свежей памяти говори…
– Мне совестно повторять твои вчерашние слова.
– Слушай, сволочь, Мишка! – рассердился Верещагин. – У меня и так все горит, у меня в сердце теснота, а ты еще жуть тут нагоняешь. Говори нормально, по-товарищески…
– Ну, ладно. – Мишка уже и сам понял, что перегнул палку. – Успокойся. В общих чертах все было пристойно. Относительно пристойно. Во всяком случае, в глазах того круга людей, с которыми ты привык общаться. Но вне богемы, среди людей обычных и порядочных, это выглядело бы, конечно, совсем-совсем по-другому…
– Да, я ругал Агуреева, – мрачно сказал Верещагин. – Та еще сволочь…
– Если художник иногда и халтурит, то называть его сволочью по меньшей мере неделикатно.
– Сволочь, он сволочь и есть, – упрямо повторил Верещагин. – Бездарь к тому же… Другое меня мучит – то, что я себя в грудь бил и похвалялся собственным талантом. Вот что скверно и гадко. Да еще бабы эти… Между прочим, друг Чиркин, откровенно говоря, мне там сразу три понравились. Они еще и до сих пор мне нравятся. Три девицы под окном… Скромны, остроумны и красивы. Я их сразу выделил из всей толпы. Поразительно, что все оказались Маринами.
– Ты об этом говорил уже, полночи спать не давал. И про “трех девиц под окном” раз двадцать повторил. Между прочим, ничего нет мучительнее, чем трезвому разговаривать с пьяным.
– Прости, брат, – приложил руку к груди Верещагин. – Тут я тебя прекрасно понимаю. Сам испытывал неоднократно. Однажды Кадыкова по бульвару три часа водил, отрезвлял… Горький был опыт. Прости.
– Прощаю, – отозвался Чиркин и задумался. – А что, они в самом деле того… Пошли бы с тобой с первого знакомства? Впрочем, конечно… Некоторые, даже вполне порядочные женщины, любят таких… Безалаберных и безответственных. Материнский инстинкт.
– Друг мой, Мишка! – с чувством сказал Верещагин. – Инстинкт, конечно, вещь упрямая, но флиртовать можно годков этак до тридцати… Грех и блуд, но, по крайней мере, не пошлость… Но коль уж тебе стукнуло тридцать пять, знай честь и будь верен жене. Флирт после тридцати пяти – это уже распущенность, мерзкая похоть, собачьи судороги, козлиные страсти… Пошлость, проще говоря… А пошлости я не терплю ни в каком виде.
Верещагин болтал и чувствовал, как постепенно теснота в груди его рассасывается. По крайней мере, той острой первоначальной тревоги и неясных, но мучительных угрызений совести, с которыми он проснулся, уже не было. Главное в том, что он проснулся один, не поехал ни к одной из трех Марин, и ни одну из них не заманил сюда, в эту бытовку.
– Эк, ты сказанул, собачьи судороги! – Чиркин ухмыльнулся и, сузив глаза, насмешливо поглядел на приятеля. – В твоих словах, знаешь, что подозрительно? Уж больно ты горячишься и протестуешь. Чувствуешь, стало быть, в себе слабину… Тайные грешники всегда были самыми яростными проповедниками морали. А у тебя вон и седина в бороде…
– Оставь мою бороду, бритый кот! – Верещагин провел ладонью по усам и бороде, точно пытаясь стереть седину. – Знаешь ли ты, отчего Русь так яростно противилась бритью бород? Дело-то, оказывается, вовсе не в дремучей силе традиции и привычки. Дело в другом – до Петра бороды и усы сбривали одни “голубые”. У них там целая слобода таких была, бритых. Опущенных, говоря современным тюремным языком…
– Что, они и тогда были? – искренне удивился Чиркин, озабочено трогая и оглаживая свои хохлацкие усы.
– Они были, есть и будут всегда, – кратко сказал Верещагин. – Они вечны и неистребимы. Ого, уже половина восьмого, – спохватился он, взглянув на часы. – Сейчас хозяева жизни нагрянут. Пойду я, брат Чиркин. Надо еще часик где-нибудь перекантоваться, пока Галка на работу уйдет. Ты не проговорись ей, что я на банкете был, убьет. Я ее предупредил, что мы с тобой сменами поменялись. Пока.
Он потрепал приятеля по плечу и направился к выходу.
– Тебе она раза три звонила, – вспомнил Чиркин. – Пришлось врать, что ты на складе…
– Молодец. Кстати, знаешь, каким образом я обезопасил себя от этих Марин? – сказал Верещагин, остановившись у порога.
– Ну?
– Есть один верный способ. Я каждой по очереди нашептал на ушко, что она самая красивая женщина из всех присутствующих.
– За тремя зайцами погнался, и ни одного не поймал?
– Так точно. За тремя зайчихами… Или, скорее, волчицами. Так будет вернее. Ну, прощай, береги, брат, имущество “Скокса”, ибо это все временно у нас с тобой украдено.
– Яволь! – Чиркин вытянулся в накинутой на плечи шинели со споротыми погонами, щелкнул босыми пятками и козырнул.
Верещагин, тяжко вздохнув, толкнул кулаком входную дверь.
В “Скоксе” художник Верещагин служил сторожем уже второй год.
Впрочем, он и сам не знал, кто же он теперь, – сторож или художник. Попав недавно в отделение милиции, на вопрос о профессии, не задумываясь, ответил: “Сторож”. Он давно уже не касался кисти, и выдавленные на палитру масляные краски покрылись пылью и окаменели. Иногда посещали его смутные позывы вдохновения, но как-то уж больно нерешительны они были, слишком быстро слабели и выдыхались. И подходя в последнее время к мольберту, он рассеянно перебирал и ощупывал кисти, потом откладывал их в сторону, и на горестном выдохе шептал: “Не время, Витя, не время…”
Вместе с тем весьма отчетливо помнил он ту пору, когда вся жизнь и все самое главное в ней было еще впереди, когда он и в похмельном сне не смог бы представить себе, что подобный творческий застой не только возможен, но и отупело-привычен. Он помнил, как раньше ему досадно было пропустить даром, без работы, не то, что месяцы, а хотя бы один день, и, если таковое случалось, пальцы его к вечеру начинали ныть и тосковать.
Почти всегда в те времена просыпался он рано утром в настроении бодром, деятельном, с ясной головой, наскоро умывался, заваривал кофе и, тревожно томясь сердцем, шел в угловую комнату к своей начатой накануне картине. Надкусывал на ходу бутерброд с сыром и, не чувствуя его вкуса, тянулся к кисти. Постоянно жила в нем эта легкая тревога – а вдруг сейчас, на трезвый утренний взгляд, все то, что с вечера казалось ему многообещающей удачей, предстанет в самом удручающем виде.
Он крался с тыла, огибал холст и, подойдя к окну, ставил чашку на подоконник, закуривал папиросу, затем медленно поворачивался и, прищурясь, наконец-то решался взглянуть на свою работу. “Хорошо, – бормотал беззвучно, охваченный окрыляющей все его существо радостью. – Ах, хорошо!.. Только бы не записать, не замаслить…”
Он работал весь день, пока светило солнце, ощущая под ложечкой тихую дрожь вдохновения.
А потом незаметно потянулись и другие утренние пробуждения, – тусклые и унылые, когда он снимал свой очередной незавершенный холст, ставил его лицом к стене, затем долго вышагивал из угла в угол, куря папиросы, – сутулый и опустошенный, а после звонил по телефону приятелям, вызнавая, где пьянка, – а пьянка была почти везде, – и ехал туда.
Но муки его не были бесплодными муками прозревшей вдруг и впавшей в уныние бездарности.
– Старик, ты с ума сошел! – тормошил его приятель, график Кадыков, пересмотрев все то, что казалось Верещагину банальным и безнадежным. – Ты с ума сошел… Это же великолепно, – то, что ты начал! Докончи, прах тебя задери! Идиот! Так, как ты, не сможет никто…
– Видишь ли, – объяснял Верещагин. – Писать надо главное и существенное, но я еще сам не знаю, что для меня самое главное и существенное.
– У тебя слишком требовательный вкус, старик. И ты чересчур к себе строг. Прежде, чем художник состоится в тебе, критик задушит его и загубит.
Верещагин все это прекрасно понимал, но поделать с собой ничего не мог. Он сознавал, что любая целеустремленная, кропотливая и самонадеянная серость добивается в жизни гораздо большего, нежели сомневающийся в себе талант. И тем не менее, тем не менее…
Верещагин запахнул за собой тяжелую стальную дверь полуподвала и, осторожно поднявшись по скользким ступенькам, вышел прямо в переулок. Было уже довольно светло, но еще горели, понуро склонив над землей свои лысые головы, потускневшие фонари. Застегиваясь на ходу, размашисто ступая по раскисшему снегу, Верещагин направился к площади.
Дорога была знакома ему до мелочей, но что-то сегодня было не так как обычно. Верещагин недоуменно поглядывал по сторонам, поднимал глаза к небу, опять видел эти грустные фонари, серенькие низкие тучи, желтый свет в окнах утренних кухонь…
“Похмелье, что ли, так странно действует нынче на меня?” – думал он, прислушиваясь к себе и снова растерянно оглядываясь.
Сырой февральский ветерок, в котором дышала уже весна, мягко ударил в лицо, и Верещагин понял, что именно это и томило его душу, именно это и предчувствовал он за секунду до того, как услышал знакомый полузабытый зов. Верещагин остановился, ноздри его затрепетали, он глубоко, до боли в груди, вдохнул, закрыл глаза. Всегда случалось с ним это, и именно в феврале, когда неожиданно, с утра, после вчерашних морозов и метелей налетал вдруг невесть откуда этот мягкий внезапный порыв весеннего ветра. И всегда приносил с собой этот кочевой ветер какую-то сладкую и мучительную тоску, так было и в самой ранней юности, так случилось и теперь, когда давно перешагнул Верещагин свое тридцатилетие. Ему снова захотелось прямо сейчас, не откладывая ни на один день, разделаться с прежней жизнью, решительно все поменять, сорваться с места, стряхнуть с себя все опостылевшее и привычное, потому что в порыве этом всегда заключена была жажда обновления.
Взвизгнули близкие тормоза и кто-то за его спиной разразился яростным клекотом:
– Куда ты прешь, ублюдок! Разуй глаза, сволочь поганая!.. Раздавлю, как кота помойного…
Верещагин вздрогнул, возвращаясь в реальность, и обнаружил себя стоящим посередине улицы. Из бокового окна едва не сбившего его автомобиля высовывалась толстая бритая морда с выпученными свирепыми глазами, а с заднего сидения другая такая же толстая и бритая морда, но в темных очках, грозила ему кулаком.
Понурившись, он отступил на тротуар, пропуская с визгом умчавшуюся в сизый сумеречный туман опасную машину.
Нужно было убить время. Целый час времени. Галка уйдет в девять утра, тогда можно будет спокойно и без опаски вернуться в освободившуюся квартиру.
Он вышел из-под железнодорожного моста на площадь и теперь, направляясь к дому, двигался нарочно помедленней, то и дело останавливаясь у освещенных витрин продовольственных палаток, разглядывая сорта пива и сопоставляя цены.
Кое-где на столбах и рекламных щитах попадались ему на глаза предвыборные плакаты кандидатов в мэры и в вице-мэры, которые, очевидно, не успели еще содрать, тем самым нарушив закон об отмене какой-либо агитации накануне свершения действа голосования. Выборы между тем должны были состояться завтра. Верещагин ни разу не ходил ни на какие выборы, но все же данный факт беззакония внутренне возмутил его, – впрочем, не столь и болезненно. Ибо – что такое писанный закон для России, где правит стихия?..
“Колдунов так Колдунов, какая разница? – текли мысли Верещагина. – Тем более мэр, кажется, человек неплохой, по крайней мере, художникам ничего дурного не сделал. Равно как и хорошего… Но ведь главное в отношениях политика с художниками – не вмешиваться, как сказал один французкий король на смертном одре. А вот что интересно: кандидат в вице-мэры, Урвачев, не родственник ли он нашей Ксюши?.. Ведь есть у нее какой-то деловой братец… Неужели он? Любопытно было бы…”
Тот первый порыв весеннего ветра, который так внезапно растревожил его душу, уже рассеялся в пространстве, растекся по форточкам и подъездам, растратил свою зовущую силу. На площади хозяйничал обыкновенный сырой февральский сквозняк, пронимавший его до костей. Верещагин сутулился и зябко передергивал плечами.
На углу под фонарем, широко расставив короткие ножки в мягких сапогах, лицом к востоку стоял маленький плотный таджик в расстегнутой на груди дубленке и, как издали показалось Верещагину, читал свои мусульманские молитвы. Таджик шевелил губами, голова его была низко опущена, руки благоговейно прижаты к груди. Он мельком зыркнул на подходившего незнакомца, переложил пачку денег в другую руку и, отвернувшись к западу, снова стал их старательно пересчитывать.
“Вот досада, – вспомнил Верещагин. – Я же сегодня денег обещал жене добыть… А где их теперь добыть?”
Цепким взглядом грибника он окинул близлежащее пространство – обрывки газеты, смятый пластмассовый стаканчик, пустая пачка из-под сигарет, пивные пробки… Вон на том углу когда-то давным-давно стояла чугунная урна, возле которой им был найден в юности сложенный в четверть красный советский червонец. Разумеется, его выронил какой-нибудь пьяный растяпа, вытаскивая носовой платок, но Верещагину это показалось в ту пору знаком небес, приветом едва ли не от самого Аполлона.
И теперь Верещагин, внимательно глядя под ноги, шел мимо вокзала по тому самому асфальту, по которому некогда шагал легко и окрыленно, будучи, как все про него говорили, “подающим громадные надежды” художником. Тогда он был полон самых радужных упований и, протискиваясь сквозь беспечную, ни о чем не догадывающуюся толпу, весело думал, глядя на себя как бы со стороны, из самого недалекого будущего: “Вот он идет, но ни один человек об этом еще и отдаленно не подозревает… Но дай людям знание о том, кто рядом с ними, он бы прошел сейчас через оцепенение и шок…” И в этот миг, остановившись на углу, увидел на солнечном асфальте полновесную десятку.
Двигаясь ныне по той же самой дороге, Верещагин вспоминал о тогдашних своих юношеских мыслях вполне равнодушно и без всякого сожаления.
Как ни мешкал он, каких только остановок и крюков ни делал (заглянул по пути даже в рыбный магазин и пересмотрел все витрины), все равно оставалась еще уйма холодного и бесприютного времени.
Верещагин приостановился. Обнаружилось, что время тоже, как и все на этом свете, чрезвычайно неоднородно, многообразно и далеко не равноценно. Вот если бы, скажем, разрешено было людям свободно и по взаимному согласию меняться личным временем как жилплощадью, то что тогда? А то, что один час жизни на солнечном пляже близ Фороса, отпущенный Богом, к примеру, некоему Петрову, этот самый Петров при желании и без долгих торгов вполне мог бы поменять у некоего заключенного Сидорова на целый год жизни в тюрьме…
Верещагин в лицах представил подобный обмен, и его настолько развеселила эта забавная арифметика, что, проходя в двух шагах от троллейбусной остановки, он вдруг рассмеялся искренне и звонко. Несколько человек, ожидающих троллейбус, оглянулись, не удержалась от улыбки какая-то милая студентка в малиновом берете, неодобрительно нахмурился пожилой майор в шинели старого образца, а случившийся рядом приличного вида бомж с перебитым и вдавленным в лицо носом тотчас прицепился к Верещагину и попросил рубль. Как раз рубль и оставался у Верещагина. Бомж получил просимое и несколько минут шел рядом, выслушивая арифметические выкладки Виктора, но не понял ровным счетом ничего, только нейтрально заметил по поводу тюрьмы:
– Тюрьма, она и в Африке тюрьма.
– Нет, ты, брат, не вполне уразумел, – терпеливо принялся заново объяснять ему Верещагин. – Допустим, тебе месяц жизни нужно провести в ШИЗО, но ты можешь этот месяц вычеркнуть, отнять из общего срока своей жизни и очень выгодно выменять его на один час моря, солнца и пляжа… За этот час можно, кстати, и с девушкой какой-либо сойтись накоротке… Вон с той студенткой, а?
– Не годится, – кратко возразил бомж, даже не взглянув на указанную студентку. Он деловито шагнул к бордюру, извлек из кучи мусора пустую пивную бутылку, обтер ее ладонью и сунул в боковой карман бурого бушлата.
– Почему не годится? – удивился Верещагин.
– Несправедливый обмен, неравноценный. Я, допустим, месяц в ШИЗО посидел, помучился. Возвращаюсь в барак, мне братва уже грев приготовила – чифирек, консервы, сигареты, разговор душевный, уважительный. То есть, я человек. А, к примеру, возвращаюсь я из этой твоей Феодосии, с пляжа, весь, допустим, в помаде… Что ж ты думаешь, как меня люди встретят? Ты, скажут, сука, у кума шашлыки хавал, пока мы тут мучимся?!. И такое мне в бараке ШИЗО устроят, мало не покажется… Так по жизни выходит? То-то же…
Бомж шмыгнул перебитым носом и пропал в кустах.
“Странные какие у меня сегодня с утра настроения, – думал Верещагин, подходя к своей улице, – странные разговоры и интересные собеседники…”
К тому времени, когда он находился уже вблизи своего дома, квадратные часы на столбе у кинотеатра показывали без четверти девять. Несмотря на столь ранний час, какой-то солидный упитанный Ромео пружинисто прохаживался взад-вперед под часами, сжимая в окоченевших руках букет роз, упакованных в целлофановый куль. Пыжиковая шапка, малиновый шарф, под которым наверняка скрывался галстук-бабочка…
“Нет, – подумал Верещагин, с трудом отрывая взгляд от приплясывающего человечка. – В этом мире никогда не будет скучно…”
Для верности нужно было протолкаться здесь еще хотя бы полчаса. Он ходил по середине аллеи, ведущей в парк, но ветер, ставший уже нестерпимо пронизывающим, налетал и спереди, и сзади, и с боков. Как ни укутывался Верещагин в свое пальто, очень скоро он совершенно озяб.
Поневоле пришлось перебраться под бетонный навес с колоннами, который оказался входом в магазин “Меха”. Потоптавшись здесь и походив взад-вперед, Верещагин быстро убедился, что у колонн холод еще злее, а потому вынужден был юркнуть внутрь, в неоновое тепло дорогого магазина. Первое, что попалось ему на глаза, было яркое объявление напротив входа, напоминающее о том, что магазин снабжен электронными устройствами против краж. Помешкав в тамбуре у стеклянных дверей, Верещагин продвинулся вглубь, поскольку неловко было стоять без дела на проходе, да и охранники как-то слишком неприветливо глядели на его фигуру.
Скользнув мимо зеркала, он мельком оглядел себя. В своем потертом пальтишке, в вязаной лыжной шапчонке, он явно не соответствовал убранству и ассортименту этого магазина. Даже богемная серебристая борода не спасала. Кругом висели роскошные меха, оранжевые дубленки, пушистые дивные шубы…
Худощавая некрасивая продавщица, красившая тонкие губы, при появлении столь подозрительного покупателя опустила руку с зеркальцем и, вытягивая шею, стала внимательно следить за ним из-за колонны. Верещагин потоптался у длинной вешалки, протянул руку к дубленке…
– Гражданин! – строго окрикнула продавщица. – Нельзя зря товар маслить!..
– Я не маслю… – растерянно оглянулся Верещагин, одергивая руку.
– Ходят тут, маслят грязными пальцами… – не унималась та, и Верещагин, остро чувствуя свою социальную никчемность, малодушно побрел к выходу.
Пройдя сквозь арку и оказавшись в своем дворе, он первым делом взглянул на кухонное окно на пятом этаже, надеясь увидеть безжизненную пустоту. Но окно приветливо светилось и в этом свете Верещагин разглядел силуэт своей жены, которая, узрев его, тотчас махнула ему рукой. Верещагин тоже вскинул руку, распрямил плечи и, стараясь выглядеть человеком, честно отдежурившим свою ночную смену, двинулся к подъезду.
Кажется, нет в мире ничего более иррационального, более необъяснимого, более запутанного и сложного, чем история всякой семейной пары. По степени сложности сравниться с ней может разве что история какого-нибудь государства. Как говаривал известный острослов Ознобишин, после того, как дважды разводился, уходя на время в другую семью, а затем дважды сходясь с прежней женой: “Чужая семья – потемки”, и добавлял без улыбки после небольшой раздумчивой паузы: “А своя семья – потомки.” Он же по поводу семейной жизни любил повторять одну старую поговорку: “Одно полено в поле гаснет, а два – дымятся”.
Применительно к Верещагиным эта поговорка звучала бы чуть иначе: “Одно полено в поле гаснет, а четыре – дымятся”, потому что, если вычесть двух котов и двух пуделей, которых Галина упорно считала членами семьи, всего их было – четверо. За пятнадцать лет совместной жизни супруги нажили двоих детей. Это были четырнадцатилетняя дочь Света и сын Василий тринадцати лет, названный Верещагиным в честь известного русского художника, но не того, что изображал засыпанных снегом часовых, черепа и мрачные турецкие лазареты, а другого Василия Верещагина, жившего в одно время с баталистом и написавшего “Илью Муромца” и “Крещение Святого Владимира”.
Это была, пожалуй, первая серьезная размолвка между супругами, потому что Галина хотела назвать сына Петром, в честь еще одного Верещагина – Петра Петровича, живописца, жившего в ту же пору, что и первые два, но рисовавшего преимущественно пейзажи и виды русских городов.
Похоже, к этому времени в жизни супругов уже накопилось та критическая масса внутренних подспудных напряжений, когда даже столь мирное дело как выбор имени для ребенка, спровоцировало резкий всплеск этих напряжений, породило тягучий безысходный спор, переросший затем в ссору. Нашла коса на камень.
– Сейчас, Петенька, сейчас мы тебя перепеленаем, – не остывшим от ссоры голосом, припевала Галина, склонившись над орущим и пока еще безымянным младенцем, демонстративно заслоняя сына спиной от топчущегося рядом Верещагина. – Сейчас, мой петушок… Намучил нас этот страшный человек…







