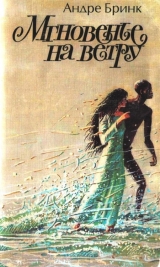
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Я скитаюсь один по пустыне, неужто этого я хотел, как вы думаете?
– Через пятьдесят лет в эту пустыню придет цивилизация, – говорит она.
– Цивилизация? При чем тут цивилизация?
– Как при чем? Я тебя не понимаю, – растерянно говорит она.
Он вдруг вспоминает ее тень на парусине фургона в ту первую ночь. И сразу же гонит прочь воспоминание, оно разбудило в нем тяжкую, мучительную страсть.
– Где уж вам понять? – с горечью говорит он. – Вы белая. А я всего лишь раб, так ведь вы считаете? Я рабочая скотина и должен трудиться. Думать? Да как я посмел, наглец, на что покусился? Рабам не положено думать, думать имеете право только вы, белые господа. А я должен знать свое место. Двадцать пять лет я терпел и молчал, а потом чаша моего терпения переполнилась. И вот уже пять лет я только и делаю, что думаю, думаю, думаю, бродя по этой дикой оставленной богом земле. Мои мысли не записаны в тетрадях, они здесь, у меня в голове. Что мне с ними делать, что?
– Ты безумен! – шепчет она потрясенно и почти с состраданием.
– И пусть я безумен, пусть, дайте мне только возможность думать! – Он еле удерживается, чтобы не сорваться на крик. – Вы все стараетесь унизить меня, доказать, что я раб, что я не умею думать, вам так спокойнее. Но ничего не выйдет, не надейтесь!
В тишине, которая упала на них после его вспышки, у нее лишь хватает сил прошептать:
– Адам, это несправедливо…
Он быстро встает и снова начинает ломать сучья для костра, с почти чувственной радостью ощущая свою силу, свое тело, он словно хочет, чтобы у него осталось только тело, только кости и мускулы, только животная мощь. Все остальное – безумие. Зачем ты вынудила меня сейчас рассказать тебе все? Оставь меня, отпусти, я свободен! Я хочу остаться свободным!
Он чуть не с отчаянием поднимает к ней взгляд. Она все еще сидит у костра и широко открытыми глазами смотрит на него.
Отвернись, не гляди! Разве ты не видишь – я наг?
Будь сейчас день, случись все это вчера или завтра, он бы ушел из загона на волю, ушел побродить хоть немного, хоть час или два, чтобы лежащий вокруг мир вернул его душе покой. Но сейчас все окутано тьмой, и в темноте притаились львы, сейчас вокруг них беспредельность. Над головой пролег Млечный Путь, горят шесть звезд Кхусети. Мерцает пламя костра, и все так знакомо в их тесном убежище. И выйти отсюда нельзя, вездесущие звери слишком опасны. Остается лишь кружить и кружить здесь по бесконечной спирали, которая суживается виток за витком в одну точку – к нему и к ней.
Вновь раздается рычанье, теперь уже совсем рядом, Адам подходит к волам проверить привязь, и вдруг рычанье обращается в грозный рев. Земля качнулась у него под ногами, испуганные волы с воплем взвились на дыбы. Он слышит ее крик – «Адам!», бросается к ней, и его оглушает треск ломаемых веток. Она протягивает ему ружье – поразительно спокойная, бледная, сосредоточенная, – и в этот миг через ограду прыгает лев с черной гривой.
Адам стреляет не целясь, почти наугад.
– Зарядите, быстро! – кричит он, бросая ей ружье.
Огромная туша валит его на землю. «Лев!» – проносится у него в голове. Но это не лев, это вол. Оба вола сорвались с привязи и мечутся по загону, в загривок одному из них вцепился лев. Ограда с треском валится – волы вырвались на свободу и вместе со львами умчались в темноту, гремит, удаляясь, стук копыт.
Адам снова хватает заряженное ружье и кидается следом. Лишь добежав до разметанных веток терновника, за которыми кончается световой круг, он замечает рядом с собой ее, она крепко держит его за руку и не пускает.
– Ты с ума сошел! – кричит она. – Не ходи!
Он отталкивает ее и бежит дальше, но через несколько шагов ему становится ясно, что все бесполезно. Он снова стреляет в ту сторону, откуда доносится шум. В темноте раздается душераздирающий рев, визг, потом все стихает.
Он понуро возвращается в их разоренный лагерь.
Она глядит на него, но ни он, ни она не произносят ни слова. Так же молча они начинают поправлять изгородь, потом возвращаются к костру, все еще трудно дыша. Он подбрасывает в костер дров. В воздух взлетает сноп искр. В ярком свете на лицах их пляшут зловещие тени.
Костер горит жарко, но у нее постукивают зубы.
– Вы что? – спрашивает он.
– Ничего. – Ее душат рыдания, она пытается их унять, потом сдается. Но через минуту стискивает зубы и вытирает слезы. – Извини. Сама не знаю, что со мной.
– Вы же вроде совсем не испугались, – в замешательстве говорит он.
– Все случилось так неожиданно. Ведь на волосок были от смерти, я только сейчас поняла…
– Ложитесь спать. Вы устали. Я вам чаю вскипячу.
– Да разве я засну!
– Постарайтесь.
– А если они вернутся?
– Нет, сегодня они не вернутся, – успокаивает ее он. – Им уже ни к чему.
– Что же нам теперь делать? Они обоих волов сожрали, как ты думаешь?
– Наверное.
– Как же мы теперь пойдем дальше?
– Завтра будем думать.
Она долго не может заснуть, потом наконец ее смаривает, но она то и дело вздрагивает во сне, что-то бормочет, стонет. Он сидит возле костра и подкладывает в огонь поленья, глядит на нее, вслушивается в ночь. Но все тихо вокруг, хотя он знает, что где-то в темноте звери пожирают свою добычу. Лишь когда взошла утренняя звезда, он укрывается шкурами и ложится.
Просыпается он при первых лучах солнца, задолго до нее. Наваливает сучья на едва тлеющие под золой угли, ставит на огонь чайник, берет ружье и уходит. Спустившись к реке, снимает одежду – грязную рваную рубашку с рюшами и обтрепавшиеся голубые штаны – и ныряет в воду. Холод обжигает его и прогоняет уныние. Он бодро натягивает на мокрое тело одежду и идет среди зарослей вязов, терновника и птичьей вишни в том направлении, куда бежали вчера волы. Осторожно, потому что львы хоть и сыты, но все еще где-то поблизости, начинает он поиски. Отойдя немного от лагеря, он замечает первых грифов и лезет на дерево, чтобы оглядеть окрестность. В траве на поляне, там, где заросли редеют, лежит туша вола с нелепо задранными вверх ногами. Две львицы с довольным урчаньем продолжают обгладывать останки, неподалеку дремлет лев, то и дело встряхивая своей огромной гривой, чтобы прогнать мух. Второго вола не видно, нет даже признаков.
Теперь Адам вглядывается в пейзаж уже с надеждой, пытаясь обнаружить следы: вдруг встретится навозная лепешка, сломанные ветки, примятая трава или отпечатки копыт… Когда он наконец находит то, чего искал, он не дает воли радости. Кто знает, может быть, вол убежал слишком далеко и его уже не найти. Он терпеливо идет по следу, удовлетворенно хмыкая всякий раз, как его надежда получает подкрепление. По дороге он то сорвет и съест сочный мясистый лист, то корень, клубень, какую-нибудь ягоду, плод, а их в это время года всюду великое изобилие. Но всякий раз, остановившись на минуту, он вспоминает – со стыдом, таясь от самого себя – вчерашний разговор с Элизабет. В ярком, беспощадном свете дня он испугался того, что наговорил ей вечером, того, что говорила ему она. Что с ним случилось, почему он раскрыл перед ней так много? Наверное, виной всему темнота и близость львов, угрызения совести, оттого что он слишком уж часто ее унижал, и ее беззащитность, и его порыв помочь ей, утешить, оградить. Но зря он поддался порыву, это опасно, это ошибка, нельзя ее повторять.
Он спускается в лощину между холмами и вдруг видит в дальнем ее конце, возле негустых зарослей боярышника, щиплющего траву вола. Шею ему все еще сдавливает кожаный ремень. Почуяв Адама, животное вскидывает голову.
Адам начинает тихо, ласково говорить с волом, а сам медленно, осторожно делает несколько шагов в его сторону. Животное предостерегающе всхрапывает.
– Ну что ты, дурачок, что ты, не бойся, – успокаивает его Адам. – Я же за тобой пришел, сейчас пойдем обратно.
Вдруг вол поворачивается и трусит прочь. Но ярдов через сто опять останавливается и глядит назад через свой высокий горб. На боках у него запеклась кровь.
– Иди сюда! – ласково зовет Адам. – Иди, мой хороший…
Вол в ответ жалобно мычит. На этот раз он подпускает Адама к себе, дается погладить. Висящая складками шкура нервно подрагивает. Серьезных ран у него, слава богу, нет, на боках царапины от львиных когтей и колючек, но они неглубокие.
– Пошли, – приказывает Адам и, подобрав оборванный конец ремня, ослабляет тугой ошейник.
В лагерь они возвращаются к полудню. Элизабет вскакивает, роняя с колен свои тетради, бежит к входу в загон им навстречу.
– Далеко пришлось ходить? – спрашивает она.
– Не особенно.
– Он ранен?
– Пустяки, несколько царапин.
– Ты, наверно, устал, – заботливо говорит она. – Поешь, я обед приготовила.
– Спасибо. – Он поднимает на нее глаза. Сегодня щеки ее едва заметно порозовели. Он снова отводит взгляд. – Нужно собираться в путь, – резко говорит он.
– Почему?
– Лучше уйти как можно дальше, пока львы доедают вола.
– Теперь мы пойдем еще медленней, – спокойно говорит она.
– Нет, почему же. Вы сядете на этого вола, а лишнее выкинем.
– Да разве у нас есть лишнее? – возражает она. – Мы и так почти ничего не взяли.
– Как же быть? – сердито спрашивает он.
– Навьючим всю поклажу на вола, как раньше. А я пойду пешком.
– Не осилите.
– Осилю, я вполне здорова.
Он изучающе глядит на нее с затаенной враждой, но не без уважения.
– Ведь теперь уж, наверное, близко, правда? – спрашивает она.
– Близко, если идти по прямой. – Он глядит на нее в упор. – Только мне туда не надо, где по прямой, мое море лежит дальше.
– Но разве нельзя пройти к морю кратчайшим путем, а потом двигаться по берегу?
– Тогда пришлось бы переправляться через устья рек, продираться сквозь заросли дюн, одолевать скалы, а на это уйдет месяца два-три.
– Что нам время? Главное добраться до моря, верно?
– Нет. Мы пойдем туда, куда мне надо.
– Но ведь…
– Будет так, как я сказал, – говорит он спокойно и непреклонно.
Вот главное, думает он, вот причина. Не в реках суть, не в дюнах и не в скалах, которые задержат их в пути. Просто он должен одержать над ней верх, подчинить ее своей воле, не уступить ей, не выпустить из повиновения.
И она это знает, он видит по ее глазам. Он ждет, что она возмутится, но она молчит, не потому, что сдалась, покорилась, нет – вон как гордо вскинута ее голова, как решительно расправлены плечи: ее молчание – оружие, куда более изощренное и грозное, чем открытый бой.
Я победил, опустошенно думает он. Мы пойдем дорогой, которую я выбрал, пойдем к моему морю. Моя воля восторжествовала. Но я лишь отсрочил, лишь отдалил неотвратимое. Рано или поздно оно должно совершиться.
Она сидит на большом валуне у реки и болтает в воде ногами, рядом стоят башмаки, которые он ей сшил, когда ее капстадские туфельки совсем развалились. Чуть ниже по течению Адам поит вола; поклажа осталась на пригорке. В последние дни им встретилось множество рек и речушек, и чтобы переправиться на ту сторону, они порой часами искали брода или хотя бы просто спуска к воде в дремучих зарослях по берегам. Эта река шире прежних, вода пенясь бежит по камням и образует перед порогами глубокие заводи. От морды пьющего вола по зеркальной воде расходятся круги, дробя отражение деревьев, и если б не это легкое колыханье, было бы не отличить, где мир, а где его отражение. Неподалеку по заводи тихо плывет стая диких гусей, на том берегу среди выброшенных рекой деревьев и сучьев бродят ибисы, по кочкам осоки вышагивают длинноногие аисты. Когда они с волом пришли сюда, птицы едва обратили на них внимание.
– Подумать только, – вдруг говорит она взволнованно, – наверное, до меня здесь не ступала нога человека. – И с удивлением смеется: – Я вписала новую страницу в историю!
– Между прочим, я тоже здесь, – говорит он, закипая гневом. – И готтентотов до нас прошло немало.
– Я просто хотела сказать…
– Знаю я, знаю, что вы хотели сказать. – Он остервенело трет мокрый круп вола пучком травы. Ну вот, было так просто, хорошо, и опять все разрушено. Она в досаде прижимает ко лбу стиснутые кулаки. Ну, почему, почему каждый раз так кончается? Почему она всегда говорит не то, что нужно? А может, это он виноват, может, он нарочно придирается к ее самым безобидным словам и поступкам? Как выматывает силы эта вражда, еще хуже, чем нескончаемый путь изо дня в день.
– По-вашему, только за вами стоит история и для нее важен каждый ваш чих, – язвительно говорит он. – А все, что происходит за пределами Капстада, к истории не относится, так ведь?
– Но ведь цивилизацию этой стране несет Капстад, – возражает она.
– А история начинается с цивилизации, да? Неужто для вас существует только Капстад с его церквами, школами и виселицами? А в чем она состоит, ваша цивилизация? Может, она несет лишь зло, откуда вы знаете?
– Я совсем не о том говорила.
– Не о том? Нет, именно о том, иначе не заявили бы, что-де до вас здесь не ступала нога человека. Вам кажется, историю интересуете лишь вы, лишь белые, которые живут в Капстаде и умножают его власть и богатство! Ведь это вы называете цивилизацией? А для истории все важно, и то, что происходит в Капстаде, и то, что происходит здесь, без вас, такие мысли вам не приходили в голову? Ей важен каждый готтентот, которого похоронили в дикобразьей норе, потому что от старости и болезней он не мог кочевать с караваном, ей важен каждый путник, который пересек эту реку, пусть даже мы никогда не узнаем его имени!
Элизабет быстро встает.
– Да что это, в самом деле, – говорит она. – В тебя словно бес какой-то вселился. Что я ни скажу, ты непременно вывернешь наизнанку.
– Да потому что это не вы говорите, а Капстад. Что вам в голову вбили, то вы и повторяете, сами-то думать не умеете. А мне надоело слушать эту чушь.
– Так что ж ты не идешь один? – запальчиво говорит она. – Ты сам вызвался отвести меня к морю, я тебя не просила.
– И что с вами будет, если я вас здесь брошу?
– Не твоя забота. Не пропаду. А хоть бы даже и пропала, тебя это не касается. Я тебя не принуждаю идти со мной. Раз ты считаешь, что я такая обуза, ради всего святого оставь меня и ступай один. Но уж если ты решил остаться, изволь относиться ко мне хотя бы с уважением.
– Да, госпожа, слушаюсь, – насмешливо говорит он.
Она поднимается и, сдерживая гнев, уходит туда, где брошена их поклажа.
…Ведь я не хочу воевать с тобой, не хочу спорить, как ты не видишь? Я просто хочу иногда перемолвиться с тобой словом, мне так одиноко. Почему ты все время стараешься выместить на мне все свои прежние обиды? Я этого не заслужила. Я не хочу, чтобы на меня взваливали чужую вину…
Он идет за ней и тянет вола.
Почему ты все время перечишь мне и заставляешь выходить из себя? Потому что тебе хочется меня унизить? Все эти годы мне никто не был нужен… так по крайней мере мне казалось. А сейчас ты на каждом шагу заставляешь меня убеждаться, что я так и не освободился от власти Капстада, что всеми моими поступками по-прежнему движут ненависть и протест. Я думал, что я избавился от ненависти, но я обманывал себя, какое же мучение это понять. Но что ты знаешь о моих мучениях?
Ты думаешь, я ушел от людей по своей воле, и в этом-то как раз вся суть…
Продолжая свой спор без слов, он привязывает вола на лужайке, а она устраивает себе постель. Потом он уходит собрать дров для костра, а она спускается к реке освежиться и поплавать, и когда он возвращается, он видит, что она опять погрузилась в свои дневники.
Несколько минут он стоит, наблюдая за ней. Она, конечно, чувствует его взгляд, но не поднимает головы. Наконец он отводит от нее глаза и начинает сооружать изгородь. Закончив, поворачивается и идет в сторону реки.
Она поднимает голову и смотрит, как он скрывается за деревьями, потом снова хочет писать, но не может собраться с мыслями. Она в досаде закрывает тетрадь и откладывает в сторону. Берет платье и начинает чинить, но и штопку бросает, встает и бесцельно бродит взад и вперед, потом ей приходит в голову, что надо развести костер. Сидя возле огня, она рассеянно ворошит длинной палкой поленья, вся во власти усталости и тревоги.
Почему его нет так долго? Неужели он поймал ее на слове и ушел один? Ну и пусть, ушел так ушел, она и без него не пропадет. Будет идти и идти по течению реки, пока не выйдет к морю, это для нее сейчас главное.
Но вдруг она бросает палку и встает. И только когда она уже выбежала из ограды, в голове у нее мелькает: «Как он будет торжествовать, если увидит, что я его разыскиваю!» Она возвращается и начинает перекладывать свои вещи. Но еще через несколько минут принимает решение и, уже не колеблясь, твердым шагом выходит из лагеря и направляется к реке. Пусть он думает что хочет, уже поздно, пора ему приниматься за вечерние дела.
Лишь только кончились кусты, она сразу же замечает на плоском валуне, где раньше сидела сама, его платье – грязные шутовские лохмотья. Да и кто он, как не жалкий шут? Теперь она может вернуться, но, подавив первый порыв, она спускается к воде и залезает на камень.
В длинной заводи ниже по течению она видит его, он плавает и ныряет в дальнем конце у камней.
– Адам!
Он встряхивает мокрой головой и глядит на нее.
– Что случилось?
– Тебя так долго не было, и я… – Она умолкает.
– Сейчас приду.
Он плывет к ней широкими ровными саженками, на его плечах блестит вода. Напротив на берегу все еще разгуливают ибисы и аисты, облитые желтым закатным светом. В темнеющем лесу перекликаются птицы.
Доплыв до мелководья, где ему по грудь, он встает на ноги и идет, вода опускается все ниже, ниже, вот она дошла ему до пояса… Он останавливается на миг в нерешительности, глядит на нее. Она опять рванулась было – исчезнуть, убежать. И вдруг поняла: нет, она не может сейчас бежать, не хочет. И она остается стоять, с вызовом глядя ему в глаза, высоко подняв голову, утверждая свое превосходство.
Он подходит ближе, его глаза сощурены, на губах загадочная улыбка. Из воды показываются его бедра. Он худ, угловат, но гибок, в движениях мягкая кошачья грация, под кожей играют гладкие тугие витки мускулов, – у него тело юноши. Все, теперь надо уйти. Но она продолжает стоять. Уже виден низ его живота в темной поросли волос. У нее стесняется дыхание, но она упорно не отводит глаз. Сейчас я увижу тебя таким, как ты есть. Ты каждую минуту унижаешь меня, смеешься надо мной, оскорбляешь. И я хочу поглядеть на тебя во всей твоей постыдной, жалкой, беззащитной наготе, жестоко выставленной передо мною напоказ: ну что же, хватит у тебя дерзости или нет?.. Он подошел совсем близко. Теченье кружится вокруг его колен, вокруг мускулистых икр… Он вспрыгивает на камень, где она ждет, по-прежнему не пытаясь ни отвернуться от нее, ни хотя бы прикрыться руками.
Нагнувшись, он берет свою одежду и идет на берег. Она глядит ему вслед и впервые за все время видит на его спине, на бедрах, на боках страшные багрово-черные шрамы и толстые узловатые полосы рубцов.
Рот ее полуоткрыт, ей нечем дышать.
– Дикарь! – сквозь зубы шипит она.
Он оборачивается. Неужто посмеет ответить? Ее вдруг охватывает стыд от того, что он наг, она отводит взгляд от его глаз и глядит ему на ноги. Он молча идет дальше, все так же неся на руке свое платье и не показывая ни малейшего намерения его надеть, и наконец скрывается за деревьями, которые окружают лагерь.
– Никогда не доверяй рабу, моя девочка, – говорил ей отец. – Ты можешь обращаться с ним как с родным сыном, воспитаешь его в духе христианской любви и смирения и будешь думать, что он стал цивилизованным человеком, будешь верить, что он предан тебе, как собака, но рано или поздно он покажет тебе свои когти, и ты убедишься, что раб всего лишь зверь.
Она опустилась на валун, дрожа, и принялась кидать в воду камешки, а кинув, глядела, как они тонут. Господи, что с ней происходит? Сколько раз она видела обнаженных рабов и совершенно не замечала их наготы, они были для нее чем-то вроде животных в зверинце Компании. А он разве не раб? Самый обыкновенный раб, она до конца поняла это сегодня, когда увидела его исполосованную омерзительными шрамами спину. Но откуда же тогда эта слабость в ногах, эта дрожь? Почему она так ясно видит перед собой его обнаженное тело, его грудь, его бедра, ноги, живот? Почему она вообще обратила внимание, что он наг? Ведь он дикарь, она недаром назвала его так. Больше она уже не будет его бояться.
И все же, когда она наконец собралась с духом и пошла в лагерь, было уже почти темно. Сегодня ее страшит их лагерь, страшит костер, страшат его непримиримые надменные глаза.
У входа в лагерь ей бросается в глаза его одежда: изодранные в клочья штаны и рубаха висят на ограде из веток. На миг ее охватывает смятение, она хочет убежать. Но куда, куда она убежит? И зачем? Душу наполняет неведомая ей доселе странная покорность, да, она действительно в пустыне, и он, конечно же, дикарь, могла ли она ждать от него чего-то иного? За все то время, что они идут вместе, и в особенности за те дни, что они прожили у готтентотов, она было поверила, что он такой же человек, как и она. И именно эта его цивилизованность больше всего ее бесила. Но сейчас все стало ясно, их роли определились, осталось только их сыграть. Если он теперь попытается ее изнасиловать, она просто должна примириться с мыслью, что в ее положении эта опасность только естественна. Ее лишь удивляет и беспокоит, почему он до сих пор не применял против нее силу? Ему бы так было гораздо проще, да в конечном итоге и ей тоже, она бы хоть знала, что ей предстоит, и не противилась неизбежному. Насколько легче перенести надругательство над телом, если уж ей так суждено, чем эти нескончаемые сомнения, неуверенность, тревогу.
Сосредоточившись, внешне спокойная, она входит в ограду и заваливает ветками вход. Мельком взглядывает на него – да, он сидит у костра нагой, – подходит к своим неразвязанным вещам и демонстративно достает тетради. Открывает последнюю и принимается писать, перо дрожит, но она не в силах унять эту дрожь, она сама не могла бы сказать, какие слова выводит ее рука.
Но его молчание гнетет ее все сильнее, все острее раздражает, точно соринка, попавшая в глаз. Она поднимает глаза – он глядит на нее в упор. Судорожно вздохнув, она продолжает писать, нанизывая друг на друга мелькающие в голове слова, рисует запомнившийся ей силуэт амстердамских крыш, перечисляет случайно пришедшие на память названия растений и животных. Наконец в ней разгорается гнев: что за глупость, почему она так растерялась?
Она снова поднимает глаза и сухо приказывает:
– Если ужин готов, можешь принести.
– Ужин ждет вас.
– Ну так неси.
Она смотрит на него, нарочно не закрывая лежащей на коленях тетради, но он упрямо сидит. Если он сейчас не подчинится, значит, это бунт, открытая война, которая зреет в сгустившемся вокруг них молчании. Миг тянется бесконечно.
И вдруг он встает, так резко, что она вздрогнула, уходит и приносит ей еду: жаркое из кореньев с млечным соком, которые он вчера выкопал и, порезав на куски, всю ночь вымачивал, сейчас они пахнут мясом.
Он остается стоять перед ней, дерзко глядя ей прямо в глаза и вынуждая ее заговорить, ожидая от нее слов, требуя. Но она не сдается. Она не позволит властвовать над собой! Взяв у него тарелку, она отворачивается, чтобы не видеть так близко перед собой его наготу.
Он возвращается к костру. Она начинает есть, чувствуя, что он ни на миг не спускает с нее глаз. Все, хватит играть в молчание, решает она, молчание всего лишь увертка. Пусть ей придется вступить в открытую борьбу, но она ему докажет, что ее не так легко запугать.
– Забери тарелку, – приказывает она.
Он тотчас же встает, он повинуется, но весь его вид выражает оскорбительное презрение. Грозно, вызывающе стоит он перед ней.
– Почему ты не надел свое платье? – спрашивает она.
Именно этого вопроса он и ждал.
– Я же дикарь. А дикари одежды не носят.
– Ведешь себя как маленький ребенок!
– Но ведь дикари те же дети, не так ли?
Элизабет поднимается на ноги, не желая больше смотреть на него снизу вверх.
– Ты затеял глупую игру, Адам, меня она совсем не забавляет, – говорит она. – Если тебе хочется, можешь меня изнасиловать. Наверное, ты думаешь, что этим возьмешь надо мной верх? Что ж, пожалуйста, только ради всего святого действуй открыто, не прячься по углам, не сиди в засаде, дожидаясь темноты.
– С чего это вы вдруг решили, что я вас хочу? – язвительно бросает он ей в лицо – точно гадюка ужалила. – Хотел бы, так уж давно бы вас взял.
– Не уверена. – Ее голос срывается, но она берет себя в руки. – По-моему, ты меня боишься.
Он вдруг швыряет тарелку о камень, который лежит между ними, и она разлетается вдребезги. Она стоит, ожидая. Он не шевельнулся.
– Это вы боитесь, а не я, – говорит он.
– Да, – спокойно отвечает она, – я действительно боюсь. Но я хоть знаю, чего боюсь. Ты тоже боишься, а вот чего – не знаешь. С таким страхом жить еще труднее, что, разве нет? Поэтому-то ты меня и ненавидишь. Поэтому и стараешься все на мне выместить.
А на самом-то деле мы боимся этих пространств, которые все ближе и ближе подводят нас друг к другу, думает она. Словно вернулась та ночь, когда на них напали львы. Они стоят друг против друга, решая, что же им делать, каждый взвешивает, примеряет, прикидывает, сейчас важен самый незначительный жест, слово, от них зависит судьба. Они глядят друг на друга, и в глазах у них ненависть, боль, смятение, жажда. Мне страшно, и страшно тебе, ночь бесконечна. И это главное. Если я решусь протянуть к тебе руку, поймешь ты меня или нет?
Он первый отводит глаза, нехотя, может быть, даже смиренно, может быть, даже с печалью. Кажется, на этот раз победила она. Но такая победа не решает спора, не доказывает правоты, она никому не приносит радости и лишь еще больше все запутывает. И она чуть не с отчаянием спрашивает о том, чего знать не хотела:
– Почему у тебя такая спина?
– Белые господа отстегали плетьми. – Все так же стоя к ней спиной, он добавляет со сдержанной яростью – Ну и что? Эка невидаль – отстегали раба. Их каждый день стегают.
– И поэтому ты убежал?
– Поэтому или не поэтому, – какая вам разница?
– Очень большая. Ты раньше говорил, что ушел по своей воле.
– Никогда я вам такого не говорил. Вы сами так решили.
– А ты меня не разубеждал. Тебе хотелось, чтобы я так думала. Ты не хотел, чтоб я узнала правду: что ты убежал, потому что тебя высекли.
– Ну вот, теперь вы знаете правду. Вы наконец-то довольны? Считаете, что теперь взяли меня за горло?
– Я вовсе не хочу брать тебя за горло.
Он быстро к ней повернулся.
– Зачем же тогда все время выпытываете?
– За что тебя били плетьми, Адам?
– Я поднял руку на своего хозяина, – жестко говорит он.
– Не просто же так ты поднял на него руку, видно, были причины.
– Были, не были, – это никого не касается.
– И тут боишься? – с насмешкой спрашивает она. – Ты не постеснялся раздеться передо мной, чего же сейчас стыдишься?
– Стыжусь? Я? – Его начинает трясти от возмущения. – Это вам должно быть стыдно! Вы без конца пытаете меня расспросами. Чем это лучше плетей? До чего же вы, женщины, жестоки. Мужчины высекут тебя и уйдут, а вы принесете соль и посыплете раны.
– Если ты в самом деле считаешь, что я хочу тебя мучить, можешь мне ничего не рассказывать.
Опять стена, думает Элизабет. Каждый раз я на нее натыкаюсь. Она поворачивается и хочет идти прочь.
– Ладно, – говорит он глухо, – расскажу, если уж вы так хотите знать. Даже это признание вы у меня вырвали, можете гордиться.
Она оглядывается, протестующе взмахнув руками, но его словно прорвало.
– Ведь вы хотели знать правду, – сурово говорит он. – Так слушайте. Сударыня, в жизни каждого человека рано или поздно наступает такая минута, когда он должен сказать «нет», и потому я поднял руку на хозяина. Я был его старостой и должен был следить за всем его хозяйством и делами. Мне даже приходилось наказывать других рабов по его приказу. У него было больное сердце, сам он пороть людей не мог, очень уставал, поэтому только наблюдал, как наказывают. А я должен был сечь моих братьев – думаете, легко? Но ведь я был раб, разве я мог перечить хозяину? – Он умолкает на миг и с трудом переводит дыхание. – А потом умерла моя бабушка, она замерзла, потому что меня не пустили принести ей дров. Мать хотела пойти хоронить ее, но баас не разрешил, он велел ей в тот день подрезать виноградные лозы. И тогда мать ушла не сказавшись и похоронила старуху. А назавтра вернулась в усадьбу и как ни в чем не бывало принялась за работу. Подрезала лозы и пела.
Он глядит мимо нее в ночь.
– Что же было потом? – спрашивает она, потому что он не произносит ни слова.
– Хозяин велел отвести мать на задний двор и привязать к столбу. А мне дал плетку из гиппопотамовой кожи и велел ее сечь.
– Не может быть, ты опять меня морочишь!
– Увы, сударыня, на этот раз я говорю правду. – В его глазах горит такое презрение, что она невольно съеживается и все-таки прикованно глядит на него. – Я умолял бааса – он даже слушать меня не стал. Но я не отставал, и тогда он схватил полено – я как раз мастерил во дворе стол, и ему попалась в руки заготовка для ножки, – и стукнул меня по голове. Я вырвал у него ножку… и бил его, бил, пока он не упал на землю без чувств.
– И что же дальше?
– Ничего.
– Тебя наказали, и ты убежал?
– А что мне еще было делать? Вы думали, я ушел в пустыню, потому что мне здесь так нравится? Просто ничего другого не оставалось. И вот я научился жить в пустыне, я чую опасность, как зверь. Но ведь я не зверь. Я человек. И я хочу жить с людьми. Когда-нибудь я к ним вернусь и вернусь не как провинившаяся собака, которая ползет на брюхе, нет, я приду открыто, с гордо поднятой головой, ничего не стыдясь.
Она опускает голову.
– Разве это возможно? – спрашивает она.
– Да, возможно, но для этого я должен отвести вас обратно в Капстад. Не просто к морю, но в город, туда, где вы жили, домой. А вы им все объясните. Если вы скажете, что я спас вам жизнь и привел вас обратно, если потребуете, чтобы мне дали свободу, они согласятся. Вы можете купить мне свободу. Больше мне ее не от кого ждать. Я в ваших руках.
Она онемела и не может даже взглянуть на него.
– Теперь вы понимаете? – спрашивает он в новом приступе негодования. – Вам нечего бояться, я вас не изнасилую. Ведь причинив вам зло, я попросту убью себя.
– Стало быть, твоя свобода в обмен на мою безопасность, такую сделку ты мне предлагаешь? – в изумлении спрашивает она.
– Вы называете это сделкой?
– А ты как называешь?
– Да разве дело в названии? – говорит он устало. Видно, ему в первый раз за все время стало неловко своей наготы. Он быстро поворачивается к Элизабет своей обезображенной спиной и возвращается к костру. Подбрасывает в огонь дров, потом завертывается в свои шкуры и ложится в полутьме поодаль.


