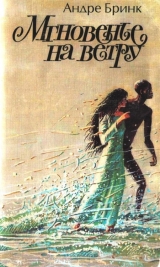
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Элизабет схватила Адама за раненую руку.
– Нужно прогнать грифов! Как их прогнать? – в волнении спрашивала она. – Скорее, нужно что-то делать!
– Все они давно умерли, – сказал он.
– А когда их оставили здесь, они еще были живы?
– Наверное.
– Но как же, Адам?..
– Почему ты так расстроилась? Ты знаешь их обычай, я тебе рассказывал.
– Ты говорил, что умирать оставляют только стариков.
– И детей, если они захиреют.
Она хотела сбежать в овражек и прогнать птиц, но Адам не пустил.
– Их слишком много. Они разорвут тебя на части.
– Но там дети, Адам!
– Они тоже мертвы. – Он потянул ее за руку. – Довольно, идем.
Неподалеку высился курган, посвященный богу-охотнику, на камнях лежали калебасы и бурдюки. Когда они приблизились, она увидела, что в них кислое молоко и мед – жертвенные приношения, они кишмя кишели муравьями.
На лице ее изобразился ужас.
– Ведь людей оставили так близко от кургана! – горячо заговорила она. – Почему они не съели молоко и мед? Они были бы сейчас живы!
– Еду оставили Хейтси-Эйбибу.
Элизабет прислонилась к каменной груде. Тонкая цепочка муравьев свернула в сторону, огибая ее руку, но постепенно насекомые осмелели и, сокращая путь к пролитому меду, поползли прямо по ней. Она встряхнула головой.
– Старики – ладно, это я еще могу понять, – сказала она. – Но дети! Они были совсем маленькие, ничего еще не знали, не понимали, не могли себя защитить.
Он ничего не ответил.
– Мы уже так давно вместе, – вдруг сказала она. – Почему у меня до сих пор нет ребенка? Как ты думаешь, я бесплодна?
– Когда мы ночевали у готтентотов, надо было тебе попросить у старух трав.
– Зачем мне травы? Я от тебя хочу детей, а не от трав.
– Травы могут помочь.
– Все во мне пусто, – сказала она. – Может быть, это от солнца, оно меня иссушило. – Она сползла по склону на землю и села на корточки, прислонившись к камням головой.
– Что было бы с нами, если бы ты родила ребенка в дороге? – спокойно спросил он.
Она долго молчала.
– Ты прав, – согласилась она наконец. – Но когда мы вернемся в Капстад…
– Что сделают с нашими детьми в Капстаде? – спросил он.
– Никто с ними ничего не посмеет сделать! – вспыхнула она.
– Но ты как-то рассказывала мне о своей подруге, – напомнил он.
– Это совсем другое дело. Отец ее ребенка был раб. А я, когда мы вернемся…
– Тяжкий крест ты берешься нести, – сказал он в волнении.
Она скрестила руки на груди.
– Знать бы наверное, что у меня может быть ребенок, дети… Но, боюсь, я бесплодна. – Она тихо покачивалась из стороны в сторону. – Все во мне мертво.
– Дай срок – оживешь.
– Мы так давно муж и жена… – Она глядела на него снизу вверх, сидя перед ним обнаженная. – Зачем ты хочешь от меня ребенка? Я так некрасива. Я стала уродливой.
– Я тебя люблю.
– Недавно ты сказал: «Взгляни на себя!..»
– Я не о том говорил.
– Не важно, я все равно права. Смотри же на меня. Смотри как следует. Мой вид внушает омерзение. Черная, как уголь, вся в морщинах, грязная, вонючая.
– А я? Разве я лучше? – Он сжал ее тонкие запястья своими большими худыми руками. Она посмотрела на страшную гноящуюся рану, которая распухла и горела, не поддаваясь целебным травам готтентотов.
– Мы прошли такой долгий путь, – сказал он. – Мы все еще вместе. И мы дойдем. Теперь-то уж у тебя нет сомнений.
– Разве можно быть в чем-то уверенной? – сказала она устало.
– Через пять дней будет ферма. Так нам сказали готтентоты.
– Ферма… Люди… – В ее глазах не было радости, один только страх. – Я не могу появиться у них в таком виде.
– Почему же?
– Нет, нет, ни за что. Придется… – Она лихорадочно развязала узел и достала из него грязное зеленое платье, которое несла с самого начала их пути.
– Не надевай, – попросил он.
– Ах, ты не понимаешь. Так нужно.
Она надела платье. Оно повисло на ней мятым бесформенным мешком. Как не вязались с этим платьем торчащие из рукавов худые, точно палки, руки, обугленное изможденное лицо, свалявшиеся волосы, грязные шкуры, в которые она завертывала ступни.
– Ну, как я тебе нравлюсь? – вдруг спросила она задорно и кокетливо, точно девушка, собравшаяся на бал.
Ему хотелось отвернуться, закрыть глаза, хотелось плакать. Но он не отвернулся и не заплакал, он хрипло прошептал:
– Нет женщины красивее тебя.
Она смотрела на него с улыбкой. Потом в глазах проступила мольба. Волнение ее угасло. Она потянула за ленту корсажа иссохшей коричневой рукой.
– На меня страшно смотреть, я ведь знаю, – прошептала она. – Почему не сказать мне правду?
– Идем, – поспешно сказал он. – Надо торопиться, и так уже поздно. Ты ведь не хочешь здесь ночевать?
– Здесь? – В ее голосе был ужас. – Идем скорее.
Он поднял свой узел, но тут же снова положил на землю. Взглянул на Элизабет и быстро отвел глаза. Потом протянул руку к одному из бурдюков с медом и начал стряхивать с него муравьев. Она смотрела, не произнося ни слова. Он достал с могильного холма второй бурдюк, потом и остальные приношения.
Ее вдруг начал душить смех.
– Ты грабишь могилу бога. А вдруг он станет тебя преследовать, ты не боишься?
– Не станет, это все выдумки моей матери.
– Каждый раз, как мы встречаем богомола, ты делаешь большущий крюк в сторону, – напомнила она.
– Не выдумывай.
– Нет, я много раз замечала.
Он поднял свой узел и бурдюки с медом.
– Идем, – угрюмо сказал он.
И они пошли дальше навстречу свирепому солнцу, которое било в глаза. Ни он, ни она не оглянулись на груду камней и на грифов. Каждый раз, подав последнюю милостыню, судьба снова посылает им подачку; каждый раз, сказав последнее нет, они все-таки преступают свою клятву.
Она старалась привыкнуть к платью, которое било ее на ходу по худым ногам, огрубевшие руки страшились прикоснуться к тонкой скользящей ткани.
Еще пять дней, думала она. Через пять дней – ферма и люди.
А потом была ферма. Легко вообразить, как они день за днем прикованно глядели на горизонт горящими глазами, ожидая, что вот-вот появятся признаки жилья, как вельд тянулся такой же мертвый, однообразный, как рано утром далеко, за первыми невысокими отрогами гор вдруг начали собираться белые облака, как, увидев их, они забыли об усталости и свирепом солнце, как наконец приблизились к небольшому стаду коз и овец, которое паслось в зарослях низкого иссохшего кустарника, у пригорка в тени крепко спал пастух, закрыв лицо шляпой, желтели выжженные поля, стоял забор, местами сложенный из камней, местами сплетенный из веток, и во дворе – вытянутый в длину приземистый домишко с трубой и двумя подслеповатыми оконцами справа и слева от двери, чахлые деревья, куры.
Залаяли собаки. Сидящий возле дома в тени мужчина поднялся со своего плетеного стула, сдвинул на затылок широкополую шляпу, обнажив никогда не загорающий лоб, и невозмутимо смотрел, как они подходят.
Элизабет остановилась в нескольких шагах от мужчины, Адам настороженно замер возле нее. Но фермер стоял так же неподвижно, на голове шляпа, в зубах трубка. На земле возле стула осталась недопитая чашка чая без блюдца. На рубашке не хватало нескольких пуговиц, в разрезе ворота темнела волосатая грудь. Длинный костистый нос, близко посаженные серые глаза, борода, узкий, точно щель, рот, влажные губы. Возраст угадать трудно – может быть, тридцать лет, может быть, пятьдесят.
– Добрый день, – произнесла наконец Элизабет, запинаясь; рука ее судорожно сжимала ленту на корсаже.
– Здравствуйте, – ответил фермер, разглядывая ее в упор. – Откуда путь держите?
– У меня сломался фургон за горами, – сказала она, и в голосе ее зазвучали прежние, властные нотки. Как ни жалок был сейчас ее вид, она стояла, высоко вскинув голову. – Волов угнали бушмены. Слуги-готтентоты нас бросили. И я вынуждена была возвращаться пешком.
– Через карру пешком не пройдешь, – возразил он.
– Пришлось. – Она вытерла со лба пот и откинула назад грязные волосы.
Фермер не шевельнулся.
– Несколько дней назад мы встретили караван готтентотов. Они рассказали нам о вашей ферме.
– А, эти ублюдки. Вознамерились здесь ночевать – какова наглость? Истоптали бы все в прах, выпили всю нашу воду. Ну, я их послал…
– И мы подумали, может быть, вы согласитесь… – Она умолкла, заметив, что он, сощурившись, глядит на Адама.
– А это… это мой…
– Ясно, – отрывисто бросил фермер. – Пусть идет на кухню.
– Постойте, я… – Она протестующе взмахнула рукой, но фермер не понял ее жеста и протянул ей руку для пожатия. Получилось смешно.
– Де Клерк, – представился он.
– Элизабет Ларсон.
– Ясно, – сказал он все так же неприветливо и жестко.
– Герр де Клерк, я…
– Ладно уж. Можете пока пожить у нас, а там решим, что делать. – Он обернулся и закричал: – Летти!
На пороге появилась босая женщина в вылинявшем синем платье без нижних юбок и кринолина, волосы гладко зачесаны за уши, лицо обветренное и загоревшее несмотря на шляпу, которую она, видно, никогда не снимала. Без возраста, как и он. Но вряд ли очень старая, потому что беременна, и даже на сносях.
– Эта женщина прошла через карру, – объявил он. – Зовут ее Ларсон. Моя жена. Позаботься о ней.
– Конечно. Входите в дом, прошу вас.
На пороге Элизабет остановилась.
– Человек, которого вы послали на кухню… Адам…
– Слуги за ним приглядят, – отрезал фермер, сел на стул и принялся набивать потухшую трубку.
Она хотела объяснить, но передумала: «А вдруг он нас прогонит, кто его знает. Право же, обоим нам будет лучше, если я не стану…»
– Входите же, – повторила женщина, – на солнце жарко.
Дверь вела прямо в спальню, там стояла широкая медная кровать, несколько сундуков, сколоченных из досок атласного дерева, у стены батарея ружей, на глиняном полу шкура зебры. Здесь, под тростниковой крышей с незашитыми потолочными балками, было прохладнее, чем на дворе, но душно, невыносимо душно.
– Издалека вы? – спросила женщина.
– Да. – Элизабет коротко повторила свою историю, опустив главное, – кто знает, как отнесется к такому сообщению жена фермера.
– У вас не во что переодеться?
Элизабет качнула головой и опустилась на краешек кровати. Кровать была покрыта одеялом из шакальих шкур.
– Нет, это мое единственное платье.
– Я дам вам свое.
– Спасибо. Я бы хотела попить.
– Сейчас. – И женщина громко закричала в другую дверь, которая вела внутрь дома: – Леа! Принеси воды!
Они сидели в неловком молчании и ждали, но вот в комнату вошла низенькая жилистая старуха рабыня и подала глиняный кувшин и кружку с отбитой ручкой.
Элизабет помедлила минуту, потом взяла кружку, наполнила и, поднеся к губам дрожащими руками, залпом выпила. Снова налила себе воды, потом еще раз и еще и наконец сказала:
– Благодарю вас. А нельзя мне… а не могла бы я помыться?
– Сейчас спрошу мужа.
Элизабет ждала, прижавшись головой к спинке кровати. Вот женщина вернулась со двора и снова закричала так же громко и пронзительно:
– Леа! Принеси корыто и воды для мытья.
Ответа она не стала ждать, подошла к сундуку в дальнем углу, опустилась на колени и принялась рыться в сложенных вещах, потом извлекла коричневое шелковое платье, мятое, но совершенно новое.
– Нет, нет, что вы, оно такое красивое, – запротестовала Элизабет. – Мне бы старенькое, у вас, наверно, есть.
– Зачем мне здесь такое платье? – спросила женщина и со стоном поднялась. – Я берегла его для крестин. А мы уже похоронили четверых детей. Вон под тем бугром.
– Но у вас скоро опять будет ребенок, платье и пригодится.
– Нет, не пригодится. – Беременная женщина покачала головой. – Уж больше недели, как он перестал шевелиться. – Она протянула руку к двери во двор. – Ему я не говорила, боюсь, но сама-то уже не сомневаюсь: ребенок родится мертвый.
– Погодите, может быть, еще все обойдется.
Женщина снова покачала головой: без сожаления, без печали, тупо.
– Я тоже потеряла ребенка во время путешествия, – сказала Элизабет в порыве сострадания. – И даже не знаю, где он похоронен.
– Здесь только бушмены могут жить, да готтентоты, да звери, – уныло говорила женщина. – Белым тут делать нечего. Но разве мужу что-нибудь докажешь. – Испуганно вздрогнув, она выглянула во двор.
Вошла рабыня, с трудом неся большое деревянное корыто с водой. Через плечо у нее было переброшено грязное полотенце, в кармане передника лежал кусок домашнего мыла.
– Ну вот, – сказала беременная фермерша, – мойтесь. А мне надо в кухню. С этих людей глаз нельзя спустить. Пошли, Леа.
Оставшись одна, Элизабет увидела, что в воде уже кто-то мылся. Она была мутная, у краев корыта собралась грязная пена. Ладно, пусть, все равно это – вода.
Она развязала корсаж. С минуту постояла в смущении, раздумывая, не закрыть ли прежде дверь. Потом решила, что тогда в спальне будет слишком темно… Вытянув из рукавов руки, она движением бедер сбросила платье вниз, на пол. Оттолкнув ногой это рубище, встала в корыто. Корыто было большое и глубокое. Она села в прохладную грязную воду, закрыла глаза и долго сидела не шевелясь, поставив локти на колени и опустив на руки голову. Вода… господи, вода!..
Наконец взяла мыло и принялась мыться. Несколько раз вымыла волосы, лицо, без конца намыливала и терла тело, пока от мыла не Остался крошечный обмылок и вода в лохани не подернулась темной пеной.
Потянувшись за полотенцем, она заметила на сундуке возле кровати круглое зеркальце. Оно треснуло наискосок, но все равно это было зеркало. Замирая от страха и волнения, Элизабет пробежала босиком к кровати, нагнулась и стала рассматривать себя. Темная пергаментная кожа, глубокие морщины. Синие глаза запали глубоко в глазницы. Маленький точеный нос. Рот слишком велик, губы запеклись, растрескались. Резко выступили скулы, – никогда она не думала, что они у нее такие широкие. Ключицы торчат, локти острые, костлявые руки с большими неуклюжими кистями. Иссохшая грудь, даже не грудь, а просто отвисшие складки с большими сосками в шершавых струпьях, ввалившийся живот, тазовые кости чуть не прорывают кожу. Спутанные волосы в паху, огромные коленные чашечки, узкие ступни… Я? Неужто это я? Но кто я, господи, ответь?
С ужасом, с щемящей жалостью к себе повернулась она взять полотенце. И в страхе застыла, почувствовав какое-то движение у двери. Наконец она подняла глаза – с мокрых волостей на плечи падали капли и ползли по спине, точно судорога – и увидела в дверях мужчину, хозяина фермы, де Клерка, который стоял все в той же своей шляпе и с трубкой в зубах.
Он, не шевелясь, разглядывал ее в упор, и даже когда она его заметила, он не отвел взгляда: в его прищуренных глазах горел сумасшедший огонь, зубы так крепко закусили трубку, что побелели желваки на скулах.
С минуту Элизабет молча глядела на него, приоткрыв рот, не в силах крикнуть или произнести хоть слово. Потом в смятении присела и прикрыла грудь руками.
Он тотчас же повернулся, и освещенный желтым предвечерним светом дверной проем опустел.
Она взяла полотенце и стала вытираться. Ее переполняло отвращение, она казалась себе старой и опустошенной.
Надев новое шелковое платье и расчесав волосы, она наконец вышла в соседнюю комнату, где фермер сидел за столом против своей жены. Элизабет ничего не сказала, только поглядела на него в упор, слегка раздув ноздри. Солнце садилось. Молоденькая рабыня зажигала лампы. Возле очага на полу сидели сгрудившись рабы – семь-восемь взрослых, дети, и среди рабов – Адам. Она встретилась с ним на миг взглядом и чуть не заплакала. Потом села за стол.
Жилистая старуха рабыня вынесла из спальни корыто, вышла с ним во двор и вылила воду в лохань для свиней, – Элизабет наблюдала за ней через открытую дверь кухни, – потом вернулась, плеснула в корыто из бочки, что стояла у очага, поднесла к столу и, опустившись на колени, стала мыть ноги фермеру, вытерла их, на коленях подползла к беременной хозяйке…
– Ужинать, – приказал хозяин.
В середине выскобленного добела стола без скатерти стояла миска с тушеным мясом. Хозяин обмакнул в соус ломоть хлеба и поднес ко рту. За ним жена, потом Элизабет. Никто не разговаривал. И даже когда миска Опустела и рабыня, бесшумно ступая босыми ногами, убрала со стола и подала чай и молоко в кувшине, они пили его в молчании.
– Теперь читать, – сказал наконец фермер.
Кто-то из детей достал из ящика огромную Библию в кожаном переплете и положил на стол перед хозяином. Тот долго листал ее, видно, ища место, где он остановился вчера, наконец нашел.
В углу за очагом кудахтала наседка, возился на своей соломенной подстилке ягненок. Наконец стало тихо в комнате.
Хозяин принялся читать, весь сморщившись от напряжения и то и дело запинаясь и сбиваясь, его заскорузлый палец медленно, точно навозный жук, полз по словам.
«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки.
Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя».
Он умолк и поднял голову. Под его взглядом Элизабет потупилась. Слегка смешавшись, он снова обратился к Библии и начал искать стих, которым кончил; рот его был приоткрыт, в углах губ собралась слюна. Наконец он нашел и стал читать дальше, медленно, по складам:
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, – и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: „Смотри, вот это новое“, но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».
Тяжко вздохнув, закрыл толстую книгу и застегнул медные застежки.
– Теперь молиться.
Жена фермера и Элизабет преклонили колени на земляном полу и, положив локти на жесткие скамейки, стали слушать, как он молится. Вдали где-то заворчало, будто прокатился раскат грома. Гром? Нет, невозможно, откуда взяться грому?
Адам сидел на полу среди рабов и слуг и неотрывно смотрел на нее. Наверное, она чувствовала его взгляд, потому что ни разу не разомкнула век. Прижатые к щекам руки дрожали. Впрочем, может быть, так только казалось в свете лампы.
…Вот она стоит на коленях в той же комнате, где Находишься ты, при свете той же лампы, женщина, принадлежащая тебе. Она возвращается домой. Смерть подошла ко мне вплотную. Я люблю тебя, но в этот миг я полон ненависти. Зачем я вывел тебя из страны грифов? Чтобы ты упрятала свое тело в шелковое платье, сшитое в Капстаде, снова встала на колени и закрыла глаза? Я-то знаю, как ты крепка и вынослива, как ты жестока и прекрасна. Я позволил тебе называть меня именем, которое произносила только моя мать. Что будет, если я вдруг встану, положу ей руку на плечо и громко скажу: «Оставьте ее. Она моя!»
Казалось, молитва никогда не кончится. Снова прокатился глухой гул, точно за горизонтом бежало огромное стадо газелей. Потом гул смолк. Хозяева встали, с шумом подвинули по неровному полу скамейки. На столе не мигая горела медная лампа.
– Ваш раб может спать в кухне вместе со всеми, – сказал хозяин. На Элизабет он не смотрел.
– Я… – она снова запнулась, с усилием глотнула, но ничего больше не сказала.
Огромная тень фермера падала на оштукатуренную стену и даже на потолок, зловещая и уродливая. Элизабет бессильно склонила голову. Во время молитвы она чуть не уснула. Безмерная усталость проникла в каждую клеточку ее тела.
– Вы ляжете с нами, – грубо приказал он.
– Я буду спать на полу.
– Кровать большая, места хватит. – Он посмотрел на жену. – Отведешь ее в спальню, – распорядился он и вышел – наверное, осмотреть загоны, двор и помочиться.
– Идемте, – позвала хозяйка. Она зажгла свечу от огня лампы и направилась в спальню.
– Право же, я…
– Он так велел.
В дверях Элизабет оглянулась. Возле очага копошились темные тела. Она не различила, где среди рабов – Адам.
Беременная хозяйка опустилась на кровать, вздохнула тяжело, как раньше, и принялась расстегивать платье, сняла его, вынула шпильки из волос; тень на стене повторяла все ее движения. В рубашке она вдруг показалась Элизабет совсем молодой и почему-то беззащитной. Женщина легла под одеяло и отодвинулась к краю кровати.
Элизабет по-прежнему стояла, взявшись за ленты на корсаже нового платья, но не развязывала их.
– Ну что же вы? – сказала женщина.
Элизабет повернула голову к крошечному оконцу. На дворе была непроглядная темень. В затхлую духоту спальни тянуло оттуда свежестью, прохладой. Послышались тяжелые шаги.
– Раздевайся, – раздался голос у нее за спиной.
Она обернулась. Хозяин стоял у порога, широко расставив ноги и, подбоченившись, смотрел на нее.
И вдруг двинулся к ней. Земляной пол еще не просох после ее купанья и был в темных пятнах от воды, которую она расплескала.
– Чего ты дожидаешься? – сказал он.
– О господи, Ганс! – ахнула жена, не вставая с кровати.
– А ты молчи! – рявкнул он на нее.
Женщина с привычным вздохом отвернулась к стене.
– Ну? – сказал он. – Будешь ты наконец раздеваться? – Он протянул руку и схватил Элизабет за ворот.
– Что вы делаете? – в растерянности залепетала она, пытаясь его урезонить. – Я обратилась к вам за помощью, я…
Он рванул платье, послышался треск материи.
– Не смейте! – закричала она в бессильном гневе. – Будь я мужчиной, вы оказали бы мне гостеприимство. Приютили бы у себя, позволили выспаться, отдохнуть. А я всего лишь женщина, и вы…
– Снимай платье! – заорал он.
Она вырвалась из его рук и метнулась к кухне, но он одним прыжком опередил ее и со злобным смехом загородил дверь.
– Адам! – крикнула она.
Хозяин растерялся. Сзади раздался легкий шум, хозяин быстро обернулся и приказал:
– Убирайся отсюда!
– Не смейте его трогать, – сказала Элизабет, стараясь унять дрожь в голосе. – Это мой муж.
– Врешь!
– Господи, Ганс! – простонала женщина, приподнимаясь на локтях в углу своей широкой кровати.
– Это мой муж, – повторила Элизабет. – Мы вместе прошли весь путь с самого начала.
– Оставьте ее, – сказал Адам.
Де Клерк молча глядел на него, разинув рот. Элизабет подумала, что в жизни не забудет его лица – такое на нем застыло недоумение и тупая злоба. Слишком уж он был ошарашен ее признанием, не мог его сразу переварить.
Элизабет стояла не дыша. Если хозяин кинется сейчас на Адама, да еще кликнет на подмогу слуг, – все пропало, их убьют. Их жизнь висит на волоске, и вокруг ночь без конца и без края.
Снова прогрохотало вдали.
– Как это я не догадался! – наконец прорвало хозяина. – Разве порядочная женщина пришла бы сюда в таком виде? Шлюха, грязная шлюха. Мы здесь с таким отребьем не знаемся. Мы добрые христиане!
– Я только попросила у вас пристанища, – напомнила ему Элизабет.
– Забирай своего черного жеребца и убирайся! – крикнул он.
– Ганс, Ганс, ведь сейчас ночь, – умоляла его жена. Она сбросила одеяло и спустила с кровати ноги.
– Молчи, не твое дело! – приказал он.
– Она потеряла ребенка, – сказала женщина.
– Как же нам добираться дальше? – возмутилась Элизабет.
– Так же, как сюда добрались. Пешочком. А то садись на него верхом да скачи!
– Мой отец заведует складами Компании в Капстаде! – Она надменно вскинула голову.
– Плевал я на Компанию! Плевал на ваш Капстад! Здесь я хозяин!
– Я пожалуюсь на вас, когда вернусь домой, вы живо узнаете, кто здесь настоящий хозяин!
– Ганс, дай ты им лошадь! – просила женщина. – Это же такой пустяк. Ты только посмотри на эту бедняжку!
– Эта бедняжка – потаскуха! Путается с черными ублюдками!
Он не успел договорить – Адам схватил его за ворот. Де Клерк растерялся, его поразил не гнев Адама, а то, что он посмел на него накинуться. Ему бы отшвырнуть Адама, а он вдруг побелел как полотно и начал в страхе умолять:
– Не убивай меня! Пожалей жену, она на сносях.
– Дайте коня.
– Дам, дам, – скулил он. – Все берите, Летти соберет вам в дорогу еды, только отпусти меня.
Адам старался унять бурное дыхание и успокоиться. Он с такой силой оттолкнул хозяина, что тот упал на пол. И пока поднимался, Адам схватил одно из ружей, что стояли у стены.
– Ведите к коню.
– Ружье не заряжено, – сказал де Клерк не без злорадства.
– Конь где?
Фермер с ненавистью посмотрел Адаму в глаза, потом повернулся к Элизабет. Она отвела взгляд.
– Пойду сложу им еды, – поспешно проговорила фермерша.
Когда они выезжали в темноте со двора, за спиной у них громыхнул выстрел. Залились истошным лаем собаки, сердито заспорили голоса, потом все смолкло. Адам натянул поводья, сдерживая коня, и пустил его ровным шагом. Зачем животному на первых же порах выбиваться из сил, им предстоит еще долгий путь.
Все произошло так быстро, что оба они очень долго не могли опомниться и ехали молча. Это был конец. Нет, переход. Начало.
В лицо бил влажный ветер. Казалось, прошла вечность.
– Спасибо, хоть в минуту опасности ты не отреклась от меня, – произнес Адам еле слышно, и она не узнала его голоса в темноте.
Она вся сжалась, хотела ответить, но горло перехватило. И она лишь затрясла головой и уткнулась ему в грудь.
– Да, вот где наконец настиг нас Капстад, – сказал он после долгого молчания с едкой горечью, и ей показалось, будто ее ожгло кнутом.
– Не надо, Адам, зачем ты так. – Она боролась со слезами. – Я ведь сказала им, что ты мой муж.
Он не ответил. Он сидел на лошади у нее за спиной, точно каменный.
– Пойми, я же скрыла ради тебя, – горячо убеждала она. – Неужто ты не понимаешь? Я боялась за тебя – вдруг бы он тебя обидел. Я не могла допустить, чтобы он тебя унизил или оскорбил.
– Да, и он всего лишь отослал меня на кухню.
– Я скрыла, чтобы спасти нам жизнь. Мы вынуждены были зайти к ним, надо было передохнуть и поесть, иначе что бы с нами теперь было? Ведь мы же с ног падали, ты сам отлично знаешь.
– Ты была готова заплатить цену, которую он назначил.
– Я была готова погибнуть, защищая тебя.
Он ничего не ответил.
Она прижалась к нему и, перестав противиться слезам, заплакала в таком безудержном отчаянии, что он был поражен.
– Господи, господи! – молилась она сквозь рыдания, обретя наконец способность говорить. – Спаси нас, огради от несчастья, господи… Помоги мне, Адам, я больше не могу, я не вынесу!
Обезумев от горя, она даже не заметила, что он остановил коня, снял ее на землю и, намотав поводья на руку, с нежностью и страхом прижал ее к себе.
– Что же это? – прошептал он наконец. – Что с нами будет, если мы станем предавать друг друга?
Она поняла, что и он плачет, его худое израненное тело сотрясают беззвучные рыдания.
– Адам, – с мольбой прошептала она. – Адам… Аоб, любимый…
Обнявшись, они просидели на земле до рассвета. А день все не брезжил, потому что небо затянули тучи.
– Мы никогда больше не допустим такого ужаса, – сказала она, пряча голову у него на груди. – Никогда! Мы будем беречь друг друга, иначе нам не выжить. Мы слишком слабы, слишком ничтожны. И если погибнем, ничего от нас не останется – будто нас никогда на свете не было.
– Идем, – сказал он наконец. – Пора в путь.
Ведь они еще не дошли до конца. Впереди горы, и надо их одолеть. И потом опять идти дальше. Капстад приближался, но до него еще было далеко.
Они взобрались на старого одра с провалившейся спиной, которого им дал скряга фермер, и снова поехали. Горы медленно поднимались перед ними все выше, выше. Но они не чувствовали ни радости, ни хотя бы облегчения. Они просто продвигались вперед, ничего не видя и не слыша, немые, опустошенные, оставив позади иллюзии, в печали, которой не найти утоления.
В воздухе сгущалась влага. Они уже чувствовали ее запах. Собирался дождь.
Идет дождь. Впрочем, теперь им не кажется, что произошло чудо. Месяц, даже неделю назад дождь был бы для них спасением, но сейчас карру позади, они поднимаются по горам и им не угрожает смерть от жажды, но все равно дождь – благо. Они радуются ему как дети.
Ни ему, ни ей не приходит в голову, что надо бы найти укрытие. Горы встают гряда за грядой, все круче и выше. Но видно, что здесь проходил не один караван, на земле колеи колес, следы копыт, Элизабет и Адам идут торной дорогой, которая то вьется по горам, то спускается в ущелья. Адам ведет коня на поводу, но они с Элизабет то и дело останавливаются и, подставив лицо дождю, с наслаждением его пьют. По телу текут струи, длинное платье намокло и облепило ее сверху донизу, оно мешает идти, зато какое блаженство ощущать всей кожей прохладное прикосновение мокрой ткани.
Оставив коня пастись, они как дети бегают наперегонки под дождем, ловят друг друга, увертываются, падают, поскользнувшись, на землю, в заросли протеи и вереска, и лежат, задыхаясь от смеха, а дождь льет и льет на них, напитывая тело влагой.
Наконец они устали от игры. Он развязывает свой узел, с трудом распутав жесткие намокшие ремни, и вынимает клубень, который вырыл из земли еще в предгорьях. Поскоблив его ножом, он дает ей горсть мелких стружек и показывает, как размылить их в пену. Она освобождается от липнущего к телу платья и сбрасывает его на землю. Дождь льется на них непрерывным потоком, а они намыливают друг друга, трут, смывают пену, невинно радуются чистоте. Гладкие и скользкие, блестящие, как вышедшие из воды выдры, они ложатся на траву и обнимают друг друга под дождем и чувствуют, что растворились в этой глине и в воде, в этой ничейной земле, что лежит между мертвым плоскогорьем и плодородными долинами Капстада, между будущим и прошлым. Здесь они принадлежат сами себе, над ними не довлеет чужая воля, в этой своей игре, в плавном колыхании тел они чувствуют себя сродни земным стихиям. И когда наконец они замирают в изнеможении с бешено колотящимися сердцами, они так и остаются лежать на земле, тела их переплелись, точно корни, и льющаяся с неба вода смывает следы глины и былинки.
Уткнувшись лицом во впадинку возле ее ключицы, он говорит, смеясь освобожденно:
– Ты пахнешь землей и водой. Господи, как ты красива, как желанна.
– Умереть бы сейчас, – говорит она. – Мне казалось, я умираю, и в то же время так остро чувствовала, что живу.
Долгое время спустя он наконец отодвигается, и ее тело невольно тянется за ним в попытке удержать, от неожиданного ощущения утраты и пустоты она чуть не плачет. Поджав колени, она свертывается клубочком, как ежик, стараясь сохранить тепло, которое он подарил ей, волосы ее разметались по траве, спина в глине.
– Скоро темнеть начнет, – говорит он ей, помогая подняться.
Оба ошеломлены: куда же девался день? Уже сумерки. Придется здесь ночевать. Но негде укрыться, под проливным дождем не разглядеть пещеры, а деревья и кусты сейчас не защитят. Они устраиваются в крошечной нише в склоне горы и прячутся от дождя за крупом коня. Но их все равно заливает, и к тому же заметно похолодало. В сумерках видно, что возле носа коня вьется белое облачко. Всю ночь они стараются согреть друг друга, завернувшись в тяжелую кароссу. Нигде нет сухой щепки, чтобы развести костер, нет крупицы тепла, которая бы их согрела. Теперь они раскаиваются в своем сумасбродстве и удивляются, чему так бурно радовались днем? Мгновенье, которое было так совершенно и прекрасно, мгновенье счастья и высшей полноты бытия, когда она кричала и билась в его объятиях, – это мгновенье отдалилось от них, отодвинулось, утратило достоверность. Восторг казался беспредельным, вечным, – и вот потускнел, исчез.


