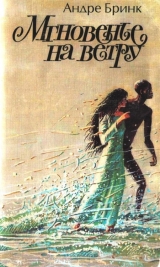
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Они идут со странным ощущением, что движутся не по поверхности земли, а проникают в самую глубь гор. Все круче поднимаются склоны по сторонам долины и наконец встают отвесно, это уже не долина, а узкое, точно колодец, ущелье, пробитое в доисторические времена мощным потоком; по стенам ущелья груды скал карабкаются вверх, цепляясь друг за друга; застывают в беспорядочном нагромождении, сорвавшись; нависают над головой, почти касаясь друг друга и образуя внизу тоннель. Здесь прохладнее, и чувствуется влажность; ржаво-желтые лишайники на камнях сменяются зелеными, потом лишайники исчезают и появляется изумрудный мох. В русле реки то и дело блестят озерца холодной, кристально чистой воды.
Сначала они безоглядно радуются воде и блаженной прохладе. Но скоро начинают ощущать невнятную угрозу, – это извивающееся среди гор ущелье излучает холод, оно сурово и враждебно, ему неведома пощада. Горы, где они зимовали, были для них мирным приютом, надежным убежищем, этот же исполинский хребет – неумолимый враг. В синей щели неба над головой они иногда видят крошечных, не больше точки, орлов и грифов: людям в этом краю нет места.
И все-таки она несокрушимо верит:
– Вот одолеем горы, и станет легче. Там будет совсем хорошо, поэтому мы сейчас и должны страдать.
– Ты все время думаешь, что худшее позади, – напоминает он ей. – И каждый раз, как мы порадуемся, становится еще хуже.
– Ну нет, сейчас я твердо уверена. – Она больно ссадила руку о выступ скалы и стала высасывать кровь из ранки. – Когда-нибудь мы приведем сюда наших детей и покажем им это ущелье.
– Тогда нам надо постараться родить обезьян, – смеется он.
– Ничего, мы проложим и замостим широкую дорогу и приедем сюда в фургоне.
– Может, стоит крылья отрастить? На крыльях мы бы гораздо быстрее прилетели.
– Ты забыл, что сказано в Библии? «Если будете иметь веру и не усомнитесь и скажете горе сей „Поднимись и ввергнись в море“ – будет».
– Может, сейчас попробуем? Пусть все, сколько их есть, ввергаются в море и заодно нас довезут до Капстада.
Она смеется, потом вздыхает.
– Насколько было бы легче жить, если бы мы действительно верили, правда? В бога или в дьявола – какая разница. Тогда можно было бы сказать: «Эту гору поставил у нас на пути дьявол». Или: «Это господь решил нас покарать и послал в наказание гору». Как ты думаешь, – спрашивает она с неожиданной страстностью, – нас в самом деле за что-то наказывают?
– Может быть, за то, что мы бежали из Капстада?
– Но ведь мы возвращаемся. И возвращение искупает вину, правда?
– Что-то не похоже, чтобы нас простили.
– Нет, с верой человеку легче, – вздыхает она. – Смириться бы со своей судьбой, сказать: «Так было господу угодно», или «Так определил нам дьявол» – и все… Да свершится воля твоя. – Она качает головой и умолкает на минуту, потом снова глядит на него. – Но мы должны нести свой крест сами, нам не от кого ждать помощи.
Их странная уединенность среди гор точно вынуждает их говорить о том, от чего на равнине можно было спрятаться.
– Почему же ты все-таки хочешь вернуться? – спрашивает он.
– Ты знаешь не хуже меня. Потому что там лучше, чем здесь.
– Ты никак не хочешь смириться с мыслью, что рея не существует.
– Зачем мне рай, я просто хочу туда, где нам будет лучше. Иначе я бы ни за что…
– Ну вот, видишь! – Он коротко смеется. – Ты все еще изо всех сил стараешься изменить мир, тебе кажется, что где-то может быть лучше.
– Конечно. Потому что я – человек.
– А может, потому что ты – белая?
– Как тебе не стыдно, Адам, это несправедливо! – Она порывисто протягивает руку к его руке. – Смотри, разве я светлее тебя?
– По-твоему, все сводится к цвету кожи?
Она медленно встает.
– Ты… ты начал сомневаться? Ты думаешь, мы зря возвращаемся?
– А у тебя разве не бывает сомнений?
– Но мы же решили…
– Конечно. – Он кладет руки ей на плечи и легонько сжимает. – Знаешь, я часто просыпаюсь по ночам и начинаю думать о Капстаде и больше уже не могу заснуть.
– Потому что боишься?
– Потому что не знаю, что нас ждет.
– Ты оставишь меня? – спрашивает она спокойно.
– Да разве я могу тебя оставить? Разве может человек оставить самого себя? Нет уж, мы вместе добьемся избавления. Или вместе отправимся в ад. Но все свершится само собой: теперь мы в своей судьбе не властны.
– Я хочу всегда быть с тобой, – говорит она.
– Правда?
Она стискивает ему руки, трясет его, стараясь убедить насильно.
– Почему ты мне не веришь?
– Я тебе верю. Но мы еще не в Капстаде. Мы здесь, в горах.
Она смотрит вверх, на скалы. Над головой кружит орел. Потом исчезает, не оставив на небе следа, точно его никогда там не было. Она приникает к Адаму в слепом, исступленном порыве и прижимается своей маленькой грудью к его груди, его ладони нежно скользят по ее бедрам к спине, туда, где начинаются выпуклости ягодиц. Ее губы приоткрываются, она издает слабый стон.
– Адам… – шепчет она.
– Зачем ты называешь меня Адамом?
– Это твое имя.
– Мое имя – Аоб.
– Для меня ты Адам. Под этим именем я тебя узнала. Если я стану называть тебя Аоб, это будешь уже не ты, а кто-то другой – чужой, незнакомый.
– Но ведь это мое настоящее имя.
– Когда ты со мной, во мне, в какой-то миг я вдруг могу сказать тебе «Аоб». Но обычно ты для меня Адам.
– Адамом меня нарек Капстад.
Лицо ее вспыхивает, глаза ярко загораются, и, улыбаясь робкой улыбкой, она подносит влажный палец к его лбу, чуть выше переносицы.
– Ныне я крещу тебя во второй раз, – говорит она, – и даю тебе имя Адам. Теперь этим именем нарекла тебя я.
Ущелье все глубже вгрызается в черную гору, обнажая ее недра в рельефных узорах папоротников и скал, и наконец упирается в стену, с которой низвергается водопад – прозрачная, как кисея, белая струя летит вниз, разбиваясь по пути о скалы и взметая в воздух тончайшую водяную пыль.
Выбраться из этого тупика можно, лишь поднявшись вверх по скользким скалам, которые смыкаются за водопадом.
…Чего я хочу? Хочу чего-то прочного в этом неверном мире, незыблемого в зыбком мире перемен, разве это так много? Я свято верю твоей лжи. Мы наги, смерть подстерегает нас на каждом шагу, с любого камня мы можем соскользнуть и разбиться. Ложь легка и безопасна: притвориться, что любишь, утешить ненадолго и жить себе дальше без горя и страданий. Заключить сделку: я обязуюсь сделать для тебя то-то, ты для меня – то-то… Капстад в обмен на свободу… однако при этом… и вот Адам Мантоор, столяр-краснодеревец, освобожденный раб, предлагает в Капстаде свои услуги, качество гарантируется… правители – временщики судьбы, они приходят и уходят, но я пребуду – я, ремесленник из Капстада, свободный, всеми уважаемый гражданин колонии, вот моя вольная с печатью губернатора: «Я, Гендрик Свелленгребель, объявляю… в год… от рождества Христова…» И этой иллюзии довольно, чтобы ты вернулся в Капстад? Полно, да можно ли обманываться такой ложью! Я люблю тебя, возьми мою жизнь, я как святыню оберегаю твою… вот моя рука, возьми ее и прыгнем в бездну – будь что будет… Мы разобьемся, но погибнем вместе.
Дюйм за дюймом вверх по гладкой мокрой стене. Спешить нельзя. Лицом к лицу со скалой они замечают в ней трещины, выступы и углубления, которых не разглядишь издали. Вот щель, куда можно просунуть пальцы… крошечный бугорок, на нем можно утвердить ногу. А теперь подтянем ремнями узлы. Только держись как можно крепче… Водопад обдает их брызгами, они вздрагивают от неожиданного холода. Там, наверху, кружит орел – увидел нас и хочет кинуться? Обычно люди представляют смерть чем-то далеким, отвлеченным. А здесь она рядом, простая и неопровержимо реальная: вот этот скользкий камень, корень, ломающийся в руке, орел, который ждет наверху, водяная пыль в глаза – все это смерть. Ее близость даже вселяет спокойствие: она так несомненна и безусловна, так надежна, так непоколебимо верна.

Они ползут наискосок по гладкой поверхности скалы, пробираясь от трещины к трещине, от уступа к уступу. Крепче держись. Если ты сорвешься, я упаду вместе с тобой. Даже здесь, на высоте, есть жизнь: мелькают крошечные ящерки, птица высиживает в гнезде крапчатые яйца, она не обращает на нас никакого внимания…
– Сумеешь сюда встать?
– Да. Только дай мне руку.
– Держись. Опля!
– Спасибо.
Слова сыплются в пропасть, точно камешки.
Она долго лежит на гребне скалы, вся дрожа и ликуя. Потом лезет за ним дальше по узкой и чуть более пологой стене расщелины к вершине. Вот уже осталось совсем немного, и вдруг за скалами раздается шум. И они в ужасе застывают. Лишь когда наверху послышалось тявканье и понеслось по ущелью, эхом отскакивая от скал, Адам вздыхает с облегчением:
– Обезьяны.
На тревожный клич вожака животные сбегаются со всех сторон, садятся на гребень скалы и наблюдают за поднимающимися путниками. Но вот они наконец успокоились и снова разбредаются в поисках пищи, выворачивают из земли небольшие камни, под которыми лежат личинки и прячутся скорпионы, рвут с кустов стручки семян и ягоды, собирают гусениц, вылавливают у своих детенышей и друг у друга вшей и блох.
В первый раз за все время, что они идут через горы, у них становится легко на душе, тяжести и угнетенности как не бывало, они чуть ли не радуются обществу обезьян.
– Главное – подняться наверх, ведь спускаться не в пример легче, – говорит Элизабет.
Но они не успевают добраться до вершины, ночь застигает их в пути, приходится искать приюта среди нависших скал, под примостившимися наверху обезьянами.
Едва они принялись за свой ужин – остатки меда, заяц, которого он подстрелил из лука, две маленькие рыбки из реки, что течет внизу, – как над ними разражается адский концерт: душераздирающий крик, вопли ужаса, отчаянное тявканье, летят камни, ударяясь о скалы, брызжут искры, грохочет эхо ударов. Они в страхе вскакивают. Мимо них, не разбирая дороги, несутся врассыпную обезьяны, матери изо всех сил прижимают к себе замаранных детенышей.
Они не сразу соображают, что же произошло. Один из молодых самцов бежит прямо на них и, чуть не налетев, останавливается, рычит, оскалив свои огромные клыки, потом поворачивается, чтобы бежать прочь, и в этот самый миг из-за выступа мелькает пятнистая тень и кидается на обезьяну. Они так близко, что видят смертный страх в глазах самца, когда он издает бессильный жалкий крик, но леопард уже подмял его и покатился по земле в облаке пыли. Громко хрустнули кости, будто кто-то сломал сук. Рот самца раскрыт, из перекушенной вены на шее хлещет кровь. Миг – и леопард снова скачет вверх по склону, волоча за собой труп, а обезьяны с воплями и верещаньем швыряют в убийцу град камней.
Адам заметил камни вовремя. Он толкает Элизабет за выступ, где они устроились на ночлег, и не позволяет ей оттуда выглядывать, пока не стихает шум. С грохотом летят последние камни, и наконец настает тишина – точно и не раздавалось в горах ни единого звука со дня сотворения мира.
Они выходят из своего убежища, но уже стемнело и почти ничего не видно. Леопард, наверное, перемахнул через ближайшие зубцы скал или залег в кустарнике. Обезьяньей стаи нет и следа, на земле остался лишь желтый кал да лужа крови в том месте, где леопард загрыз самца.
– Он был так близко, – потрясенно шепчет она, глядя на кровь. – Поднимись мы чуть выше, и он убил бы кого-нибудь из нас.
– Он давно убежал, – успокаивает ее Адам, но она догадывается по его голосу, что и он испуган.
– Как страшно он кричал! Совсем как человек.
– Смерть была очень быстрая, – говорит он коротко и берет ее за руку. – Идем, уже совсем темно.
– Как ты думаешь, леопард вернется?
– Нет. Но все равно нам лучше укрыться.
Он ведет ее в их убежище.
– Ты так и не поела, – говорит он.
Она качает головой.
– Нет, нет, я не могу есть. Потом.
– Пожалуйста, – уговаривает он. – Ты должна подкрепиться. День у нас завтра трудный.
– Завтра обезьяны опять придут на склон кормиться, – говорит она, глядя в сгущающуюся темноту. – Как ты думаешь, они еще будут помнить тот ужас, что сейчас разыгрался? Или они все сразу забывают?
Он пожимает плечами.
Немного погодя она говорит, слегка успокоившись:
– Знаешь, может быть, так даже лучше – сразу. Миг ужаса и боли, и все, конец. Гораздо хуже, чем состариться, как та старуха готтентотка, и умирать медленной смертью в дикобразьей норе.
– Старуху, которая спасла меня после укуса змеи, – говорит он задумчиво, – соплеменники тоже бросили умирать. Но я ее спас. Я прожил возле нее несколько месяцев, мы двигались очень медленно, чтобы она не уставала. И все-таки она умерла, умерла в двух днях пути от новой стоянки ее племени. – Он умолкает надолго, потом говорит все так же отрешенно: – Я заботился о ней, делал все, чего не мог сделать Для своей бабушки. А она все равно умерла. Непостижимо! Я был в таком горе и гневе, никак не мог смириться. И даже похоронив ее, я еще долго думал о ней, надеясь, что хоть своей памятью удержу ее среди живых. Но все оказалось тщетно.
– Она умерла, но ты жив, – с жаром говорит Элизабет. – Мы с тобой живы. И будем жить.
– Как ты думаешь, мы будем вместе и доживем до старости в Капстаде? А потом наступит день…
– Во всяком случае, никто не похоронит нас заживо в дикобразьей норе.
– Разве для человека нет несчастья страшнее? – спрашивает он.
– Такой конец страшнее, чем смерть обезьяны.
– Но ведь мы с тобой не обезьяны.
– Ты точно жалеешь об этом, – пытается пошутить она.
– Может быть, и вправду жалею.
Совсем стемнело. Они ложатся рядом под меховыми кароссами.
– Завтра будем на вершине, – сонно говорит она.
Но оказывается, что до вершины еще далеко. Добравшись до верха стены, который они считали пиком, они видят перед собой еще один склон, выше прежнего, за ним другой, третий в бесконечной гряде гор. И все-таки они упорно лезут вверх. Они уже не говорят легко и бодро, что вот завтра, когда они будут по ту сторону… Они просто идут вперед и вперед, неуклонно и сосредоточенно. И наконец спускаются в ущелье, где столетья назад тоже, наверное, текла река, и движутся теперь по его извилинам. Стены ущелья раздвигаются, опускаются все ниже, ниже, и вот однажды перед вечером они огибают последний поворот и видят ярдах в ста внизу бескрайнюю равнину.
Они в молчании глядят на нее, вбирая в себя глазами спекшуюся мертвую землю, маленькие смерчи белой пыли, которые ветер несет по равнине и вдруг швыряет в белесое небо, прижавшиеся к земле серые кустики, камни, красноватые холмы, похожие на гигантских окаменевших ящериц, огромные голые пространства, мглу, затянувшую горизонт.
Они не смотрят друг на друга, не произносят ни слова. Широко открытыми глазами глядят они перед собой.
Повернуться и уйти нельзя. Обратно пути нет. Надо идти вперед…
– Я выхожу замуж за Эрика Алексиса Ларсона, – объявила она за ужином.
– Ни за что! – вскричала мать. – Это безумие, неслыханное безумие!
– Пусть безумие, я все равно с ним еду.
– Ты отец, Маркус, запрети ей, – приказала Катарина мужу. – Что скажут наши друзья? Женщина отправилась в пустыню!
– А почему бы женщине не отправиться в пустыню? – возмутилась Элизабет. – Почему ей на все наложен запрет? Разве быть женщиной зазорно?
– Я вышла замуж за человека, который лишен честолюбия, – с безмерной горечью сказала мать. – Похоронила двоих детей, двух сыновей, – ах, будь они живы, все сложилось бы совсем по-другому. Пережила в этой стране столько горя, столько лишений… Но ты, Элизабет, ты выросла в приличной семье, ты так избалована жизнью, все тобой восхищаются, берут с тебя пример.
– Можно подумать, я собралась не в обыкновенное путешествие по пустыне, а в преисподнюю…
Какое счастье дарят руки, как они прекрасны, когда возвращаются из путешествия по стране любви. Элизабет сидит, привалившись спиной к каменистому склону бугра, где они отдыхают в послеполуденной тени, и рассматривает руку Адама, положив ее себе на колени. Ведет мизинцем по линиям ладони – как жалко, что она не умеет гадать по руке. Кстати, что ей там предсказывала цыганка в Амстердаме? Сколько здесь линий, одна из них линия жизни, другая – линия любви, третья – линия судьбы, которая же обрывается так резко? Она с безысходной любовью прижимает его ладонь к губам, готовая заплакать. Любовь и страдание, вот что ей предстоит отныне. На это путешествие нас обрекла судьба, и каждый из нас огромен, как пустыня, в каждом – бесконечность, непостижимость. Мелкие подробности для тех, кому довольно фактов и улик…
На шкурах в ожидании осмотра разложено содержимое их узлов:
– 2 кароссы;
– 2 фартука;
– 2 бурдюка;
– 3 полых страусиных яйца;
– 1 охотничий нож;
– 1 пистолет и немного пороха;
– 6 стрел в колчане;
– 1 ассагай;
– 2 посоха;
– 1 помятый котел;
– 1 трутница;
– небольшая коллекция морских раковин, некоторые из них разбиты;
– 3 мешочка целебных трав;
– 1 мешочек меда;
– запас клубней, луковиц, корневищ и съедобных листьев;
– 1 платье, сшитое в Капстаде.
– Разве здесь можно выжить?
– Одному – нет. Но вдвоем…
Мы должны, должны выжить в этой стране, которая ничего не скрывает, – красной, бурой и белой вблизи, изжелта-серой издали, с синеватыми холмами на горизонте. Гранитные глыбы, юркие суслики, похожие на высохший сучок богомолы, черепахи. В небе неизменные грифы, мохнатые пауки среди чахлых низкорослых агав и алоэ, смерчи, чистые белые кости. Невыносимый зной и лютый холод. Через час после восхода солнце выжигает глаза, точно раскалившийся добела уголь, ручьями льет пот, промывая борозды в слое пыли, который покрывает кожу, на землю невозможно ступить, от нее пышет жаром, во рту пересохло, язык распух. Но стоит солнцу зайти, и сразу становится так холодно, что нужно надевать кароссы, и все равно зуб на зуб не попадает.
…Старый бушмен нашел его на высохшем, растрескавшемся дне иссякшей речки, где он умирал от жажды, и, став на колени возле подземного источника, принялся высасывать из-под пыли воду пополам с глиной и выливать ему в рот. Вода, жизнь… А потом бушмен исчез, растворился в дрожащем мареве, в руках лук, колчан со стрелами за спиной. Чудо – из камней и высохшей земли появилась вода, но Адама поразило другое: эту воду дал ему бушмен, презренный кочевник, внушающий ужас враг с луком и стрелами. И когда потом старуха спасла ему жизнь, разве он мог ее бросить, разве мог не позаботиться о ней, не отвести обратно к людям ее племени?
Под запекшейся коркой на дне пересохшего озера драгоценная соль, они собирают ее в мешочек, теперь будет, чем солить мясо, он показывает ей темные сужающиеся кольца, которые оставила вода.
– Но здесь никакой воды нет, – возражает она. – Глина даже не влажная.
– А вот увидишь.
Он, улыбаясь, берет ассагай и начинает рыть. Полфута, фут, два фута, а земля все такая же сухая и твердая, точно камень… но вот он докопал до более мягкого, рыхлого слоя, и скоро комья становятся влажными. После целого дня неустанных трудов он достает из глубины колодца черепаху-самку с полным брюшком яиц, она опустилась в глубину, надеясь дождаться там сезона дождей. Ну вот, теперь у них есть еда на завтра, может быть, даже удастся растянуть ее и на послезавтра.
Элизабет глядит на Адама: он стоит на коленях и счищает с панциря мясо; прямо против него опускается солнце, истекая кровью, точно растерзанный грифами труп. У Адама такой вид, будто он молится.
Мы выживем, мы непременно выживем. Все одолеем и вернемся домой. Именно это начертано на твоей руке. Никогда нельзя терять надежду.
В предрассветной темноте они вдруг начинают ощущать, что происходит что-то необычное. Сначала они ничего не слышат, просто чувствуют, что земля едва заметно дрожит, будто от глубинных толчков. Адам садится, потом снова ложится и прижимает ухо к земле. Он делает ей знак рукой, и она тоже начинает слушать. К дрожи постепенно присоединяется гул, пока еще такой слабый, что слуху его не уловить, отзываются на него лишь голова и кости.
– Что это? – спрашивает она.
Адам качает головой. Кажется, он догадался, но уверенности пока нет. На равнине светает. Вдали по-прежнему раскатывается глухой гул.
Когда поднимается солнце, они уже ясно видят на горизонте огромное облако, оно лениво, нехотя ползет с юга и наконец застилает полнеба.
– Дым? – спрашивает она. – Но что же может гореть на этих равнинах?
– Нет, это пыль, – говорит он.
Он снова прикладывает ухо к земле и слушает так долго, что она начала волноваться.
– Что же это все-таки такое? – допытывается она.
– Скорее, – говорит он с неожиданной энергией и вскакивает. – Помоги мне. – Он начинает связывать узлы, его пальцы никак не могут справиться с ремнями.
– Адам, что случилось? – требовательно спрашивает она.
– Газели перекочевывают на другое пастбище.
– Но как же…
– Времени в обрез. Нужно забраться вон на тот бугор.
Завтракать некогда. Они отправляются в путь и идут к узкой каменистой гряде в полумиле от того места, где ночевали под своими кароссами.
Рыжее облако на горизонте неуклонно поднимается; если все время на него глядеть, движения не заметно, но каждый раз, как они оглядываются, они видят, что облако еще больше разбухло, стало еще темнее и гуще. Теперь уже грохот явственно различим, правда, он все еще ровный и глухой, точно гул подземного обвала.
Они поспешно забираются по каменистому склону на самый верх, там Адам кидает на землю свой узел и начинает складывать из валунов стену, массивную, но небольшую, ярда в два-три длиной и высотой до пояса, и все равно эта работа не из легких, потому что солнце уже палит вовсю и от земли пышет жаром, как от огромной печи. Валуны большие, почти все неподъемно тяжелые, им приходится спускаться чуть не до самого низа в поисках камня поменьше.
Немного погодя под движущимся облаком из края в край сгущается буро-коричневая масса, она катится по саванне, точно лавина мутной воды, медленно, плавно и неотвратимо.
– Неужели это все газели? – в изумлении спрашивает Элизабет.
Он ничего не отвечает, занятый тяжелым камнем, который катит наверх, останавливается на минуту лишь для того, чтобы стряхнуть со лба пот или смочить языком ссадину на ладони.
Да, это действительно газели, теперь она тоже их видит, – гигантское стадо газелей-антидорок, темным нескончаемым потоком медленно затапливающее саванну.
Адам собирает дрова и, по-прежнему ничего ей не объясняя, складывает возле стены, которую возвел, сухие ветки и сучья, куски коры.
И вдруг огромное стадо уже рядом. Животные движутся так размеренно, что издали кажется, будто они сонно и лениво трусят, но вот только что стадо было еще бог знает как далеко, а через минуту каменную стену захлестнул кипящий водоворот из бежевых с шоколадными подпалинами и белой грудкой тел, они мчатся вперед, сметая все, что встречается им на пути. Прямо перед стеной поток раздваивается, обтекает их убежище и тут же снова сливается в сплошную массу. И все окутывает пыль, мелкая рыжая пыль, она забивается в глаза, в нос, в рот, покрывает волосы и даже ресницы, залепляет самые поры.
Сначала Адам и Элизабет сидят, прижавшись друг к другу под защитой своей стены. Но время идет, а поток рыжих тел все не иссякает, и наконец они, осмелев, встают. До бегущих газелей можно дотронуться рукой – они все равно не заметят, их влажные черные глаза невидяще устремлены вперед, и все они словно в глубочайшем трансе. Теперь, когда это столпотворение уже рядом, в его громе можно различить отдельные звуки – цоканье острых копыт по твердой земле, грохот камней, катящихся с пригорка, фырканье и тонкий пронзительный свист. И неуемной дрожью дрожит земля у них под ногами, точно огромную саванну знобит от солнечного удара.
– Куда же они идут? – спрашивает Элизабет в изумлении.
– Они всегда так переходят на другое пастбище. – Адам глядит на поток, бурлящий вокруг них: ему не видно ни конца ни края. – Может быть, ветер принес запах дождя, и они его учуяли.
Она все смотрит и смотрит на животных, как зачарованная, а он тем временем развязывает узел и достает пистолет. Тщательно выбрав молодого самца, он подпускает его на расстояние ярда, целится, чуть не касаясь дулом его головы, и спускает курок. Животное бьется в агонии, а его собратья даже не пытаются обойти умирающего. Адам, не медля ни минуты, хватает и подтаскивает к себе тушу, иначе ее тут же растоптали бы копытами.
– Разделаешь? – спрашивает он ее после того, как снял с антидорки шкуру.
– А ты?
Он показывает ей на пистолет и снова заряжает.
– Зачем? Нам вполне хватит одной! – возражает она. – В такую жару мясо испортится.
– Возьмем желудочный сок, – коротко говорит он.
Он точно и хладнокровно убивает еще несколько газелей, потом откладывает пистолет в сторону и начинает поражать животных ассагаем. За оградой лежит уже добрый десяток туш, а живая река все течет и течет.
Элизабет помогает Адаму развести костер. Но бегущие мимо их убежища газели не шарахаются от огня, они попросту его не замечают.
– Если б не стена, они пошли бы прямо на пламя, – объясняет он, наконец разговорившись. – Видел я, как они переправляются через реки. Те, что идут впереди, остановятся на берегу, а задние напирают и сталкивают, сталкивают их в воду, запрудят реку трупами и потом бегут, точно по мосту.
Медленно катятся нескончаемые волны землетрясения, а они жарят на костре мясо и едят. Все это невероятно, абсурдно, Элизабет отказывается верить тому, что происходит. Адам продолжает свежевать туши антидорок и собирает сок из их желудков.
Элизабет зажимает нос, чтобы не слышать теплого тошнотворного запаха.
– Потом спасибо скажешь, – говорит он ей и улыбается.
– Неужели мы не найдем воду?
– Разве газели стали бы переходить с места на место, если бы в той стороне была вода?
– Как, значит…?
Он кивает и продолжает сосредоточенно трудиться.
– Стало быть, впереди и в самом деле будет еще хуже?
– Да. И не только из-за воды. Страшнее другое – они всю саванну размолотили в пыль. Теперь нам не найти в земле никаких клубней и корневищ. Теперь эта страна – пустыня.
Она поднимается во весь рост под стоящим в зените солнцем и смотрит на юг, туда, где на краю движущейся саванны высятся горы. И он знает, о чем она думает: это те самые горы, через которые они пришли сюда.

Весь день мимо них лавиной течет стадо. Их убежище – крошечный островок среди кишащей телами, роящейся долины, где все покрыто рыжей пылью. Адам оставил себе только первого самца, которого он убил, а она разделала, и тщетно старается уберечь мясо от солнца у каменной стены под кароссой. Остальные туши он швыряет в живую лавину, и копыта антидорок втаптывают их в землю. Наконец наступают сумерки. Земля по-прежнему содрогается. Они сидят возле своего маленького костра, прислонившись к стене, и слушают грохот несущейся мимо них ночи. В густой пыли не видно звезд. И лишь перед самым рассветом поток начинает редеть. Газели внезапно нахлынули и так же внезапно исчезли. Гром откатывается все дальше, стихает до глухого, однообразного гула… но вот и гул мало-помалу замер, лишь земля все еще продолжает дрожать. Потом унялась и эта дрожь.
Восходит солнце. Они встают; в глазах у них туман, все тело в пыли, голова раскалывается. Мир вокруг них огромен и пуст, еще более пуст, чем прежде. Над неохватным вельдом висит неподвижное облако пыли; ни ветерка, ни дуновенья в воздухе. Все очертания рельефа стерты, кажется, что даже сами холмы втоптаны в землю. Исчезли без следа низкорослые кустики, кучи хвороста, груды камней, все ровно и однообразно до самого горизонта, везде только пыль и пыль.
– Ну что ж, идем? – спрашивает он.
Она не отвечает, даже не кивает ему головой.
– Я все время верила, что дальше будет лучше, – говорит она наконец. – Потому и держалась. Изо дня в день я твердила себе: завтра, завтра…
– А сейчас? – сурово спрашивает он.
– Здесь нельзя оставаться, – говорит она.
– Попробуем вернуться? – Он протягивает руку в сторону горной цепи на юге.
– Разве мы сможем снова перебраться на ту сторону?
Он пожимает плечами.
– Тогда идем вперед, – говорит она.
– Даже зная, что впереди будет еще хуже?
Она кивает, стиснув зубы, и поднимает с земли свой узел. И вот они вступают в эту огромную пустоту, ошеломленные, раздавленные. В небе кружат грифы.
Через несколько миль, когда солнце уже палит без пощады и жалости, они видят в пыли чьи-то растоптанные, окровавленные останки, их расклевывают грифы. Обломок черепа, зубы, клочья шерсти – теперь и не догадаешься, что это был за зверь.
– Лев, – говорит Адам с уважением. – Попался им на пути, бедняга.
– Как, лев? – Она умолкает, слова здесь бессмысленны.
Вот это и есть история, о которой мы говорили, ты помнишь? А ты не хотела мне верить. Ты все еще думала, что историю творит Капстад за всю страну. Теперь ты хоть немного поняла? Поняла, что жизнь продолжается и здесь, в пустыне? Теперь тебе внятны страдания малых сих, внятен бунт терпеливых и кротких?
Ты стоишь возле меня так тихо. В нескольких шагах – грифы. Вокруг нас – никого, ничего. Пыль на тебе спеклась коркой, волосы слиплись в колтун, обугленное лицо в потеках пота, возле губ пролегли страдальческие складки, в воспаленных глазах страх, грудь с почерневшими на солнце сосками обвисла. Человек, обратившийся в прах. И никогда еще я не любил тебя так сильно, как сейчас.
Развалины – лишь еле различимый бугорок на голом склоне среди выжженного, вытоптанного вельда, но они притягивают их к себе как магнит. После трех заброшенных жилищ по другую сторону гор это первые следы человека в пустыне, и привели сюда Адама и Элизабет грифы.
Дом сложен из камней, скрепленных глиной, передняя стена рухнула, балки и стропила крыши сорвал ветер, низкая каменная ограда вокруг двора местами обвалилась, но все еще стоит. Наверное, эта ограда и защитила двор от газелей, им пришлось ее обогнуть. Над домом кружат грифы, двое уже уселись на разоренной крыше, остальные расположились на развалинах забора. Но людей нет. На крыльце лежит разлагающийся труп газели, он-то и приманил стервятников, труп газели и собака.
Сначала кажется, что собака тоже мертва, но вот она приподнимает голову – непомерно большую на тощем туловище с выпирающими ребрами и тонкими как палки ногами, и слабо тявкает на птиц, которые подошли к ней слишком близко. Грифы отлетают и невозмутимо возвращаются к темному, сужающемуся полукольцу терпеливо ждущих товарищей.
Наверное, собака охраняет труп газели с тех самых пор, как здесь прошло стадо, понемножку ест мясо, лижет засохшую кровь. Когда Адам и Элизабет подходят к дому, собака, шатаясь, поднимается на ноги и оскаливает зубы; вокруг ее ввалившихся глаз и пасти роятся мухи. Она пытается отогнать людей сиплым бессильным лаем, потом начинает тихо скулить, повиливая хвостом. Адам подходит к псу, гладит его исхудавшую голову. Наверное, хозяева ушли, а собаку оставили здесь, но сколько времени она живет одна? И почему она не пошла с людьми? Почему хозяева не увезли с собой мебель, теперь она рассохлась, развалилась, и лежит грудой досок и щепок на глиняном полу. Наверное, дом пустует уже давно. Впрочем, кто знает, солнце и ветер разрушают здесь быстро и без всякой пощады.


