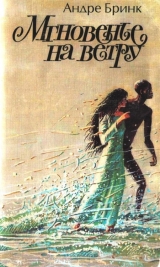
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
– Ты отец, Маркус, запрети ей, – приказала Катарина. – Что скажут наши друзья? Женщина отправилась в пустыню!
– А почему бы женщине не отправиться в пустыню? – возмутилась Элизабет. – Почему ей на все наложен запрет? Разве быть женщиной зазорно? Ты говоришь так, будто родиться женщиной – преступление. Мужчине можно отправиться в путешествие, почему же мне нельзя?
– Если ты с ним пойдешь, ты всех нас опозоришь! В моей семье…
– Когда ты обвенчалась со мной и решила уехать в Капстад, твоя семья тоже хотела от тебя отречься, – спокойно напомнил ей Маркус. – Ты была точно такая, как Элизабет, ты забыла? Своенравная, неугомонная.
– И чем все кончилось? – с горьким упреком спросила мать. – Я вышла замуж за человека, который лишен честолюбия. Похоронила двоих детей, двух сыновей, – ах, будь они живы, все сложилось бы совсем по-другому. Пережила в этой стране столько горя, столько лишений. Но тебя ничем не проймешь. Сколько раз ты мог перевестись в Батавию или в родные края, – нет, куда там: Маркус Лоув здесь родился, здесь и умрет. Чего же требовать от Элизабет? Но на этот раз ты проявишь твердость и удержишь ее от этого сумасбродства.
– Когда твоя мать бежала из Франции, разве кто-нибудь в силах был ее удержать? – сказал он. Отец редко давал волю гневу, но сейчас тонкая сетка прожилок, покрывающих его щеки, налилась кровью.
– Разве можно сравнивать, – возразила Катарина. – У моей матери не было выбора, гугенотов преследовали. Но ведь Элизабет отсюда никто не гонит. Ей-то зачем бежать к дикарям?
– А у меня разве есть выбор? спросила Элизабет. Умереть или сойти с ума – ни то, ни другое меня не привлекает.
– Не смей мне дерзить! – резко оборвала ее мать. – Умереть или сойти с ума! А что тебя ждет в пустыне, среди диких животных и дикарей? – И она снова сбилась на жалобное сетование. – Пусть туда отправляются мужчины, если они так жаждут приключений. А Ларсона я тоже не понимаю: это молодым все неймется, все их куда-то тянет, а ему, в его-то возрасте, уж давно бы пора угомониться и набраться ума… Бог с ними, но ты, Элизабет, ты выросла в приличной семье, ты так избалована жизнью, и потом, все тобой восхищаются, берут с тебя пример…
– Можно подумать, я собралась не в обыкновенное путешествие по пустыне, а в преисподнюю. Маменька, да не могу я здесь больше, поймите!
– У тебя столько занятий, развлечений.
– О да! Я не пропускаю ни одного бала, ни одного званого вечера, ни одного пикника. Все это помогает убить время, но сколько же еще я буду так жить? Пока не поймаю себе приличного жениха и не обзаведусь приличным домом?
– Не забывайся, Элизабет! Что же ты молчишь, Маркус?
– Мой отец восстал против губернатора, – сказал он, разглядывая свой стакан.
– И покрыл себя вечным позором!
Отец резко поставил стакан на стол.
– А я покрыл себя вечным позором, вернувшись на службу в компанию, против которой он восстал. Я соблазнился теплым местечком, которое обеспечило моей семье безбедное существование.
– Ты тоже задумал отправиться в путешествие? – язвительно спросила Катарина.
– Нет, для путешествий я слишком стар. Но она, если хочет, пусть едет. Если, конечно, любит этого человека. – И он с болью заглянул дочери в глаза.
Элизабет опустила голову. Она долго молчала, потом поглядела на отца.
– Я решилась, отец. Я выйду за него замуж и поеду с ним вместе.
– Неблагодарная! – закричала мать. – Но уж коли так суждено, мы устроим тебе такую свадьбу, что в Капстаде и через сто лет будут ее помнить. Только придется ждать, когда вернутся корабли.
– Долго ли вы намереваетесь путешествовать? – спросил отец ее вечером, когда они остались в гостиной вдвоем и сели за шахматный столик, возле которого он поставил свой стакан с араком.
– Хотим как можно дольше, – ответила она. – А там как получится. Он сейчас намечает маршрут, но нигде не может раздобыть надежной карты, а люди говорят один – одно, другой – другое. На днях ему рекомендовали некоего герра Ролоффа из Мюизенберга…
– Ну что же, дай бог. – Отец отпил глоток арака и вздохнул. – А ты не ошиблась, доченька, у тебя нет сомнений? Ты в самом деле так сильно его любишь?
– Папа, куда он пойдет, туда и я с ним пойду.
…А дальше она пойдет одна. Она решила это не разумом, она нутром почувствовала, что так суждено, когда услышала выстрел и увидела Адама, поднимавшегося к ней по склону через заросли. Все, теперь все пути к отступлению отрезаны, возврата нет.
– Что вы делаете? – спрашивает он, бросив антилопу на землю и опускаясь возле туши на корточки, чтобы ее разделать. Она сидит в фургоне и лихорадочно перекладывает вещи.
– Раз мы завтра снимаемся с места и идем к морю, нужно все разобрать и уложить.
Он прищурясь наблюдает за ней. Она продолжает возбужденно трудиться – пожалуй, слишком возбужденно.
Так, один сундук с платьем можно оставить целиком. А может быть, Адаму что-нибудь пригодится? Но она решает не предлагать ему вещи Эрика Алексиса – вдруг он согласится, а ей не хочется открывать этот сундук. Во втором сундуке сложены ее вещи. В их долгом путешествии она всегда переодевалась по два-три раза в день, ведь стояла такая жара и пыль. Стирать было кому, слуг-готтентотов хватало, а когда они сбежали, она стала стирать сама. Если перед путешествием ей пришлось отбирать свои вещи так строго и тщательно, потому что было очень мало места, что же ей делать сейчас, когда у них осталась всего одна пара волов?
Освежевав антилопу и присолив разрезанное на куски мясо, Адам подходит к фургону и принимается наблюдать за ней. Ему-то легко, думает она, у него сердце ни к чему не прикипело. Он уйдет завтра отсюда и ни разу больше не вспомнит этот лагерь.
– Что это такое?
– Его дневники.
Он с недоуменным видом листает тяжелые тетради в кожаных переплетах и отбрасывает в сторону.
– Нет, это мы берем с собой, – извиняющимся тоном говорит она. – Я должна отвезти их обратно в Капстад.
Он презрительно усмехнулся. Под его молчаливым, вызывающим взглядом ей становится неуютно. Избавиться бы от него, отослать с каким-нибудь делом, но ведь он не пойдет, она знает. Такое впечатление, что теперь здесь распоряжается он – спокойный властный хозяин. Она сердито продолжает разбирать вещи, не глядя в его сторону.
Итак, дневники они берут с собой. Тут она одержала маленькую победу. Но для бесчисленных птичьих чучел, для засушенных цветов – названных условно, чтобы потом отослать их в Швецию, – места нет. Даже оружие приходится отбирать очень придирчиво: с собой они возьмут лишь два кремневых ружья и пистолет и небольшой мешочек пороха и пуль. Одну бутыль спирта на случай болезни и нужды, если придется просить по дороге помощи и завязывать дружбу, небольшой жгут табака, одеяла. Чай, сахар и муку, соль, остатки шоколада. Все остальное – роскошь, даже тончайшие, ручной вышивки простыни из ее приданого, даже щипцы для волос, даже утюг и одеколон. Можно взять ведро, чайник, сковородку, две ложки и вилки, – и то наберется слишком большой багаж.
А теперь надо все пересмотреть еще раз, приказывает он, сейчас еще что-нибудь отложим. И постепенно в ней разгорается страсть к разрушению, – все выкинуть, со всем расстаться, очиститься, избавиться от всего лишнего! Ведь человеку по сути так мало нужно. Пришел же он сюда без всего, у него было лишь платье, которое он украл у ее мужа.
Она с ненужной тщательностью убирает отвергнутые вещи в ящики и сундуки, стоящие в фургоне, старательно их запирает и укрывает на случай грозы, но полотняные стены фургона уже порвались, и кто защитит их добро от диких зверей, от грабителей?
Теперь ей уже хочется освободиться от всего, что ее здесь держало, не оставить ни нитки. Идти навстречу судьбе, которая ее ждет, не отягощенной ничем: пусть будет что будет, она примет все – и радость, и горе.
Но потом, когда Адам отошел, она снова открывает сундуки и перебирает вещи, откладывая в узел с самым необходимым вату и иголки, мыло, одеколон, свое темно-зеленое платье – его она наденет в конце путешествия, домой надо вернуться в приличном виде.
Адам решил нагрузить их багаж на пегого вола, он привязывает животное к дереву и вставляет в зубы удила с уздой, которые смастерил из короткой палки и кожаных ремней, а рано утром, когда небо над горами стало светлеть, он кидает на спину волу две большие шкуры и принимается укладывать на них вещи. Элизабет помогает ему завернуть поклажу – еще что-то пришлось вынуть и оставить, – и он все увязывает. Потом так туго затягивает ремни у вола под брюхом, что они врезаются ему в кожу.
– А ему не больно?
– Это же вол.
Они завтракают в последний раз.
Потом Адам гасит костер и засыпает угли песком, точно это кому-то нужно.
– Справитесь? – спрашивает он, подводя к ней второго вола, чтобы она села верхом.
– Конечно. – Она смотрит ему прямо в глаза.
– А вдруг с вами что случится?
– Не свалюсь, не беспокойся.
Он берет в руки вожжи и тянет за собой навьюченного поклажей вола, она сжимает пятками бока животного. Они выходят через проем в обветшалой ограде.
Оглянуться бы… но она не может, ее охватывает такое волнение, что она вынуждена стиснуть зубы.
Его нет. Он не умер, он просто исчез. Его поглотила земля, которую он хотел изучить и сделать своей. Теперь я от него освободилась. Но есть еще ребенок. И ради ребенка я должна вернуться в Капстад.
Вол тяжело переваливается на ходу, неуклюжее животное, не то что лошадь. Но, наверное, к нему можно привыкнуть. Ко всему ведь привыкаешь. А может быть, нет? Может быть, что-то в нас продолжает противиться до конца? Скоро ты начнешь во мне шевелиться. Ничего не поделаешь, придется и нам привыкать друг к другу, – ты привыкнешь ко мне, я к тебе, и оба мы привыкнем к волу, который нас везет, к земле, по которой мы едем…
Спустились по склону, стали опять подниматься на холм.
– А ты не собьешься с пути?
– Нет.
– Сколько нам придется идти до моря?
– Долго.
Он на минуту останавливается и глядит назад. Теперь оглянулась и она. Прямо напротив них среди диких смоковниц сереет небольшое пятно – крыша фургона. Над головой вьются птицы. Она видит, как они порхают в ветвях. Интересно, кто это – нектарницы, ткачики, канарейки, вьюрки? Она не знает названий, и вдруг ей становится досадно, что она никогда раньше ими не интересовалась.
Она устраивается на своем воле поудобнее, и они снова трогаются в путь, и лагерь, который они оставили позади, с каждым шагом уменьшается, отдаляется. Теперь ей кажется, что это ее последний и единственный приют в мире, и сердце ее не может с ним расстаться. Нам столько всего приходится оставлять, думает она, и главное – мы оставляем надежду. Впереди, сколько хватает глаз, лишь очертания волнистых холмов и скалистых кряжей, которые встают все выше и выше друг над другом.
Адам оглядывается, смотрит на нее. Ему хочется заговорить с ней. Хочется столько сказать, о стольком спросить. Проникнуть в ее молчание, прорваться, приблизиться к ней. Но когда наконец он собирается с духом, он решается только попросить ее:
– Расскажите мне еще что-нибудь о Капстаде.
…Капстад – единственный город во всей колонии, и свое название он получил по праву[7]7
«Капстад» по-голландски означает «Город, расположенный на мысе».
[Закрыть], хотя нередко Капстадом называют все поселение без всяких к тому оснований. Город этот амфитеатром спускается к морю, с юга, запада и северо-востока он окаймлен горами: Столовой, Львиной и Чертовым Пиком, с юга и юго-востока его омывает Столовая бухта. Согласно последним измерениям, берег этой бухты находится на высоте 550 туазов над уровнем моря, протяженность мыса с запада на восток составляет 1344 туаза, середина его находится юго-восточнее города на расстоянии 2000 туазов. Горы, окружающие город, по большей части лишены растительности, а склон Столовой горы, обращенный к городу, поднимается к тому же очень круто. Кое-где горы покрыты густыми зарослями деревьев (если их можно назвать деревьями) и кустов низкорослых пород, которым к тому же не дают возможности расти юго-восточные и северо-западные ветры. Поэтому вид у них чахлый, заморенный, листья мелкие и пожухшие, и вообще они производят самое жалкое впечатление. Там, где растительность защищена от ветра выступами склонов и где ее питают горные ручьи, она выглядит не столь худосочной, но все равно ей далеко до пышных темно-зеленых мирт, лавров, дубов, виноградных лоз и лимонных деревьев, которые сажают внизу – в городе и его окрестностях. Дальше вдоль прибрежной полосы лежат унылые, однообразные вересковые пустоши и песчаные плоскогорья. Однако должно заметить, что весной в низинах и по склонам гор расцветает множество цветов редчайшей красоты, и после непролазных колючих зарослей и пустынь, которые окружают город, плантации, разведенные на плодородной земле за чертой города, и возделываемые поля поистине поражают великолепием и яркостью зелени. Но самое большое удовольствие любителю природы доставит путешествие из города по направлению к Констанции, мимо Чертова Пика; легче вообразить себе, чем описать, то восхищение, которое он почувствует, встретив в столь уединенном уголке земли россыпи не виданных им доселе цветов, чрезвычайно любопытных и красивых: разнообразные иксии, гладиолусы, морей, гиацинты, цифии, мелантии, монсонии, альбука, кислица, аспарагусы, герани, арктопусы, календулы, вашендорфии, арктотисы, различные виды вереска, покрывающие поля, а также кустарники и карликовые деревца, относящиеся к семейству протеи. Сверху открывается превосходный вид на город. На берегу стоит дворец губернатора, окруженный высокими стенами и глубоким рвом. По одну сторону дворца расположены плантации и сады, принадлежащие Компании, по другую – фонтаны, которые питаются водой из горной речки, сбегающей по ущелью в склоне Столовой горы, это ущелье хорошо видно из города. Из этих фонтанов берут воду все жители города, отсюда же ее ежедневно возят в бочках на двухколесной тележке для полива плантаций. Плантации занимают площадь шириной в 200 туазов и длиной в 500 туазов, они засажены капустой и другими овощами, которые подаются к столу губернатора, ими же питаются голландские моряки и пациенты больницы. Разводят в городе также и фруктовые деревья, но для защиты от свирепых юго-восточных ветров вокруг них сажают мирты и вязы. Кроме того, в городе есть парк, где растут дубы высотой до тридцати футов, в приятной прохладе под их сенью любят прогуливаться в жаркие часы дня заезжие иностранцы. С восточной стороны к парку примыкает зверинец, где можно увидеть за железной и деревянной оградой страусов, обезьян, зебр, антилоп различных пород, а также мелких четвероногих. Сам город очень небольшой, включая фруктовые сады и плантации, которые расположены вдоль одной из его сторон, он занимает около 1000 туазов в длину и столько же в ширину. Город хорошо спланирован, пересекающиеся под прямым углом улицы широки, но мостовая ничем не вымощена, в этом и нет необходимости, так как земля здесь твердая. Многие улицы обсажены дубами. Названий улицы не имеют, кроме одной – Гееренграфт, на ней стоит дворец, а перед дворцом площадь. Дома, построенные по большей части в одном стиле, красивы и просторны, но не выше двух этажей; многие из них снаружи оштукатурены и побелены белой краской, некоторые выкрашены в зеленый цвет – любимый цвет голландцев. Лучшие дома в городе сложены из местного синеватого камня, который добывают каторжники в карьерах острова Роббен. Дома, как правило, покрыты темно-бурым тростником (Restio Tectorum), который растет в сухих и песчаных местах. Он прочнее соломы, но тоньше и более ломок. Этот кровельный материал получил в Капстаде такое широкое распространение, видимо, потому, что свирепствующий в этих краях знаменитый юго-восточный ветер-«убийца» срывает более тяжелые крыши и причиняет неисчислимые жертвы и ущерб…
– Неужели это я? – Стоя на коленях, она рассматривает свое отражение на фоне деревьев и медленно плывущих облаков. Туфли она сняла, пистолет лежит на плоском валуне рядом с ней, возле чистого платья. Вода в мелкой заводи у излучины узенькой речки прозрачна и тиха, но поверхность едва заметно рябит, дробя ее отражение. Она удивленно, с волнением всматривается в женщину, которая глядит на нее снизу:
– Что же, ты не узнаешь меня? Лицо как будто знакомое, но…
Всего три дня, как они в пути. Неужто можно измениться до неузнаваемости так быстро? Во время их долгого путешествия, когда они ехали в фургонах, у нее было довольно досуга – более чем довольно – делать себе каждый день прическу перед зеркалом, ухаживать за собой. А дома, в их просторном особняке, ее буквально окружали зеркала, они были везде, в каждой комнате. Элизабет потребовала, чтобы ей повесили зеркало даже в ванной: ну и что, почему женщине не жить среди зеркал, если ее единственная забота – быть красивой? Мать была бы довольна тем, как она следит за собой во время путешествия: даже в пустыне человек не должен распускаться.
Элизабет захватила с собой из лагеря небольшое ручное зеркало, но все эти дни она безмерно уставала, и вечером ей было не до того, чтобы разглядывать себя, а утром нужно было как можно скорее собираться в путь. Как ни медленно они продвигаются, дорога выматывает все силы. Спину не разогнуть, руки и ноги отваливаются. Иногда схватывает живот, и лицо покрывается потом. По вечерам она, конечно, моется, хотя Адама иной раз приходится посылать с ведром чуть не за милю, и он приносит ей воду с этой презрительной усмешкой, которая пугает ее и вызывает растерянность и ярость. Да, он приносит ей воду, но разве это мытье – кое-как сполоснуться впопыхах за кустами, слегка освежиться и смыть набравшуюся за день пыль, а ей так страстно хочется погрузиться в воду, плескаться в ней, нежиться. (Пятна от тутового сока на теле, струйки текут по ногам…)
Сегодня днем она так устала, что едва сидела на своем воле. Он, вероятно, заметил, хотя не сказал ни слова, но когда они подошли к этой речке, остановился на привал. Она чувствовала, как он недоволен. К морю, скорее к морю! – больше он сейчас ни о чем не может думать, так же, как и она. Но у нее нет сил идти. Сейчас он отправился за дровами для костра и за ветками, чтобы соорудить изгородь на ночь. Она долго глядела ему вслед, пока он не поднялся со своими ремнями на гребень следующего холма, а потом спустилась сюда – «Ни шагу без пистолета, упаси вас бог его забыть!» – чувствуя, что поблизости должна быть река. Присев на большой плоский валун, она зачерпывает сложенными руками воду и прижимается к ней лицом. Потом глядит на себя, в глаза своему отражению – какие они у нее сейчас блеклые, наверное, это вода съела их синеву. К лицу прилипли мокрые пряди волос, на висках пыль, эта пыль не смылась после первого омовения, щеки в грязных потеках. Кажется, резче выступили скулы, наверное, она похудела.
– Неужто это я? – слышит она свой удивленный, вопрошающий голос. – Да, это – я, но кто я?
Ее пронзает острым неожиданным испугом сознание, что ведь это действительно она здесь находится, Элизабет Ларсон, урожденная Лоув. В Капстаде – а он точно одна большая семья, где все обсуждают каждый шаг друг друга, – она всегда была на виду, на всех балах и званых вечерах на нее обращали внимание: «Скажите, кто эта девушка в золотистом платье?» – «О, это Элизабет, дочь главного смотрителя складов Ост-Индской Компании». Во время путешествия о ней говорили «жена белого путешественника». А теперь вдруг оказалось, что ее не с кем соотнести. Нет никого, она здесь одна у воды, под небом, по которому летят запоздалые птицы. Что я здесь делаю? Кто эта женщина, на которую я сейчас смотрю? Она вглядывается в свое отражение, пытаясь развязать косынку – ее тонкое белое кружево порыжело от пыли, белые крахмальные манжеты янтарно-желтого платья с бантами на локтях испачкались и смялись, точно тряпки. И это она? Нет, невозможно, она не желает быть такой! Лицо синевато-бледное, вокруг глаз темные круги – следы бессонницы. Она пытается смыть их водой, но тщетно.
Она резко встает и снова поднимается на пригорок. Его, конечно, нет. Он далеко и вернется с дровами не скоро, через час-полтора. Одна, совсем одна. Одиночество ударяет ее в солнечное сплетение торжествующей судорогой муки. Раньше, когда он уходил, вокруг нее оставался лагерь, рядом была ее привычная скорлупа – фургон. Даже на другой день после того, как Ларсон не вернулся, она не чувствовала себя до такой степени отрезанной от людей, как сейчас, потому что ожидала его с минуты на минуту. И раньше, во время их путешествия, всегда кто-нибудь был поблизости, ведь нельзя же оставлять женщину одну в саванне.
Вернувшись с туфлями и свертком чистой одежды к реке, где она так бездумно оставила на камне пистолет, она снова глядит в воду, теперь уже стоя, и видит себя во весь рост в смятом платье с пышной юбкой.
Ноги у нее грязные. Она подбирает юбки до колен и входит в прохладную воду, ступни погружаются в мягкий чавкающий ил. Ее страх отхлынул, смягчился. Она выпускает из рук подол, и, медленно намокая, он начинает тянуть ее вниз. Она одна… Сняв кружевную косынку и прикрыв руками глубокий вырез платья, она с минуту стоит неподвижно с ощущением немой чувственной вины. Потом, словно решившись, быстро развязывает ленты на корсаже и сбрасывает платье через ноги в воду, оно кружится вокруг ее колен мокрой грудой и медленно начинает тонуть. Спустив нижние юбки, она отталкивает их от себя ногой. Одежда остается лежать на глинистом мелководье, тихое течение не может увлечь ее за собой. Она заходит глубже, чувствуя жадную ласку прохлады у колен, у бедер, у мягко круглящегося живота, у груди. И вдруг в неожиданном упоении окунается с головой. Вынырнув, она откидывает на спину тяжелые намокшие волосы и плывет по заводи. Вдоволь наплававшись, она возвращается к валуну, берет мыло и принимается мыться, потом снова бросается в невинно сладострастные объятия воды.
Ей не хочется снова надевать платье, предвечернее солнце так приятно греет. Лучась внутренним теплом, она ложится на горячий валун и прижимается к нему всем телом, чистая, в сверкающих каплях воды, взволнованная и размягченная.
Очнувшись от полудремы, она садится на край валуна верхом и снова начинает разглядывать себя в воде с задумчивым удивлением. Яркие горящие глаза, маленькая грудь налилась, соски стали чувствительней к прикосновению и немного – совсем немного – потемнели, слегка обозначилась выпуклость живота над густым треугольником волос: там, в воде, – она, ее лицо, ее тело, она давно не разглядывала себя так внимательно, и как же она, оказывается, прекрасна, как загадочна и непостижима, как пугает эта загадка. Неужели это моя оболочка? А если оболочка изменится, если грудь разбухнет и выпятится живот, если руки иссохнут, как плети, если выступят ребра, что станет со мной, с моим «я»? Оно тоже увеличивается и сжимается вслед за телом? И где оно обитает, это вечно ускользающее «я»? Надо мной равнодушное, немотствующее небо, медленные белые облака, солнце, вокруг меня валуны, красная глина, трава, дремучие заросли.
Смирившись, она встает на колени и протягивает руку к намокшему платью, но, наклоняясь над водой, вдруг ощущает легкое движение на том берегу и мгновенно застывает. От неожиданности и испуга она не может сразу посмотреть, что там такое, а когда наконец ей удается поднять голову – с мокрых волос ей на плечи падают капли и ползут по спине, точно судорога, – она видит, что это всего лишь антилопа, молоденькая, небольшая самочка с длинными ушами и огромными глазами, животное стоит, замерев, и глядит на Элизабет. Даже раздевшись, она не так остро чувствовала свою наготу, как сейчас, под этим безмолвным взглядом, – свою наготу и предельную незащищенность, и от волнения она готова разрыдаться. Отражаясь в реке, антилопа неподвижно стоит среди кустов на своих длинных легких ногах, и кажется, что вода, и земля, и небо, и весь мир глядят из ее больших черных глаз в своей первозданной безгрешности. Шелест шагов твоих я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся…
Элизабет в растерянности прикрывает руками грудь, и мокрое платье падает обратно в воду.
Мгновение – что-то рванулось, мелькнуло, – и антилопа исчезла, будто ее никогда здесь и не было.
Опомнясь, Элизабет поспешно встает, надевает чистое платье, которое принесла с собой, завязывает ленты, застегивает крючки. Широкие кружевные манжеты на рукавах ей мешают, она отрывает их и швыряет прочь. Потом аккуратно подбирает юбки, опускается на колени и принимается за стирку.
Он связывает собранные дрова. Порванный о колючки длинный камзол без воротника висит на суку, жилет, он выбросил в первый же день пути, на нем сейчас лишь панталоны и грязная белая рубашка с тонкими кружевами. Холмистая равнина, по которой они шли, поднималась все выше и выше и наконец привела их к острому скалистому кряжу. Склон по ту сторону оказался почти лишенным растительности, трава сухая, жухлая – совсем другой климат; скоро начнется саванна, более ровная, чем та, по которой до сих пор лежал их путь. Через два дня – с Элизабет наверняка придется идти три – они достигнут готтентотской деревни, где он несколько раз останавливался. Он рассчитывал пройти сегодня гораздо больше, надеялся хотя бы спуститься к подножью, но уж очень быстро она устает, он думал, она гораздо выносливей. Сама-то она нипочем не признается, что устала, но он заметил особую бледность у нее вокруг губ и синеву под глазами после бессонной ночи под дождем. И вот они остановились на привал недалеко от гребня у реки.
Небо сегодня ясное, и не нужно так основательно устраиваться на ночь, как вчера, им ведь пришлось распаковывать весь багаж, чтобы спрятаться под шкурами самим и укрыть самое ценное из всего, что у них есть, – порох, ее тетради. И все равно они промокли. Уже три дня они в пути, три дня, такие непохожие на их жизнь в лагере среди диких смоковниц: и днем, и ночью они теперь ближе друг к другу, в темноте их разделяет только костер. И, конечно, она знает, что он неотступно следит за ней.
…Я неотступно слежу за тобой. Это наша первая ночь в пути, она поистине чем-то похожа на первую брачную ночь. Я слежу за тобой, я хочу тебя. Я жажду тебя всей своей неутоленной страстью, мне хочется схватить тебя, прижать к себе, ворваться в твое молчание. Стоит лишь протянуть руку над костром и коснуться тебя… Ты спишь или делаешь вид, что спишь? Ты чувствуешь, ты смеешь чувствовать, что я здесь, рядом?
Так почему же я не протягиваю к тебе руку? Неужели потому, что ты носишь ребенка? Но почему это должно меня останавливать? Твое тело еще не потеряло стройности, живот лишь слегка припух. Разве кто-нибудь пощадил бы мою мать, подумал о ребенке, который живет в ее чреве?
Мой белый хозяин из моей прошлой жизни, хозяин, данный мне богом, все в мире было ему доступно, и закон перед ним молчал. У него была жена, он пользовался всем, что принадлежит белым, и без зазрения совести брал то, что принадлежит нам. Помню наши поездки в фургоне с бочками вина в Капстад. К обеду мы заканчивали разгрузку, и ты шел в таверну – я-то оставался караулить фургон – и коротал там время до вечера, а потом отправлялся в квартал, где жили рабы, потому что, как только темнело, к женщинам-рабыням пускали белых мужчин. Чтобы улучшить местную породу рабов, объясняли всем, это необходимо для блага общества. Через полчаса появлялся сторож с фонарем: «Пора, господа, уже поздно» – и запирал на ночь ворота.
«Не задавай столько вопросов, – говорила мне мать, – молчи». По-своему, немо и безмятежно, она жила с миром в ладу. Она никогда не пыталась понять мир: зачем? Вся ее родня перемерла во время «великого мора», – если бы и ей пришлось умереть, что ж, значит, так суждено, – охотники привезли с собой в город лишь ее и еще несколько оставшихся в живых детей, их имена внесли в реестры рабов, рассказали им о господе боге, который вывел народ свой из дома рабства, и все они безропотно приняли свою судьбу. Вот мать тихо сидит на кухне у стены и курит трубку, худенькая, с тонкими, точно птичьи лапки, руками и ногами, издали кажется, что это маленькая девочка, бездомный ребенок. Но это не ребенок, это мать, моя мать. Морщины покрыли ее лицо в юности. Люди моего племени рано стареют – высыхает река, дающая жизнь, земля покрывается трещинами. Но Хейтси-Эйбиб каждый раз воскресает в пыльных саваннах, ты тоже воскреснешь, твердила мне она, ты воскреснешь, сынок, славь господа.
Должно быть, ты пошел в свою бабку, говорила она, в отцову родню. Вечно они попадали в беду из-за своего строптивого нрава. Болтали чего не следует, до всего-то им хотелось дознаться, вечно они спрашивали «что?» да «почему?». Спрашивай, не спрашивай, что толку? Когда знаешь, жить еще труднее, это всем известно. Все мы несем одно и то же бремя, иди и не ропщи. Вот когда ты состаришься, как бабушка Сели, и не сможешь больше приносить пользу, с тебя снимут это бремя и позволят умереть на свободе. А до тех пор бог и баас будут о тебе заботиться.
Сели, Сели, моя бабушка Сели, расскажи мне свои истории, я хочу знать, из какого рода я происхожу.
На горных склонах Паданга, начинала она, всюду, куда хватает глаз, растет сплошным покровом недотрога. Задень один-единственный листок – и дрожь побежит по кустам до самой вершины, мириады трепещущих листьев свернутся. Будь сильным и смелым, мой мальчик. Пусть никакие оскорбления белых тебя не задевают. Помни своего деда Африку, он был замечательный человек, все это скажут. Его рвали на куски раскаленными щипцами, а он не издал ни стона, переломали на колесе все кости, а он хоть бы взглядом удостоил своего палача. Ночью я принесла ему воды – есть-то он не мог, но прожил до утра, умер, только когда солнце взошло. Не плачь, говорил он мне ночью, не горюй. Ему уже было трудно говорить, но он все равно не стонал. Что боль, боль не страшна. Страшно, если ты им сдался. Никогда им не сдавайтесь, говорил он, теперь вместо меня пойдете вы, и вам предстоит долгий путь.
Пусть меня снова пытают, говорил он, я буду даже рад. Ведь если им хочется кого-то мучить, значит, они знают: этот человек жив. Мертвому боли не причинишь. Умирая, я стал человеком…
А когда пойдешь на гору, принеси мне немного дров, сказала бабушка Сели. Наступают холода, а я уже не молоденькая, кровь меня больше не греет. Ты ведь завтра туда собираешься?
Да, ответил я, завтра. Завтра я иду на гору за дровами. И тебе принесу, топи печь и грейся.
Но рано утром баас окликнул меня. За дровами ты сегодня не пойдешь, сказал он, повезешь со мной в город вино. Дров кто-нибудь другой принесет.


