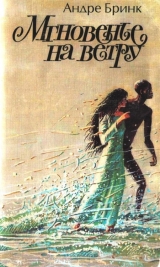
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Орел – черная точка в вышине – кинулся вниз на свою жертву: кто это был – скунс? мышь? барсук? заяц? Потом хищник снова взмыл в небо, держа что-то в когтях и борясь с ветром.
Адам вздохнул и начал спускаться на берег по красным скалам ущелья. Было уже почти темно.
– У них два фургона, – сказал он, когда она подбежала к нему по песку и прижалась к его груди. – Один доверху набит добычей. Они готовятся в путь. Думаю, пойдут прямо в Капстад, потому что больше места в фургонах нет.
– Белых всего двое?
– Да. Один пожилой, другой молодой.
– Какие они по виду? Добрые? Или злые?
– Обыкновенные охотники. Люди из Капстада. Очень грязные. Но такую грязь вода отмоет.
– Как ты думаешь, они будут ко мне приставать?
– Ты – женщина.
– Надеюсь, их можно осадить. И потом, у меня ведь есть пистолет.
– Да, конечно.
– Сколько добираться отсюда до Капстада в фургоне?
– Путь неблизкий, да еще через горы. И джунгли придется огибать. Так что месяца два-три.
Они вернулись в пещеру.
– Ты ведь поедешь со мной, Адам? – спросила она. – Будешь меня защищать.
– А если охотники узнают, что мы с тобой?..
– Они ничего не узнают.
В пещере он сел и прислонился к стене, измученный и опустошенный. Она принесла ему воды в большой раковине, немного меду. И снова принялась расспрашивать о том, что он уже подробно ей рассказал.
– Но если они утром отправятся в путь, разве мы сможем их догнать?
– Сможем, нужно только выйти пораньше.
Потом она ушла в глубину пещеры. Он не смотрел на нее, но слышал, как что-то шуршит в полутьме. Когда она вернулась к нему, на ней было ее зеленое платье из прежней жизни. Платье висело на ней и было сильно измято, и все-таки она показалась ему странно, волнующе прекрасной.
– Я похудела, – сказала она, почему-то смущаясь его взгляда.
– Зато стала крепче, – сказал он. – И еще красивей. – У него даже слезы выступили на глазах – до того она была желанна.
Она с задумчивым лицом разглаживала платье на боках.
– Ужасно измялось.
– Мы встанем завтра очень рано, – сказал он, не глядя больше на нее.
Она опустилась возле него на колени.
– Что с тобой, Аоб?
– Не называй меня Аоб, – тихо сказал он.
– Я буду просить за тебя в Капстаде, – с жаром сказала она. – Ведь я тебе обещала, ты помнишь. И я добьюсь для тебя прощения.
– Да, конечно.
– Если я упущу эту возможность… – Она перевела дыхание. – Сейчас еще труднее, чем раньше, когда я решала оставить фургон Ларсона. Ведь другого случая может не быть.
– Знаю. Поэтому и рассказал тебе про охотников.
В ее глазах зажегся свет прозрения.
– А ведь ты мог бы ничего мне не говорить!
Он не шевельнулся.
– Слышишь? Мог скрыть от меня правду. И я бы никогда ее не узнала.
– Нет, ты должна ее знать.
– Почему ты меня не пощадил? – в волнении воскликнула она. – Почему не решил все сам? Не надо тебе было говорить, так было бы гораздо легче.
– Да, легче, – согласился он. – Сначала. А что потом? Вдруг бы тебя начала грызть тоска? Вдруг бы все случайно обнаружилось и ты догадалась?.. Как же я мог решать за тебя?
– Но почему нам нельзя остаться здесь? – спросила она.
– Нельзя? Кто сказал, что нельзя?
– Это ты хотел вернуться в Капстад! Ты говорил, что не можешь жить вдали от него, что ты не зверь.
– Тогда я был один. Теперь я с тобой.
– Но разве тебе довольно меня? Разве тебе никто больше никогда не будет нужен?
– Кто знает. Я могу лишь надеяться и верить.
– Ах зачем, зачем ты сказал мне! – повторила она.
– Потому что ты с ними одного племени.
– Нет, мы разного племени! Я была счастлива здесь. Я и сейчас счастлива.
– Решай сама.
– А ты, Адам, что же ты? Ты-то чего хочешь? Что мне делать, скажи!
– С каких пор ты стала слушать чьих-то советов?
– Помоги мне, Адам! – Она схватила его за руку, прильнула к нему.
Где-то там, в ночи, думал он, стоят два нагруженных добычей фургона, и как только настанет рассвет, караван двинется в путь, направляясь в Капстад, – белые бородатые охотники, их волы и слуги-готтентоты.
– Когда мы жили у готтентотов и я болела… – вдруг сказала она. – Почему ты не бросил меня и не ушел один?
– Как же я мог тебя бросить?
– Ты тогда не любил меня.
– Почему ты вспомнила об этом сегодня? – спросил он.
– Потому что я тебя люблю! – со слезами сказала она. – Господи, что же делать?
– Не огорчайся, – сказал он. – Пора спать. Ведь если мы хотим встать пораньше, ты должна успеть отдохнуть.
– Почему ты сказал «мы»?
– Я сказал: «Если мы хотим встать пораньше».
Она поднялась и начала было расшнуровывать корсаж, но вдруг ее пальцы замерли.
– Зачем ты раздеваешься? – спросил он. – Тебе, наверно, надо заново привыкнуть к платью.
– Ты хочешь, чтобы я осталась в платье?
Не отвечая, он расстелил на сене кароссу и лег.
– Иди ко мне, – позвал он.
Она легла рядом с ним, как всегда, но сейчас, в платье, казалась чужой.
Он обнял ее. Если это конец, думал он, если это в самом деле их последняя ночь, он должен любить ее до утра, не отпускать ни на миг, должен оставить на ее теле следы, вечные, как его шрамы. Но он не мог. Она была слишком далеко от него.
Он пролежал всю ночь без сна, не шевелясь. Наконец в пещеру просочился рассвет.
Тогда он слегка дотронулся до ее плеча и прошептал:
– Пора.
– Я не сплю.
– Ты что же, так и не заснула?
– Нет. – Она с усилием села в своем изжеванном платье и вздрогнула от утренней свежести. – Адам…
– Сейчас разведу огонь.
Есть не хотелось, было слишком рано. Он заварил листья дикого чая в старом котле, который нашел когда-то на ферме, и они стали пить этот чай, обжигаясь.
Потом он подошел к порогу пещеры, где любил стоять, и выглянул. Над морем лежал густой туман, сквозь него с трудом пробивалось солнце.
Она тоже подошла и встала с ним рядом. Он положил ей руку на плечи и только тогда почувствовал, что она нагая.
– Где же твое платье?
– Мне оно не нужно.
– А как же фургоны? И люди твоего племени? Как же Капстад?
– Я никуда не поеду. Я остаюсь здесь.
– Ты… ты хорошо подумала?
Она кивнула.
– Может быть, другого случая никогда не будет.
– Пусть. Я решилась.
– Ты просто сошла с ума.
– Да. Мы оба сошли с ума. И потому остаемся. Здесь наш дом, наша родина. – Она провела вокруг рукой, указывая на море, на дикий негостеприимный мир под жалобными криками чаек. – Больше у нас ничего нет. Мы остаемся здесь навсегда.
Она произнесла это как приговор, подумал он.
И снова вспомнил разбросанные по лесу трупы слонов.
В то утро они нашли на берегу, среди выброшенных на песок водорослей и мидий, среди фарфоровок, морских звезд и морских ежей, одну-единственную раковину бумажного наутилуса – хрупкую колыбель забытых яиц, которая почему-то уцелела, несмотря на всю ярость волн.
Как они потом вспоминали конец того лета, конец тепла, что сохранилось в их памяти? Солнце вставало все позже, все раньше садилось, день незаметно убывал: по утрам туман долго не рассеивался, дни стояли прозрачные, ясные, лучезарные; сетуя, ворковали голуби, ласточки собирались в стаи, готовясь лететь на север. Просторы казались все шире, огромней, мир словно раздвигался в лучах почти негреющего солнца; ветер словно прилетал к ним из еще более дальних краев и истощал по дороге все свои силы. И от сознания хрупкости, непрочности еще острей щемило душу. Вечерами у костра они подолгу молчали.
– Хорошо, что моя мать не видит, как сшита эта каросса, она бы в обморок упала. Если в детстве у меня стежки получались недостаточно мелкие и ровные, она заставляла меня все распарывать и шить заново. В саду бегали мальчишки, играли, а я сидела взаперти с шитьем, – как же я его ненавидела!
– Неужто ты совсем не скучаешь о Капстаде?
Она поднимает голову, на лице ее играют отблески костра.
– Конечно, скучаю. Иногда.
…Осенние аукционы, толпа, владельцы виноградников и арендаторы… прогулки с важными гостями в Констанцию, фламинго, которыми они всегда любуются, остановив карету… на Львином хребте палят из пушек, вьются флаги, на набережной народ, суета… мать всегда запрещала ей смешиваться с толпой простолюдинов на пристани, но что ей запреты… завтра отплывают суда в Патрию и в Батавию, нужно успеть написать письма… звучит клавесин, горят свечи, дробясь в хрустальных подвесках канделябров, бесшумно снуют с подносами босоногие рабы, обмахивают гостей опахалами из страусовых перьев… дядя Якобс с отцом играют в шахматы в саду… когда матери нет дома, она носится во дворе с детьми рабов, хохочет, играет в их игры. Неужели тот мир все еще существует? И мать по-прежнему сетует на судьбу? Отец, наверное, еще больше замкнулся. Да полно, живы ли они все?
– И ты скучаешь о Капстаде, я уверена, – с вызовом говорит она.
…Рассказы его матери и бабушки о пламени, которое пляшет над кратером вулкана Кракатау, о прекрасных гибискусах и лотосах, о жасмине, коричном дереве и гвоздиках, которые так сладко пахнут, о бегстве Мохаммеда в Медину, о славных войнах полумесяца. Маленькая сухонькая старушка с ее мудрым фатализмом, наивная вера матери, которая путала Христа с Хейтси-Эйбибом и не отличала волю божью от воли хозяина…
– Матушка Сели, ты сбиваешь моего сына с пути.
– Глупенькая, я ему о белом свете рассказываю. А я его повидала, свет-то.
– Откуда? Из черного трюма?
– Зачем же из трюма? Раньше я его видела, в молодости. Где я только не была – и в Паданге, и в Смеросе, и в Сурабайе. Тогда я была свободной.
– Ты и сейчас свободная. Хозяин вон отпустил тебя на волю.
– Пусть он этой волей подавится.
– Что ты, матушка Сели, как у тебя язык повернулся, ведь он – хозяин!
– Хозяин? Раб он, а не хозяин. Раб своих рабов. Что он без них? Пустое место. Ты слушай, Адам, слушай, что я говорю.
– Не смей забивать голову моему сыну такими крамольными мыслями! А ты, Адам, слушай свою мать и хозяина, понял? Забудь, что сейчас говорила бабушка!
Вот он стоит у верстака и обтачивает ножки для стола, из-под рубанка сыплются кудрявые стружки, ноздри щекочет запах можжевельника. Вот поднимается на гору за дровами, глядит на раскинувшееся внизу море… Изюм на чердаке… Осень, урожай убран. На гумне молотят зерно, с виноградников несут полные корзины и высыпают в давильни, а потом, держась за брус, давят спелые кисти, пляшут на них, прыгают, не чуя под собой усталых ног, ягоды лопаются, между пальцами с чавканьем вылезает благоухающая мякоть, в подставленный внизу бочонок струей льется сладкий сок. Оставшуюся массу протирают через сплетенную из бамбука циновку, сливают виноградное сусло в огромные чаны и оставляют бродить, и вот оно стоит много дней, кипит, пенится. А потом везут вино в город, Адам сидит высоко на бочке, похлестывает длинным кнутом сытых раскормленных волов, рядом бегут собаки, прыгают, заливаются лаем. Вот и гавань, там грузят корабли, которые поплывут далеко-далеко – в Амстердам и в Бютензорг, в Тексел, конечно же, в Серабангу и Сурабайю, о которых рассказывала бабушка Сели, и во все концы света повезут выжатое им вино, повезут на свободу…
– Да, я скучаю. Но Капстад так далеко. А мы здесь счастливы, верно?
– Конечно. – Ее большие глаза безмолвно глядят на него, застенчиво спрашивают, соглашаются.
– Может быть, ты жалеешь?
– Жалею? Нет, нет. А ты?
– Мне-то о чем жалеть? Но ты стала часто говорить о Капстаде.
– О чем-то ведь надо говорить.
– Раньше, когда мы только пришли сюда, ты о нем совсем не говорила.
– Тогда было не до Капстада. Все было так ново, так незнакомо и прекрасно.
– А сейчас красота исчезла?
– Ну что ты, конечно, нет. Но все стало иначе. И появилось время для раздумий.
Тихо, будто вор, прокрался в их жизнь Капстад, когда подступили холода и им стало труднее обороняться от прошлого. Они и сами потом вряд ли могли бы сказать, когда они впервые заметили застывшую неподвижность огненно-красных лилий на темной поверхности водоемов, особую яркость лесных грибов – рыжих, розовых, зеленых, белых, пурпурных, желтых; они и сами не могли бы вспомнить, когда до них стал доноситься по утрам крик дрофы, когда они впервые услышали шуршанье куропаток в сухой траве, когда они, разводя костер, стали брать твердые, смолистые поленья железного дерева, которые дольше горят и лучше согревают ночью, когда их горьковатый дым впервые смешался со свежим дыханием моря и теплым, прелым запахом опавшей листвы и мхов. Перелом совершился исподволь, незаметно. Теперь они не купались в море по многу раз в день, а сбегали на берег только утром, да и само купание стало иным: бросая вызов холоду, они ныряли в ледяную воду, бешено колотили по ней руками и ногами и стремглав выскакивали на песок и, лишь завернувшись в меховые кароссы, начинали чувствовать, как по телу снова разливается тепло, точно иголочки покалывают. Только в полдень они решались снять кароссы и полежать на солнце где-нибудь в укромном уголке, спрятавшись от ветра; и он заметил, что ее бронзовый летний загар начал сходить, она стала бледнее и тоньше под своей накидкой.
Были и другие приметы перемен, другие знаки. Теперь они любили друг друга с еще большей страстью, с еще большей настойчивостью, чуть ли не с яростью, точно их естественный порыв стал угасать и, пытаясь удержать ускользающее наслаждение, они еще исступленнее льнули друг к другу. Их усилия были пронизаны отчаяньем, тем более острым, что каждый, жалея другого, изо всех сил старался доказать неизменность своей любви.
И пока еще эта игра была возможна, они продолжали в нее играть, со страхом сознавая, что одно неверное слово, один фальшивый жест – и все погибнет. И мало-помалу они вжились в эту игру, выгрались в эту жизнь. Но как остра была грань, по которой они ходили, как легко было с нее сорваться!
А потом погода испортилась. Адам не понимал, что происходит с природой. Обычно август в этих краях стоит теплый, мягкий, в конце его начинаются ураганы, в октябре их сменяют ливни. Но в этом году обычный порядок нарушился. Небо затянули свинцовые тучи, дул ледяной ветер, по нескольку дней кряду моросил мелкий упорный дождь, и они с утра до вечера молча сидели в пещере возле дымящегося костра или без умолку говорили, чаще всего о Капстаде, таком далеком и желанном в их серой череде унылых зимних дней, теперь они рвались к нему, как раньше рвались к морю. Или они ложились под большую кароссу-одеяло и насильно вызывали в себе желание, потом старались заснуть и засыпали ненадолго – они уже и без того были пресыщены сном.
Несколько погожих дней, которые выдались между дождями, были восхитительны хотя бы потому, что снова можно было выйти из пещеры, заново открыть для себя море, вельд, лес. И тут произошло чудо: вернулась радость, которая их переполняла раньше, вернулась вера, и любовь их словно родилась заново, очистилась и засверкала, как камни, с которых соскребли ракушки. Но такие дни выпадали редко и длились недолго, тоска подступала все ближе. Оба они покорно ждали, и в нем, и в ней жила томительная убежденность неотвратимых перемен. Они не говорили о грядущих переменах, но оба знали: рано или поздно перелом произойдет.
И он произошел, произошел еще более неожиданно и незаметно, чем они представляли.
По небу неслись тяжелые рваные тучи, но они надеялись, что ветер их разгонит и зима подарит им один из своих ясных, солнечных дней. С самого утра они ушли в лес за грибами. Когда они подходили к трупу первого слона – теперь это была груда костей, обглоданных гиенами, грифами и шакалами и высушенных ветром, – начался дождь. Сначала он тихо зашуршал в листве над головой, стало темно, глухо и сыро. Потом дождь припустил сильнее, хотя под кронами огромных вековых атласных деревьев они могли не опасаться, что промокнут. Они сидели на поваленном стволе, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Дождь зарядил унылый, беспросветный, он ничем не напоминал тот страшный ливень во время грозы у реки.
– Как ты думаешь, это надолго? – спросила она.
– Кто ж его знает? Странная нынче зима, все шиворот-навыворот. Утром я был уверен, что дождя не будет.
– Как ты думаешь, может быть, зря мы…
– Что – зря? – живо спросил он.
– Да нет, ничего. В пещере у нас хорошо и уютно, а дождь ведь когда-нибудь кончится, правда?
– Что ты хотела сказать, Элизабет?
– Пустяки. Просто дождь действует мне на нервы. Не обращай внимания.
Она глядела перед собой невидящим взглядом, возле ее губ вилось облачко пара.
– Тебе очень плохо? – спросил он.
– Ничуть. – Она посмотрела ему в глаза. – С чего ты взял? Разве ты больше не счастлив?
– Я ни на что не жалуюсь.
– Я тоже.
Опять воцарилось угрюмое молчание. Он стал разглядывать ствол, на котором они сидели: длинный, футов двести, а может, и больше; дальний конец скрыт подлеском. Ствол сгнил до самой сердцевины и даже выкрошился, но возле вывороченных из земли корней поднялся молоденький побег всего лишь в руку толщиной. И здесь бессмертие, подумал он; эта картина порадовала бы его мать.
Ливень начал стихать только к вечеру. Еще капало, но дождь уже растерял свою силу. Мир мрачно насупился, поник. Нужно было возвращаться, пока дождь не разошелся снова.
Ярдах в ста от ствола они увидели в мокрой траве упавшее с дерева гнездо голубки, в нем лежали три крошечных, дрожащих птенчика, они жалобно пищали и широко разевали свои желтые клювы.
Элизабет нагнулась и подняла их.
– Что с ними будет? – спросила она.
– Погибнут. – Ей послышалось в его голосе осуждение. – Сами виноваты – кто же кладет яйца и выводит птенцов на зиму?
– Но птенчики уже вывелись.
– Ну и что?
– Нельзя же их здесь бросить, они умрут.
– Мы тоже их не спасем.
– Нет, я попробую.
Он не стал возражать, он торопился вернуться домой до дождя. Пока они добрались до пещеры, спустились сумерки, и один птенчик издох.
Двух других она держала в ладонях и согревала дыханием, а Адам тем временем разжег костер. Потом она устроила гнездо из меха и положила в него невдалеке от огня двух дрожащих неоперившихся уродцев с голыми шеями и разинутыми ртами.
– Ты бы их покормила, – сказал он.
– А что им дать?
– Попробуй сушеные фрукты. Больше-то ничего нет.
Но птенцы только таращили глаза и глупо разевали клювы. Она в отчаянии оглядывала пещеру. И вдруг ее осенило: она откусила кусочек сушеного банана и принялась жевать. Потом опустилась на колени, взяла одного птенчика в руки, поднесла к своим губам и языком затолкала ему в клювик немного разжеванной массы. Птенец икнул, тело его содрогнулось, он проглотил банан и снова распахнул свой клюв. Она терпеливо накормила обоих.
Адам, качая головой, жарил грибы, которые они принесли из леса. От мокрых каросс поднимался пар. Дождь все еще моросил, но вот налетел последний порыв ветра, и все стихло.
Ночью он вышел к порогу поглядеть, что делается снаружи. По черному небу неслись разорванные облака, и прямо над головой светила луна, похожая на старый башмак, из которого, как рассказывала ему в детстве мать, ее сделал когда-то Хейтси-Эйбиб. Адам оглянулся. Элизабет лежала возле костра, устроив птенчиков у себя на груди. Он вздохнул и вернулся к ней.
Ночью она несколько раз вставала кормить птенцов, укрывала их, чтобы они не замерзли. И все-таки когда они проснулись на рассвете, один из птенчиков был мертв.
Взошло солнце, и она послала Адама за червяками. Когда он их принес, она стала давить их пальцами и всовывать скользкую массу в разинутый клювик.
– Этот у нас выживет, – с решимостью сказала она.
Ночью она спала спокойнее. А утром они увидели, что и третий птенчик издох.
– Можно сварить из них суп, – предложил он. – Не бог весть сколько мяса, но все-таки.
– Ни за что! – воскликнула она с таким жаром, что он удивился. – Как тебе пришло в голову? Я их сама кормила.
– А что с ними делать? – Он пожал плечами.
– Не знаю. Похоронить. Мало ли…
Она тяжело вздохнула и умолкла, точно говорить с ним было бессмысленно, взяла два крошечных съежившихся трупика и пошла вон из пещеры. Он не сделал ни одного шага вслед за ней, набил трубку и стал курить, надеясь успокоиться. Небо совсем очистилось, но холод пробирал до костей.
Прошло несколько часов, а она все не возвращалась, тогда он встал и нехотя пошел ее искать.
Теперь скелет обнажился полностью, он ярко белеет на валуне у водоема длинной извилистой дугой, точно герб на щите: изящный, строгий узор, ничего тайного и недоговоренного, каждый позвонок тщательно прорисован, все ясно, точно и бескомпромиссно, и здесь уже не будет перемен, здесь не страшна никакая опасность, здесь нет желаний, колебаний, страхов, форма определилась навсегда, она неотвратима и прекрасна.
Он нашел ее далеко от пещеры, у водоема, она сидит, отвернувшись от моря, и глядит в сторону утесов, туда, где начинается земля.
– Ну что, похоронила? – спрашивает он.
– Да. Сядь, посиди со мной. Я по тебе соскучилась.
– Что ж не вернулась?
– Ждала, что ты придешь ко мне.
– Здесь холодно.
– Да, холодно. Зато какой простор, как вольно дышится. В пещере душно.
– Она тебя угнетает?
И как только он задал этот вопрос, оба поняли, что настала минута, к которой они готовились давно.
– Да, угнетает, – призналась она. – Мне нечем дышать. Скрывать и притворяться бесполезно. Мы просто задохнемся оба, вот и все.
– Но что же делать? – Он очень хорошо знает что, но произнести приговор должна она.
– Нельзя без конца притворяться.
– Ты думаешь, мы притворялись? – Он садится рядом с ней и ждет ответа, точно от него зависит его жизнь.
– Ты видишь, они умерли, – вдруг говорит она. – Я грела их, кормила, заботилась, и все-таки они умерли. – Она встряхивает головой. – Жизнь обошлась с ними жестоко.
– Подумаешь, двое птенцов. Кому они нужны? – говорит он, искушая ее.
И она хватает приманку.
– А мы? – спрашивает она с изумляющей его откровенностью, глядя на него в упор. – Мы тоже никому не нужны, нам тоже нет здесь места. Но пока светило солнце, мы этого не замечали. Мы были слепы. Во всяком случае я была слепа, я знаю.
– А я-то думал, ты здесь счастлива…
– Наверно, потому что я была слепа. – Она опускает голову, волосы падают ей на лицо, она откидывает их рукой. – Вот видишь, а я думала, что ты счастлив. И оба мы столько времени боялись признать правду. Щадили друг друга, не понимая, что это самый верный способ погубить себя.
– А сейчас? – осторожно, с расстановкой спрашивает он.
Она смеется горько, но с неожиданным ликованием.
– Значит, наш маленький рай оказался не вечным. Он был лишь передышкой, лишь остановкой в пути.
– Ты хочешь уйти отсюда?
– Разве дело в желании? – говорит она. – Мы просто должны отсюда уйти, я это знаю твердо. Должны, если хотим остаться честными. Иного пути у нас нет. Мы все отодвигали решение, но…
– Что ж, нам собираться недолго. Можем сегодня и двинуться.
– Давай.
– Куда же мы пойдем? – спрашивает он.
– У нас ведь с тобой один путь, верно?
Он молча кивает.
– Круг должен замкнуться, – говорит она и берет его за руки, – чего бы нам это ни стоило.
Продолжая путь, мы словно каждый раз начинаем его заново, и нам нужна вся наша вера. После того, как море извергнуло Адама, а потом чуть не поглотило снова, он поднялся, весь мокрый, дрожащий, и, точно вор, стал красться по немощеным улицам мимо темных домов, мимо садов, где лаяли собаки, к знакомой горе, на которую он так долго глядел издали. Целый день он карабкался наверх и лишь к вечеру оказался на той стороне, возле фермы. Нужно было непременно проникнуть в этот белый большой дом под тростниковой крышей до темноты, пока не заперли высокие двери и не заложили прочные деревянные ставни на окнах.
В винограднике рабыни и ребятишки гоняли птиц, в проходах между шпалерами лоз спускались с тяжелыми корзинами рабы и пели, потому что близилось время ужина, когда им давали немного вина. В коровнике гремели ведрами доярки. В открытую дверь кухни было видно, как там возятся служанки, из трубы валил дым. За огородом девушки-рабыни собирали яйца, кормили кур и уток. В свинарнике визжали свиньи, требуя объедков с пахтой и желудей.
Именно так и представлял он себе свое возвращение все эти долгие месяцы: челядь занята во дворе, сад перед парадным крыльцом пустынен. И все равно опасность была велика, но выбора у него не оставалось.
Он прокрался вдоль выбеленной каменной ограды, присел возле ворот на корточки, в последний раз огляделся и встал. Сердце колотилось в груди точно молот, горло пересохло. Он отворил калитку и на ватных ногах двинулся к веранде, остро ощущая, что он почти раздет. Сейчас кто-нибудь его окликнет – «Эй, что ты тут делаешь?» – и все погибло.
Вот он приблизился к крыльцу веранды, и в это время сторожевой пес, лежащий перед парадным входом, поднялся на ноги и, оскалившись, зарычал.
Адам замер. С минуту они молча глядели друг на друга. Потом он тихо, дрожащим голосом позвал пса:
– Буль, что же ты, Буль, не узнал меня? Иди сюда, Буль, иди, собачка!
Огромный мастиф подошел к нему, все так же оскалив зубы, понюхал его руки, ноги. На лбу у Адама выступил холодный пот, но он продолжал уговаривать пса.
И вдруг пес завилял хвостом и улыбнулся во всю свою пасть.
– Молодец, Буль, умница! – Адам стал гладить его большую голову. Он весь дрожал от нетерпения, но нужно было снова заручиться дружбой собаки, с которой он когда-то бегал по усадьбе.
Он повернул ручку, и парадная дверь подалась. А вдруг в прихожей кто-то есть?.. Он толкнул дверь и проскользнул в щель. Внутри было темно и тихо, пахло воском, льняным маслом. Как хорошо он знал этот дом. Вот эти двери направо ведут в гостиную. Здесь любят коротать время хозяйские дочери, что, если они сейчас сидят в гостиной, читают или листают ноты?..
Вдруг в дальнем конце коридора открылась дверь. Его охватил ужас, стало нечем дышать, и он, не раздумывая, нырнул в гостиную. Там никого не было. Темная резная голландская мебель, привезенный из Индии красный лакированный секретер, массивный шкаф капстадской работы с затейливыми медными украшениями, за стеклом фарфор и серебро, на полу, на широких досках атласного дерева, – ковры, шкуры зебры, львиная шкура с набитой головой… Адам юркнул в узкое пространство между канапе и стенкой и растянулся на жестком прохладном полу.
Издалека доносились приглушенные звуки. Взволнованно залились собаки – наверное, хозяин возвратился домой. Да, вон мимо простучали копыта. Гремели подойники, мычали телята. Плакал во дворе ребенок. Где-то в доме ходили, разговаривали. Но вот все понемногу угомонилось. Закрыли ставни, чтобы никто ночью не проник в дом, заперли двери. Потом он слышал, как молились на сон грядущий, двигали по полу стулья, заунывно пели псалом.
Теперь Адам успокоился. Он в доме, он ждет своего часа. Стояла непроглядная темнота, и потому он знал, что надо полагаться только на свой слух. Долгое время спустя он наконец решился снова подойти к двери и стал отворять ее – дверь скрипнула, и он в испуге застыл на месте. Из чьей-то спальни в длинный коридор все еще падал желтый свет лампы. Но вот и свет потух. По коридору плыл душный, теплый запах льняного масла. Заскрипела кровать, голоса еще шептались несколько минут, мужчина кашлял. Потом в темноте вздохнули, и наступила тишина.
Но он все стоял и ждал, ждал и, лишь уверившись, что весь дом крепко спит, подошел на цыпочках к окну и стал открывать ставни. Железный засов лязгнул. Он снова замер, но все было тихо. Гостиную осветила луна, проступили очертания темной мебели.
По нескончаемо длинному коридору он прокрался в кухню. В очаге все еще тлели, красновато светясь, угли. Он затворил дверь, взял с большого выскобленного добела стола свечу и зажег от углей. Теперь он действовал решительно и быстро. Так, вот только что выстиранная одежда, ему она великовата, он сильно похудел на острове, но ничего, сойдет. Теперь еда. Здесь раньше лежали ключи, которыми он распоряжался. А может, не здесь, неужто он забыл? Нет, вот они… замок ларя щелкнул. Теперь ружье, патроны и порох. Он связал все в узелок, отомкнул дверь во двор и положил узелок и ружье у порога.
Потом взял из очага щипцы, задул свечу и снова вернулся к внутренней двери. Постоял немного, послушал и ступил в коридор, оставив дверь открытой. Он был совершенно спокоен. Настала минута, которой он столько времени дожидался. Ладонь, сжимающая тяжелые щипцы, стала мокрой от пота.
Вот отсюда падал раньше свет лампы, здесь скрипела кровать. Медленно, шаг за шагом подвигался он вперед. В доме было душно, воздух не проникал ни в одну щель. Капстадцы боялись спать с открытыми окнами.
Тускло блеснула медная спинка кровати. С какой стороны спит он, с какой его жена?
Придется подойти к кровати вплотную, послушать дыхание спящих. Он стал к ним наклоняться и вдруг задел ночной столик, звякнуло стекло, на кровати громко всхрапнули. Он еще крепче сжал щипцы и ждал, не шевелясь.
Наконец дыхание спящих опять стало ровным, и тогда он зашел с другой стороны. В темноте слабо белела подушка. На ней лежала его голова… Баас, баас, вот ты лежишь передо мной и спишь, ни о чем не догадываясь. Ты хотел заставить меня сечь мою родную мать, баас. Ты велел палачу пытать меня раскаленным железом и пороть плетью из гиппопотамовой кожи, ты сослал меня в каторгу на остров. И вот я вернулся, баас. Попробуй теперь остановить меня!
Он занес щипцы над головой, готовясь нанести удар. Одно движение – и конец, он раскроит череп своему бывшему хозяину. А если проснется жена, убьет и ее. В благодарность за соль, сударыня.
Да, сегодня настал мой черед. Ведь к этому ты меня и готовил, верно, баас? «Эта земля – твой удел», говорил ты, а потом взял и прогнал меня с этой самой земли. Но море выкинуло меня на берег этой земли, точно щепку, и вот я вернулся. Теперь попробуй остановить меня, баас!..
Долго стоял он, подняв руку с щипцами, потом опустил ее, повернулся и вышел из спальни. По лицу его градом катился пот, ноги подгибались от слабости.
Когда он отворил дверь и вышел на крыльцо с узелком и ружьем, собаки залаяли и бросились к нему, но он тихонько кликнул Буля, и остальные собаки запрыгали вокруг них, виляя хвостом и повизгивая. Они всей сворой проводили его до конюшни. Конь в стойле захрапел, забил копытом, а когда Адам схватил его за недоуздок, стал мотать головой. Адам ласково уговаривал животное, дал ему сахару, который захватил в кухне. Ощупью нашел в темноте уздечку, вдел ему в рот удила, закрепил их и повел коня к воротам.
– Эй, что там такое? – крикнул во дворе мужской голос.
Адам мгновенно обернулся. Перед ним стоял Левис, друг его детства.
– Прочь с дороги!
– Господи, Адам! Как ты сюда попал?
– Прочь, говорю!
Левис вцепился ему в руку и чуть не вырвал рукав.
– Ах ты, ублюдок!
– Убирайся!
– Адам, я сейчас…
Адам крепко сжал приклад обеими руками и прицелился в голову, Левис медленно осел на колени, слабо охнул и грянулся оземь. В тот же миг Адам вскочил на коня, не выпуская из рук свой узелок. Конь вынес его за ограду, и они растворились в ночи. Его терзали сомнения, но он знал: нужно отъехать как можно дальше, пока не настал рассвет.


