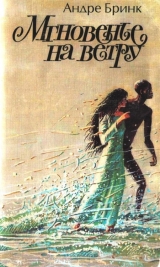
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Первым долгом надо убрать труп газели. Адам хватает ее за ноги и тащит прочь, собака снова рычит и даже пытается укусить, в полумиле от дома Адам бросает газель, и тут же на нее опускаются грифы. Во дворе собака виновато машет ему хвостом, видно, у нее не осталось сил на злобу. Она, поскуливая, тычется мордой в колени Адаму и трусит за дом, потом возвращается и снова бежит прочь, и, подстрекаемый любопытством, Адам следует за ней. Собака ведет его на задний двор к чахлым колючим кустикам у высохшей канавы, и возле кустиков он видит каменный колодец. Наверное, в дождливые годы его питает ключ. Не переставая скулить, собака пытается вскочить на каменную стенку колодца, но ноги не держат ее, она падает.
Не веря своим глазам, Адам бросается к колодцу и заглядывает внутрь, но там слишком темно, он ничего не видит. С замиранием сердца кидает он вниз камешек и вдруг слышит тихий всплеск воды. Он связывает вместе все ремни, сколько у них есть, опускает в колодец помятый котел и принимается терпеливо зачерпывать воду. Наконец он достает немного грязной, вонючей жижи. На дне колодца ее совсем немного, видно, там осталась лишь неглубокая лужа, но от этой неожиданной находки слезы сдавливают ему горло. В порыве радости он наливает немного воды для собаки на плоский, с углублением, камень, потом наполняет скорлупу страусиного яйца для Элизабет.
Она спит в кухне, прямо на полу, привалившись к двери. В первый раз с того дня, как они повстречали газелей, им удалось укрыться в тени. Всю эту неделю они были вынуждены нести свои узлы на голове, чтобы защитить себя от солнца; а в полдень даже надевали невыносимо жаркие кароссы, иначе их просто спалило бы дотла. Пили они зловонный желудочный сок газелей, и чтобы Элизабет не рвало, он цедил жидкость через подол ее зеленого шелкового платья. И вдруг этот неожиданный подарок – колодец и в нем драгоценная влага.
Дрожа от нетерпения, он ставит яйцо на камень и ждет, чтобы муть хоть немного осела, потом бережно, осторожно подносит воду к растрескавшимся, спекшимся губам Элизабет. Она приоткрывает рот во сне, глотает и вдруг садится и со страхом глядит на него, не в силах поверить тому, что случилось.
Не съев ни крошки, но напившись вдосталь, они ложатся и засыпают и спят остаток дня, всю ночь и половину следующего дня, пока их не разбудила собака, которая скулит и тянет зубами за кароссы. После сна они чувствуют себя совсем разбитыми, точно сон взбаламутил осевшую в глубине усталость и теперь грязь потянулась на поверхность бытия.
Сидя на крыльце и глядя невидящими глазами в пустой мир, они с усилием жуют высохшие клубни и коренья, подслащенные каплей меда. Элизабет дает собаке кусок жесткого вонючего вяленого мяса, оставшегося от газели, которую убил Адам.
Все еще не выйдя из оцепенения, с тупой пульсирующей болью в голове, Адам начинает осматривать дом, двор. Обнаружив кости перед домом возле обвалившейся стены, он принимается раскидывать обломки. Человеческий череп. Кости, целая груда костей. Может быть, тут не один скелет, а несколько? Но стоит ли все их выкапывать?
Она подходит и останавливается рядом, трогает череп ногой.
– Наверное, ветер обрушил на них стену, – говорит она, отвечая на незаданный вопрос. – Или бушмены убили, как ты думаешь?
– Если они погибли неожиданно и не от руки бушменов, может быть, здесь осталось что-нибудь съедобное.
Они с проснувшимся интересом принимаются исследовать развалины, но все, что годилось бы для еды, унесено или уничтожено. Им удается обнаружить лишь скелеты двух маленьких детей. Однако в огороде за домом, возле полуразрушенного каменного забора, они неожиданно находят четыре тыквы, которые пролежали здесь несколько месяцев целые и невредимые под защитой кожуры; несколько сморщенных бататов; высохшие, выбеленные солнцем стручки гороха, но их можно размочить в воде и съесть. Вот и все, но это еда, и даже на долю собаки хватит.
Идет день за днем, а они не трогаются с места, спят в тени или просто целыми днями лежат без движения, и постепенно начинают чувствовать, что силы по капле возвращаются, но это пробуждает у них не надежду, а лишь слепую покорность судьбе. За спиной у них бесконечность, и бесконечность – впереди. Они устали, безмерно устали. И все же знают, что рано или поздно придется идти дальше.
На боковой стене под уцелевшим карнизом свили гнездо ласточки, и Элизабет с Адамом целыми днями бездумно наблюдают, как птицы вьются возле своего гнезда, улетают, возвращаются с жуками и гусеницами, слушают, как пищат птенчики. Адам все время подавляет в себе желание ограбить гнездо, он понимает, что тут нужно ждать до последнего: это будет решающий шаг, они сделают его перед тем, как отправиться в путь дальше. Он каждый день говорит себе: «Завтра, завтра…», мечтая о супе, но страшась решения, которое придется принять. И вот наконец он чувствует: пора, больше нельзя откладывать. Вечером, когда родители вернулись в гнездо ночевать, он складывает возле стены камни и доски, залезает на них и одну за другой вынимает ласточек из гнезда. Сжав хрупкую шейку двумя пальцами, он делает небольшое резкое движение рукой – все, этого довольно.
Элизабет уносит птичек в дом, варит суп и наполняет им все сосуды какие у них есть. Обжигаясь, они съедают по небольшой порции этого изумительного блюда, дают немного псу и кидают ему тонкие обглоданные косточки. Они сидят на крыльце, стараясь растянуть наслаждение до бесконечности, и оба думают, хотя не произносят вслух ни слова, что вот и еще один этап в их жизни кончился. Тайная глубинная страсть, что гонит их вперед, не потеряла своей силы.
Она вспоминает первый заброшенный дом, который встретился им на пути к морю: там произошел перелом. Вспоминает, как она варила обед на очаге и ждала Адама целый день, а он вернулся только на закате; вспоминает, как дикие собаки гнались за зеброй и рвали ее на куски, как вдруг из-за деревьев показался Адам с тушей антилопы за спиной. Он вернулся, он пришел к ней.
– Нельзя больше оставаться здесь, – сказала она в тот вечер. И сейчас она опять говорит: – Засиделись мы здесь. Пора, завтра утром в путь.
Со своим скудным запасом провизии выходят они до восхода солнца в прохладный обнаженный мир.
За ними трусит тощий, весь в коросте, пес с непомерно большой головой.
Адам оборачивается и хочет пнуть его ногой. Пес останавливается, опускает уши, поджимает хвост; но как только они трогаются дальше, опять бежит за ними, правда, уже поодаль.
Адам подбирает с земли камешек. Пес взвизгивает и кидается прочь. Но стоило им отвернуться, и он сейчас же возвращается.
– Зачем ты его гонишь? Пусть идет с нами, – говорит Элизабет. – Он показал тебе колодец, спас нам жизнь.
– Нам нечем его кормить.
– Но он не может один, он без нас погибнет.
– А с нами он сдохнет от голода, – резко говорит Адам.
– Может быть, он будет помогать нам в поисках еды.
– Он старый, хромой, какой от него толк?
– Тогда я буду отдавать ему часть своей доли.
– Только этого недоставало!
Он в ярости глядит на нее, руки чешутся схватить копье и метнуть в худую, как скелет, собаку. Но Элизабет почувствовала, что грозит животному, и быстро заслоняет его собой. Ни он, ни она не произносят ни слова, оба чувствуют, что от исхода спора зависит что-то очень важное. Он опускает глаза, не выдержав ее упорного взгляда, и смиряется, хотя не в состоянии ее понять: с этим паршивым псом ее связывают какие-то особые узы, и ради нее, ради их любви он не должен на него покушаться. Молча, смущенный и сердитый, он поворачивается и идет большими шагами вперед, она его догоняет. Следом трусит пес. Поодаль.
В ветхой лачуге, сколоченной из обломков кораблей, которые не сумели войти в залив и разбились о скалы или сели на мель, старый Ролофф без отдыха трудился над своими картами. Косматая седая грива, глаза в глубоких впадинах, слезящиеся и воспаленные от работы по ночам при лампе, беззубый рот – два зуба наверху, один внизу, скрюченные, в ревматических шишках руки, похожие на когти грифа. Манжеты на рубашке обтрепались, штаны у колен обрезаны вкривь и вкось, ни чулок, ни башмаков, мышцы голых икр выпирают – это бросилось Элизабет в глаза, когда он вел их в свою темную лачугу. Он жил в ней со старухой готтентоткой, которая ловила в море рыбу и стряпала ему еду и спала в его постели на полу, а он день и ночь просиживал над картами. Ролофф то вспоминал Германию, откуда уехал еще в молодости, то принимался рассказывать, как плавал матросом на судах Голландской Ост-Индской компании, вдруг подмигнув Элизабет, заводил речь о женщинах из портов, о море, светящемся по ночам в тропических широтах, о зловонных трюмах, потом перескакивал на зверскую охоту за рабами на Мадагаскаре и на побережье Гвинеи, описывал далекое путешествие во внутренние районы Капской колонии, которое он совершил двенадцать лет назад и даже дошел до земли кафров, что лежит за Грейт-Фиш.
– Aber zur sache[18]18
Но перейдем к делу (нем.).
[Закрыть], герр Ларсон, и вот тогда-то, вернувшись из долгих странствий, я начертил свою карту и изобразил на ней всю страну, ни одной реки не пропустил, ни одной возвышенности, vollständig[19]19
Ни единой (нем.).
[Закрыть]. Вы, надо думать, слышали о карте Кольба? Так вот, забудьте о ней и никогда не вспоминайте. Кольб с утра до ночи сидел в капстадских тавернах и пил не просыхая; он в жизни не бывал дальше Стелленбоса. Чудовище, настоящее чудовище, помните Апокалипсис – зверь с семью головами и десятью рогами и с устами, говорящими богохульно. А карты нарисовали его собутыльники, и все небылицы, что он написал, они же ему рассказали. Schändlich![20]20
Позор! (нем.).
[Закрыть] Что касается аббата Де ла Кея, – verflixt![21]21
Здесь: он не достоин даже того, чтобы о нем говорили! (нем.).
[Закрыть] Не хочу отзываться дурно о служителе господа, но, когда глядишь на его карту, каждый раз думаешь: «Занимались бы вы, сударь, своими небесами, они вам наверняка лучше знакомы, чем Капстад». Нет, glauben Sie mir[22]22
Уж поверьте мне (нем.).
[Закрыть], единственная правильная и надежная карта этой страны – моя. Я отнес ее губернатору с изъявлениями нижайшего почтения в надежде, что мой труд обеспечит мне старость. Gott in Himmel![23]23
Боже милосердный! (нем.).
[Закрыть] И вот вызывает меня секретарь Совета. Заберите свою карту, говорит он, и не вздумайте кому-нибудь ее показать или снять копию, – сразу же в каторгу, на тридцать лет, так повелел Seine Exzellenz[24]24
Его превосходительство (нем.).
[Закрыть]. Sehen Sie mal, herr Larsson[25]25
Вот так-то, герр Ларсон (нем.).
[Закрыть]. С того дня я заперся здесь и начал делать со своей карты копии. Was sonst[26]26
Здесь: что с того (нем.).
[Закрыть], пусть даже все их развеет ветер. Überzeugen Sie sich[27]27
Извольте убедиться (нем.).
[Закрыть], весь этот дом полон карт, но ни одна живая душа не должна их видеть. Может быть, когда я умру и старая Ева меня похоронит тут же, на берегу, мой домишко наконец развалится и ветер разнесет карты weit und breit[28]28
Во все стороны (нем.).
[Закрыть], и какой-нибудь путник случайно найдет одну из них и наконец увидит, какова она – эта страна. Как можно сидеть, укрывшись за горами, и не стремиться узнать, а что там, по ту сторону? Но вы должны простить меня, герр Ларсон, и вы, liebe schöne Frau![29]29
Милая и прекрасная фрау! (нем.).
[Закрыть] – вам я не могу их дать. Вдруг Совет узнает? Меня немедленно сошлют на остров Роббен dreissig Jahre[30]30
На тридцать лет (нем.).
[Закрыть]. Нет, лучше набраться терпения и ждать. Мне уж недолго осталось, я хочу умереть с миром. Так что если вас интересует эта страна, идите и поглядите на нее своими глазами, а я вам ничем помочь не могу. Составьте свою собственную карту. Может быть, к вам губернатор отнесется милостиво. Aber nehmen Sie sich in Acht[31]31
Но учтите (нем.).
[Закрыть], люди, которые живут здесь, боятся своей собственной страны, они предпочитают не знать, какова она. Чего не видел, то и не существует… das verstehen Si doch, ja?[32]32
Вы ведь меня понимаете? (нем.).
[Закрыть]
Без карты по бескрайним просторам, к все удаляющемуся горизонту, не зная даже, в том ли направлении они идут, – просто за солнцем, на закат, в надежде найти гнездо птицы-феникса, куда она снесла золотые яйца… но разве кому-то из людей удалось их найти? Когда нет в пути ориентиров, ты даже не можешь измерить, много ли прошел или мало. О том, что ты вообще идешь, можно судить лишь по накапливающейся усталости в ногах, по тяжести, которой наливаются руки, по боли в животе, которая проникает все глубже, все теснее опутывает внутренности своими тонкими длинными щупальцами, ни на миг не ослабляя злобной хватки. Единственно, что тебе остается, это идти вперед, бездумно, как автомат, вопреки голоду и жажде, вопреки самой себе, покорствуя неукротимой воле, которая одна лишь и гонит тебя вперед: насколько легче было бы лечь и никогда больше не встать.
Раньше она лишь наблюдала жизнь. Теперь страдает. По стране истины легче идти, чем понять ее и объяснить.
Он, она и с ними худая, как скелет, собака.
Иногда им встречаются полузасыпанные песком кости мертвых животных.
– Может быть, и мы с тобой будем здесь лежать вот так же. Как ты думаешь, тогда земля простит нас?
– Не надо об этом думать, – сурово обрывает ее он. – Думай лучше о Капстаде.
Она обреченно качает головой.
– Нет, я забыла Капстад. Забыла и не могу вспомнить. Порой мне кажется, что я его просто выдумала, и в мире есть только эта пустыня. И я не знаю, долго ли еще у меня хватит сил по ней идти.
– Мы должны дойти до конца.
– Знаю, должны. И я стараюсь. Но разве это в силах человеческих – дойти? – Она глядит на него. Глаза ее глубоко ввалились. Она пытается слизнуть запекшуюся на губах кровь, но к трещинам невозможно притронуться. Она с трудом удерживает на лице Адама туманящийся взгляд. Ее ребра выпирают наружу, их можно пересчитать, кости таза торчат, ноги и руки как палки, суставы кажутся огромными.
– Да, это в человеческих силах, – говорит он. Он так же худ, как она, и стал еще чернее от солнца. – Мы дойдем, поверь мне.
За ними ковыляет хромой пес. Элизабет заметила, что Адам тайком подкармливает его, думая, что она не видит. И щадя больные лапы животного, он сократил их переходы, а в самую невыносимую жару они отдыхают под тентом из каросс, накинутых на палки.
Еще до того, как они покинули опустошенную газелями долину, собака вернулась однажды после своего тайного набега на окрестные холмы с сусликом в зубах, положила его к ногам Адама и, глядя в глаза, тихонько завиляла хвостом. Элизабет была так растрогана, что отвернулась, не желая показать Адаму свои слезы. Адам в волнении опустился на колени и погладил пса по голове. Потом снял шкуру с крошечного зверька и стал жарить, а собака сидела с ним рядом, тяжело дыша, и наблюдала.
С тех пор пес начал приносить им пойманную добычу: сусликов, черепах, однажды даже принес птицу-секретаря. А после того, как они покинули истоптанную в прах долину, он стал промышлять охотой постоянно. Без пса им было бы не выжить, и странно: он еще крепче связал их друг с другом.
Теперь Адам снова отыскивал и выкапывал из земли коренья и водоносные клубни, им начали встречаться кактусы, агавы и алоэ со съедобными листьями, они собирали яйца термитов и их личинки, смолу с кустов терновника, попадались дурманные ягоды, от которых кружилась голова. На рассвете они иногда пили росу с широких плоских листьев вельвичий или снимали скопившиеся за ночь сверкающие капли с паутины тарантулов. Но и влаги, и еды было мало, мизерно мало, довольно лишь для того, чтобы не умереть от жажды и от голода. Они все больше худели, с каждым шагом идти было все труднее; каждый день смерть давала им нищенскую отсрочку, еще на один день отодвигала горизонт. Элизабет начала думать, что такое существование хуже, чем в совершенной пустоте пустыни. Там по крайней мере смиряешься, что смерть неизбежна, что горькое освобождение близится. Здесь у тебя ни в чем нет уверенности. Жизнь подвешена на волоске, и смерть бесконечно откладывается, бесконечно отодвигается. Без надежды на избавление ты бредешь точно заведенная по жесткой, раскаленной добела земле, стремясь дойти до горизонта, а горизонт упорно удаляется, но не в твоей власти остановиться, не в твоей власти оборвать странствие. Кончится ли это странствие возле того горизонта, что ты видишь? Ты без конца задаешь себе этот вопрос, это самое большее, что тебе доступно, самое дерзкое, на что отваживается твоя надежда.
И вот однажды Элизабет кажется, что уже ничто не спасет их от смерти. Два дня назад они съели последние крохи своих запасов и с тех пор им не встретилось ни съедобного листика, ни капли воды, бескрайний вельд мертв. Как только восходит солнце, они останавливаются. Адам укрепляет в камнях две палки и накидывает на них кароссы – под этим крошечным тентом они будут ждать вечера. Он садится у самого края. Она ложится в тени и закрывает глаза. Она не произносит ни слова, боясь, что он начнет ее разубеждать. Она легла, спокойно и твердо решив, что больше не встанет. С нее довольно. Человеку кажется, что он может идти и идти без конца, но наступает день, когда он должен остановиться. Для нее этот день пришел. Она слышит вдали лай собаки, но мысли ее не задерживаются на этих звуках. Потом вдруг до ее сознания доходит, что Адам что-то ей говорит и показывает добычу, принесенную собакой, а она тупо, в изумлении глядит на него. Оказывается, собака принесла змею. Элизабет качает головой, не в силах вникнуть в смысл его слов. Наконец сосредоточивается и слышит:
– Ее можно есть. У змей только голова ядовитая.
Она опять качает головой.
– Не надо.
– Обыкновенное мясо, как у всех животных.
– Это грех. – На нее вдруг нападает безудержный необъяснимый смех – какую чушь она сейчас сболтнула! И только через несколько минут она осознает, что уже не смеется больше, а плачет, и сухие рыдания рвут ей горло.
Адам разрезает змею на мелкие кусочки и быстро жарит их прямо в пламени разожженного им костра так, чтобы только кровь свернулась. Но Элизабет отказывается попробовать змею.
– Пожалуйста, – просит он.
– Не хочу.
– Съешь, иначе ты умрешь.
– Я и хочу умереть. Не мешай мне.
– Элизабет… – Он с трудом поднимает ее, прижимает к своей исхудавшей груди. – Не надо так говорить. Съешь. Это еда.
– Не могу.
Он разжимает ей рот, точно ребенку, которому надо дать лекарство, – сначала она противится, потом уступает, не в силах продолжать борьбу, – и всовывает маленький кусочек.
– Съешь. Любимая…
Она по-прежнему качает головой и все-таки жует, крепко зажмурив глаза. Потом глотает.
– Ну вот и хорошо, – говорит он. – Умница. Теперь еще немножко.
Она не успевает возразить, – ее вдруг вырвало. Она извергла съеденное мясо, уже горькое от ее желчи.
– Ничего, давай попробуем еще раз.
И снова ее желудок отказывается принять змею, и еще долго сухие спазмы выворачивают его наизнанку, как в тот день, когда они нашли труп Ларсона, только сейчас боль еще острее, потому что все внутри нее пусто, кроме нескольких крох мяса нет ничего. Она даже не может плакать, так она измучена и опустошена.
Ну вот, значит, это все-таки конец, думает она, избавление, и ее растрескавшиеся, с присохшей слизью губы раздвигает слабая улыбка.
И вдруг, когда она уже совсем смирилась, приходит невыразимая печаль, она так огромна, что вытеснила слезы.
– Я умираю, – шепчет она, – но я так и не поняла главного, зачем я родилась на свет и жила.
Адам ложится с ней рядом и обнимает ее.
– Помнишь, – тихо спрашивает он, – помнишь, как ты просила меня рассказать о море, и я отвел тебя на скалистый островок?
– Помню. Рыбки, водоросли, актинии, крабы в прозрачной воде, красный осьминог… да, да, я помню. Море разбивалось о скалы и окружало нас со всех сторон… Как же его почувствуешь, если нет опасности? Ты распластал меня на белом песке и силой в меня вторгся, вокруг было море, и в тот миг, когда ты извергнул свое семя, нас чуть не захлестнули волны, а ночью прибой погреб остров под толщей воды. Да, я все помню.
– Помнишь, как мы сидели на бугре и слушали грохот земли под ногами бегущих газелей? Глаза животных были невидяще устремлены вперед, они даже растоптали льва, который попался им на пути; смерть была близка и прекрасна. Если ты все это помнишь, тебе сейчас будет легче. Лежи и не двигайся. Сейчас ты услышишь голос земли. Но слушай его не ушами. Слушай внутренним слухом.
– Ты ляжешь на меня, как раньше? – шепчет она.
– Если ты хочешь.
– Не оставляй меня.
Он осторожно приподнимается и закрывает ее своим телом.
Сейчас они не движутся и лежат совсем тихо, только ее руки нежно скользят по старым шрамам на его спине и ягодицах, точно вопрошая.
Она слышит его дыхание возле своей щеки. В ушах гудит ток ее собственной крови. Ей кажется, что она засыпает, но это не сон. Она словно оставила свое тело и поднялась высоко в небо, как гриф, и глядит оттуда на клочок тени среди равнины, где лежат она и Адам. Звуки, которые раздавались вблизи, отступают, гаснут. За стрекотаньем цикад встает что-то огромное, грозное – это само безмолвие, воплотившееся в земле, в холмах и в прорытых ветром оврагах, в вырванных им из земли кустах.
Порой мне кажется, что я увидела тебя во сне. Ты лежишь на песке, точно выброшенная волнами морская звезда, – образ, рожденный водой: на спине у тебя поблескивают песчинки, в полуразжатой руке раковина, хранящая свою неразрешимую тайну, рядом мерно дышит грудь твоей матери – морской стихии. Твои ноги слегка вздрагивают, как стебли бамбука, что растет возле водоема. Я хочу ласкать тебя, сначала застенчиво, нежно, потом со страстью, неистово. Ты просыпаешься во мне… я растворяюсь в зеленых волнах моря. В голове чудесная легкость, все кружится, кружится, ты втягиваешь меня в себя, и я плыву, отдавшись течению, в немом восторге перед подводной красотой… Я не знаю, где кончаешься ты и где начинаюсь я, мы – одно существо, меня колышет безбрежный океан. И вот я исчезаю, улетучиваюсь, как морская пена, как брызги воды, как туман, и собираюсь наверху в маленькое облако, оно растет, становится огромным и наконец проливается дождем.
Ты не даешь мне умереть, ты прикрываешь меня своим телом от грифов. Безмолвие пронизывает меня и оглушает. Оно было здесь до того, как мы пришли, оно пребудет и потом, когда наши следы исчезнут. Да, я все помню. И я знаю: весь мир сошелся воедино в ничтожной капле бытия, которая заключена во мне, не будь меня, земля бы даже не узнала, что она существует, я слышу это в голосе безмолвия. Благодарю тебя. Во имя этой памяти мне должно идти с тобой до конца. Не я ли сказала, что круг должен замкнуться? Все приобретает смысл или становится бессмысленным только во мне, в моем сознании. И решать буду я. Ты предоставил мне эту меру свободы. Ты хочешь, чтобы я постигла страдание и не позволила ему себя погубить.
Страдание… Оно – как небо, по которому летит птица. И только редко, иногда, ей позволяют сесть на ветку или на раскаленный камень и отдохнуть, но этот отдых – миг, мгновенье на ветру.
Ты со мною. Я прикасаюсь к тебе, как в тот день на скалах среди моря, как в ту ночь, когда ты мне сказал: «Приди ко мне обнаженной». Только на миг. Всегда это только лишь миг. Может быть, только миг мы и в силах выдержать. Я помню… Я постараюсь встать и идти дальше. Эти страшные просторы вокруг нас рождают тишину, которая дарит нам редкие мгновенья счастья, когда мы осмеливаемся признать, что мы искали друг друга всю жизнь и наконец нашли, что мы с тобой – одно целое.
Она поднимает голову – когда он успел отодвинуться от нее и сесть у края тени? – и вдруг видит на самом горизонте, под зубчатой линией каменных холмов длинное сверкающее озеро, и сразу же понимает, что и Адам глядит на него. Она не верит своим глазам. Почему ни он, ни она не заметили озера раньше? Впрочем, что же тут удивительного, ведь они еле двигались от изнеможения, до того ли им было, чтобы разглядывать окрестности? А по дороге они глядели только себе под ноги, может быть, ярда на два-три вперед, не больше: ведь глазам трудно вынести это постоянное единоборство с горизонтом, ведь чем дальше ты идешь, тем глубже смиряешься. Она была слишком измучена и вообще ничего не замечала, а он думал только о том, чтобы помочь ей. Но озеро все время было здесь, его так ясно видно. Оно блестит, точно огромное зеркало, вокруг – деревья и зеленые холмы, дома, люди. Значит, она все-таки была права, что надо перейти горы: впереди лежит земля обетованная. Как они могли так быстро потерять веру? Теперь им стыдно самих себя.
Она подползает к Адаму и трогает его рукой.
– Ты видишь? – без нужды говорит она.
– Неужто это правда?
– Да ты смотри, смотри лучше! – Ее душит волнение. – Скорее собирайся, идем.
– Может, лучше подождать, пока жара спадет?
– Не бойся, я дойду, – страстно убеждает она. – Чем скорей мы тронемся в путь, тем скорей будем там. – Она начинает связывать свой узел. – Как ты думаешь, это далеко?
– Трудно сказать, эти равнины обманчивы. Наверное, к закату будем у озера.
Пес лижет свои израненные лапы. Он съел почти все, что осталось от змеи.
– Идем же, – говорит она.
– Нельзя спешить, – предупреждает он. – Сил у тебя мало, а подкрепить их нечем.
– Ах, там будет вдоволь и воды, и пищи!
Она смеется от счастья, но горло перехватывает рыдание.
Только бы дойти до воды, броситься в нее, погрузиться, нырнуть с головой, смыть с себя грязь, почувствовать, что тело стало чистым, влажным и прохладным, пить, пить без конца, пока не напьешься, жить!
Адам то и дело удерживает ее, потому что она рвется к оазису. Идти им еще далеко, а зной стоит непереносимый. Нужно беречь силы, она не понимает, как много их потребуется.
Но на все его увещевания она лишь машет рукой – вперед, смотри, там вода, разве ты не видишь? Мы устанем, измучимся – пусть! Зато скорее придем к озеру и будем жить там долго, сколько захочется, окрепнем, восстановим силы. А дальше уже будет совсем легко, увидишь. Все самое страшное позади. Ты не дал, не позволил мне умереть, мы выжили.
Он первый начинает прозревать, но у него не хватает духу сказать ей. Сквозь заливающий глаза горячий пот он видит, как сверкает и плавится на солнце озеро, колышутся зеленые деревья, ходят возле хижин люди. Почему подозрение не мелькнуло у него раньше, пока они еще не отправились в путь? Но ведь так хочется верить, и вера нуждается в подкреплении, иначе не дойдешь.
Она шагает чуть впереди, из последних сил волоча исхудавшие ноги. Он слышит ее трудное, со свистом дыхание. Он хочет окликнуть ее, но из горла вырывается лишь сдавленный шепот. Собака тащится за ними, добежит до чахлого кустика и ляжет в жалкой тени веток, сухих и голых, как колючки дикобраза, чтобы дать на минуту отдых израненным лапам, потом снова на солнце и бегом до следующего кустика.
Ему хочется плакать, хочется разразиться проклятьями. В первый раз за все время, что они вместе, его охватывает настоящее отчаяние.
Наконец, уже вечером, она останавливается, ее качает из стороны в сторону, она вся черная от грязи, по телу струится пот.
– Еще… еще очень далеко? – спрашивает она, и кажется, что слова эти с кровью вырываются у нее из горла.
Он отворачивается.
– Ты что, Адам? – спрашивает она. – Я спросила тебя, долго ли нам еще идти?
– Мы никогда туда не придем, – отвечает он, не смея поднять на нее глаза.
– Что за глупости! Кто нам помешает?
– Озеро просто не существует.
Она протягивает худую руку в сторону воды, потом роняет и стоит, застыв, лишь тяжело вздымаются обтянутые кожей ребра.
– Не может быть, Адам, неправда!
– Нет, правда. Это мираж.
– Раз уж нам остается только одно – умереть, – с усилием говорит она, – почему мы не можем умереть быстро, как та несчастная обезьяна в горах? Почему должны бесконечно мучиться?
Адам пытается ее утешить:
– Мы не умрем.
– Нет, я не хочу больше жить. Я так устала. Довольно, конец.
– Сегодня утром ты тоже хотела умереть. И все-таки ты встала и пошла.
– Потому что мы увидели озеро. – Она садится на раскаленную землю.
– Вон пригорок, – говорит он. – Идем туда, там удобней ночевать.
– Нет, я хочу остаться здесь, – упрямо говорит она.
Он берет ее за руку, чтобы помочь ей встать, но она сердито отталкивает его и разражается рыданиями. Ей трудно плакать, в груди и в горле сухо, в глазах нет слез, но она сжимается в комочек и плачет, содрогаясь всем телом.
– Это совсем недалеко, – говорит он умоляюще.
– Иди один! – задыхаясь, хрипит она. – Вернешься в Капстад, скажи им… – Она умолкает. Потом стихают и ее рыдания.
Он развязывает их багаж, но ему нечем накормить ее, нет ни листика, ни сморщенного клубня, ничего. Его охватывает искушение обнять ее, лечь рядом с ней на землю и больше не шевелиться, не накрываться даже кароссами, встретить нагими ночной холод и завтрашнее солнце. Но он гонит искушение именно потому, что уж очень оно велико. Укрепив палки в небольших кучках камней, он накидывает на них кароссу, потом разводит костер и садится возле огня наблюдать, как темнеет мир. Напротив него лежит, часто дыша, собака. Элизабет ни разу не шевельнулась.
Вдали тявкают и хохочут шакалы. Раз есть шакалы, вяло думает он, значит, где-то должна быть добыча. Зайцы, газель, антилопа. Луна поднимается. Сжав зубы, с трудом преодолевая боль, Адам встает. Все тело сводят судороги, грудь горит.
Он накрывает Элизабет второй кароссой.
– Лежи, – говорит он. – Я попытаюсь раздобыть еды.
– Здесь нет ничего.
– Что-нибудь разыщу. Обещаю тебе.
Она качает головой.
– Собаку я оставлю с тобой, – говорит он. – И копье кладу рядом. Не знаю, когда я вернусь. Может быть, завтра, может быть, послезавтра. Но я непременно вернусь. Ты слышишь меня, Элизабет? Я вернусь и принесу тебе еды.
– Не уходи, – шепчет она.
– Нельзя. Это наша последняя надежда.
Встав на колени, он завертывает ее в кароссу, целует. На их губах нет влаги, они – как высохшие стручки, лишь царапают кожу.
Она провожает его глазами, пытаясь вспомнить, что же он ей сказал, распутать свои мысли. Значит, он ушел в Капстад? Передай поклон отцу и матери. Скажи им… Что это, поблизости вода и люди? Река разлилась, наводнение. Вола нет, я загнала его в реку, а он попал в водоворот… Здесь камни, не оступись… Не убивай детеныша газели, он увидел меня у ручья, я купалась… он доверяет нам, он пришел к нам искать защиты. В горах идет снег, ты чувствуешь, как холодно?
Откуда здесь собака? Значит, она не умерла? Я думала, ее ужалила змея. А старуха готтентотка высосала яд, но и она потом умерла, и ее тоже похоронили в дикобразьей норе. В моем платье. Она посмела рыться в моих вещах, украла платье и не сообразила, как его надеть, привязала к поясу, а старые иссохшие груди висят поверх, как мешки. Здесь люди не ведают стыда, они прикрывают тело лишь для того, чтоб защитить от грифов. Но рано или поздно грифы раскидают камни и вытащат его труп… Избавиться бы от всего ненужного, стать чистой и ясной, как высушенный солнцем скелет, как очищенный от ракушек камень. Бегут чередой мои дни, раскачивается под потолком медная лампа… мы меняем туалеты по три раза в день, принеси мне воды… Как, ты посмел ослушаться? Я привыкла, что мои приказания выполняют беспрекословно… Никогда не доверяй рабу, дитя мое… Ты в рабыне видишь лишь женщину, а в женщине лишь рабыню… Я пришла сообщить вам: я выхожу замуж… Не в преисподнюю же я собралась, всего лишь в путешествие по пустыне… Мы будем идти по стране и составлять свою собственную карту. Sehen Sie mal, я день и ночь снимаю копии со своей карты. Aber nehmen Sie sich in Acht, люди здесь боятся своей собственной страны… Ветер разнесет по земле мои карты, и вот когда-нибудь одну из них найдет случайный путник…


