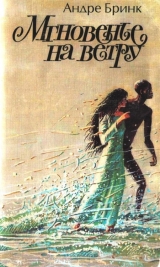
Текст книги "Мгновенье на ветру"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Они вихрем несутся мимо нас, ничего не видя, глаза их слепо устремлены вперед: они все еще верят в землю обетованную.
Смотри – я не боюсь. Я просто устала. А он может идти без меня, я не знаю, куда он пойдет, но он не погибнет, будет кружить и кружить по одним и тем же тропам, точно по берегу острова…
Наверно, Элизабет задремала, потому что, открыв глаза, она видит, что луна передвинулась к дальнему краю их тента. Все еще тявкают шакалы, но сейчас они очень далеко. Собаки возле нее нет. Бедные детишки, лежат мертвые под обломками стены. Неужто их в самом деле убили бушмены? Ради десятка коров и овец погубить столько народу, разрушить ферму – какая бессмыслица!
Вот я лежу здесь. Убей и меня. Пошли еще одно стадо газелей, пусть они втопчут меня в землю. Положи рядом моих детей, все эти крошечные скелеты. Человек рождается в таких мучениях, человек способен вынести любые испытания…
Она с трудом садится и смотрит на сереющее небо. Адама все еще нет. В тот день, когда река унесла их вола, она тоже хотела броситься в омут и умереть, ей казалось, что она больше не выдержит. Смешно! Сегодня у нее есть право желать смерти, и, однако, она пальцем не шевельнет, чтобы ее приблизить. Как странно: чем глубже мы погружаемся в отчаяние, тем упорнее противимся тому единственному, что только и способно прервать наши муки.
Я устала, устала. Я не хочу жить и все-таки живу. Разве я могу позволить ему всю ночь бродить по пустыне в поисках еды для меня, может быть, даже несколько ночей, и, вернувшись, найти меня мертвой? Это ты не даешь мне погибнуть, одной бы мне не выжить.
Если у кого и было право покончить с жизнью, так это у тебя, когда твой хозяин приказал тебе сечь твою родную мать. Но ты не совершил самоубийства. Ты день за днем смотрел на гордую свободную вершину за морем и все-таки не сошел с ума и не погиб. Ты вытерпел два года жизни на этом проклятом острове…
…В ту ночь я забрался на свой утлый плот и поплыл, и вода зажурчала под моими веслами. Это журчанье врезалось мне в память сильнее, чем рев волн и треск ломающихся досок: в нем я наконец-то услыхал тайный, сокровенный голос свободы. И всякий раз, как я заново переживаю день, когда меня наказывали перед Дворцом на площади, я вспоминаю не кандалы и цепи, не плеть из девяти ремней гиппопотамовой кожи, не глумящуюся толпу, а чаек над головой. Я слышу их пронзительные крики и вижу, как они парят в потоках ветра. И даже сейчас, стоит моим мыслям унестись прочь от этой мертвой, безводной долины, я неизменно слышу чаек; а ночью, когда я засыпаю, в моих ушах звучит журчанье воды под веслами.
Сегодня мы не нашли воды, мы видели мираж. Переживет ли она эту ночь? Видно, у нее иссякла воля к жизни. Я непременно должен принести ей что-нибудь поесть и вдохнуть в нее жизнь, змея, черепаха, дикий арбуз здесь не помогут. Может быть, попробовать просить о помощи, молиться? Но кому? Аллаху, о котором мне рассказывала бабушка, Хейтси-Эйбибу моей матери, Иисусу Христу? Нет, я могу надеяться лишь на себя в этом мире, где есть только камни и цепкие корни, холмы, звезды, луна.
Он упрямо идет на лай шакалов. Один, в прохладе лунной ночи, он шагает очень быстро. В груди ширятся восторг и боль, оттого что он сейчас совсем один среди этих просторов, ему кажется, что в темноте границы мира отодвинулись еще дальше, все стало еще более непреложным и совершенным, черные тени обрели вещественность, как камни и кусты. И в то же время мир сейчас не такой жестокий, как днем. Он не стал добрым, о нет, но исчезла его враждебность, он ближе, доступнее.
Невозможно понять, шакалы ли бегают вокруг него, то приближаясь, то отходя в сторону, или просто звукам нельзя доверять на открытой равнине, но Адам всю ночь ходит и ходит кругами и настигает хищников лишь на рассвете. Он понимает, что преследование может оказаться таким же бесплодным, как погоня за миражем: да, шакалы лают, ну и что с того, может быть, они вовсе не охотятся, а дерутся друг с другом или играют, может быть, у них брачная пора. Он готов и к этому разочарованию. Но когда в брезжущем свете звери становятся различимы, он с изумлением и радостью видит, что шел за ними не напрасно: четыре шакала окружили у подножья бугра антилопу. Она стоит у каменного склона, стараясь защитить от них новорожденного малыша. Видно, шакалы выследили ее, когда роды только начались, потому что рядом лежит послед.
Шакалы при его приближении отбегают, трусливо грозя ему рычаньем и жалобно скуля, потом подкрадываются ближе, однако когда восходит солнце, они убираются прочь. Антилопа стоит и смотрит на Адама, настороженно принюхиваясь. Всякий раз, как детеныш пытается пройти мимо нее на тонких дрожащих ножках, она поспешно отпихивает его мордой назад. Стоит Адаму шевельнуться, и она опускает свои длинные изогнутые рога и издает носом предостерегающий свист. Конечно, самка обессилела от родов и долгого ночного бдения, но он понимает, что ей ничего не стоит убежать. Антилопа слишком велика, в нее нельзя стрелять из пистолета, и Адам вытаскивает из колчана стрелу, натягивает тетину и целится. Стрела вонзается антилопе в лопатку. Животное подскакивает в воздух с пронзительным криком и несется вскачь, но, отбежав немного, останавливается и возвращается к детенышу. Изо всех сил вскидывая задней ногой, она наконец стряхивает стрелу. Однако Адам знает: яд попал ей в кровь, довольно малейшей царапины. Но неизвестно, когда яд подействует, может быть, лишь через несколько часов, а он не так вынослив, как бушмены, и убеги антилопа сейчас, у него вряд ли хватит сил выслеживать ее до конца. Даже если она возьмет с собой детеныша, до заката они покроют очень большое расстояние.
И вдруг Адам замечает, что он, оказывается, не один. Заливисто лая, мимо него вихрем несется собака – неужели это их собака, ведь он оставил ее едва живую! Антилопа мгновенно опускает голову и выставляет свои грозные рога. Пес чуть на них не напоролся. Он с визгом отскакивает, но через минуту снова мчится вперед.
Теперь можно выстрелить из пистолета, и Адам целится в ту же самую лопатку, чтобы перебить антилопе ногу и не дать ей убежать. Колени ее подгибаются, она падает, но тут же снова поднимается, часто и тяжело дыша. Однако собаке оказалось довольно и одного мгновенья: она метнулась к детенышу, схватила его за горло и одним прыжком проскочила мимо антилопы.
Антилопа снова рухнула на колени. Нужно прикончить ее как можно скорее. Порох тратить не стоит, его и так осталось слишком мало. И потом, у них уже есть детеныш. Но Адам замыслил другое. Пока пес терзает детеныша, Адам подкрадывается к матке сзади, хватает ее за шею и вонзает нож в артерию.
Голова животного резко откидывается в последней судороге, и острый могучий рог распарывает Адаму руку от кисти до локтя. На миг он ослабляет хватку. Но тут собака впивается антилопе в нос. Все, антилопа мертва.
Адам садится на землю возле убитой самки и хватает воздух открытым ртом, в голове звенит от усталости и от потери крови. Эта ночь его доконала. Потом он собирается с силами, кое-как переворачивает антилопу на бок и ощупью находит маленькое разбухшее вымя. Сжав пальцами сосок, выдавливает тонкую теплую струю в свой пересохший, растрескавшийся рот и с болью, с мучительным напряжением глотает и все же пьет и пьет и никак не может остановиться. Наконец, весь дрожа, он поднимает голову и заставляет себя встать, достает бурдюк и выдаивает в него молоко из маленького вымени.
Рана на руке все еще кровоточит. Нужно унять кровь паутиной. К счастью, утром ее найти легко – среди высохших кустов на огромных сетках блестит роса. Он залепляет рану и, отхватив кусок кожи от своего передника, завязывает руку.
Голова кружится, опять он должен отдохнуть. Из-под повязки каплет кровь, но через несколько минут она все-таки унимается. В руке все еще пульсирует боль, но медлить уже нельзя. Орудуя левой рукой, он кое-как взрезает антилопе брюхо и выпускает внутренности. Вскрыв желудок, до капли собирает жидкость. После недолгого размышления отсекает от туши окорока – только их он и сможет унести. Потом он снова ложится на землю и отдыхает, а пес тем временем доедает детеныша. Пусть ест, от антилопы ему мало что достанется.
Когда Адам снова встает, солнце уже высоко. Что поделаешь, придется идти по испепеляющей жаре. В вышине он замечает грифов, и сердце от ужаса начинает колотиться в горле. Неужто уже поздно? И он, надрываясь, без всякой жалости погоняя свое измученное тело, бежит в ту сторону, где кружатся стервятники.
…Ее выводят из оцепенения грифы. Что с Адамом, он умер? Но скоро она осознает, что птицы слетелись к ней и сидят вокруг ее крошечного тента. Почему они никогда не появлялись раньше? Откуда у них это сверхъестественное чутье? Ей приходится вылезти из-под растянутой на палках кароссы и закричать, замахать на них руками, только тогда они поднимаются с земли и летят прочь, однако же совсем не исчезают, а темными точками маячат вдали.
Она снова ложится. В голове звон, пустота. Порой все заволакивает чем-то черным. Она с мучительным усилием пытается набрать слюны и проглотить, но рот пересох, а горло так распухло, что воздух через него едва проходит.
Нет, все напрасно, он не успеет. Когда-то я было горда и непреклонна, с горьким унынием думает они, и никому не хотела покориться, не хотела стать чьей-то собственностью – ведь я не корова, не фургон, не бочонок бренди. И вот сейчас я должна покориться смерти, я – ее собственность, сейчас она заберет меня, даже не спросив разрешения. А у меня больше нет сил ей противиться. Я и хотела бы бороться рада него, но не могу.
Когда на нее падает его тень, ей кажется, что это гриф. Она хочет крикнуть, отогнать его, но лишь беззвучно шевелит губами.
– Элизабет! – зовет он.
Давно ли стервятники научились говорить?
– Я сейчас накормлю тебя, – говорит он, опускаясь рядом с ней на землю. Она слышит его трудное, хриплое дыхание, запах его пота. – Мясо и молоко, – говорит он и подносит к ее губам бурдюк. Молоко теплое и кисловатое, ведь оно целый день грелось на солнце. Она держит несколько капель во рту и никак не может проглотить. Он уговаривает ее и терпеливо поит, как ребенка. Наконец она открывает глаза и смотрит вверх.
Но там ничего нет. Бог – это пустота в бездонном небе.
Кристаллики снежинки, хребет скалистых гор, овраги, выдутые в земле ветром, лист папоротника, скелет змеи… как сходны все узоры, что создает природа.
Смерть даровала им еще одну отсрочку и даже отмерила ее щедрее, чем прежние. Как ни тяжело идти, они продолжают свой путь. Он ни разу не пожаловался на больную руку, но Элизабет видит, что рана его беспокоит. Она загноилась, Адам не может двигать рукой. Они почти не говорят друг с другом, даже произносить какие-то слова для них сейчас непосильный труд.
Случилось непостижимое: из их жизни ушел Капстад, они его точно потеряли дорогой. Ни он, ни она ничего больше не ждут, не надеются, что, поднявшись на макушку каменистого бугра, увидят что-то иное кроме все того же мертвого вельда. Горизонт восторжествовал.
Им осталось одно: шагать и шагать без смысла и цели, поднимать и переставлять костлявые ноги, завернутые в толстые шкуры, размахивать тонкими, как плети, руками, дышать, преодолевать при каждом шаге боль, чувствовать, как по телу течет пот, оставляя извилистые борозды в корке грязи на коже. И знать, что сзади плетется изможденная, хромая собака.
…Когда-то ты упрекнул меня, что я слишком белая и не хочу знать правду. Что ж, взгляни на меня сейчас – я черная, обугленная. А это неизбывное страдание и есть правда? Значит, правда в том, чтобы просто идти по земле, идти вопреки всему и не позволяя себе лечь?
Если один из них сейчас сдастся, у другого уже недостанет сил жить.
Их охватывает все большее безразличие. И растет изумление перед тишиной и бесконечным пространством.
Все в этой бесконечности первозданно, все совершается точно в первый день творенья – звучат их скупые редкие слова, встает каждое утро солнце, заливая светом пустой мир. Вот крупица праха: изо всего рождается жизнь.
…В ту ночь в горах я думала: «Как ни страшна смерть обезьяны, есть что-то прекрасное именно в ее неистовстве и жестокости». И зверское убийство быка было прекрасно, и шторм в Бискайском заливе. В такие редкие минуты как раз и постигаешь, что ты – жив. Сами по себе эти минуты ужасны, но необходимы человеку, они-то и дают нам силы жить.
Впрочем, тогда я была моложе, я жаждала жестокости и неистовства, чтобы они ударили по мне и пробудили от оцепенения. Теперь мне нужно несравненно меньше, мои потребности скромнее. В спокойной неотступности страдания я снова постигаю горестную истину, что я жива. Я есть, я существую. Только и всего. А горизонт недостижим, я это знаю, я смирилась. Я не смогла бы идти, не будь этой горечи. Без нее я даже не знала бы, что живу. Благодаря этой горечи я и люблю тебя. Когда-то был рай на берегу моря. Мы жили в нем, ты помнишь? Нам легко верить в рай, ведь мы его утратили.
Раскаленные дни сменяются ледяными ночами, а они все идут, идут… Когда светит луна, они движутся ночью и отдыхают днем, хотя у такого способа путешествовать есть и свои недостатки: очень трудно спать в такой свирепый зной, в темноте трудно добывать пропитание.
Только бы не сдаться. Выдержать, вытерпеть, выжить – вот наш девиз. Не мгновенья восторга, а упорство смирения, которое и помогает перенести восторг.
Все медленней и медленней они бредут. Его руки сои сем разболелась. Все трудней отрывать ноги от земли. Даже собака вот-вот упадет и не встанет. Казалось бы невероятно, но зной становится все более испепеляющим, а солнце – все более белым. При его свете они уже совсем не могут двигаться. А пища? Теперь они едят лишь то, что им приносит собака.
Интересно, сколько они еще протянут, спрашивают они себя, мрачно забавляясь этой зловещей игрой. Ведь плоть и кровь не вечны. А у них и так почти нет плоти, кровь высохла, остались кости, да сухожилия, да темная пергаментная кожа. О, горизонт, горизонт…
Она шагает рядом с ним, в душе – рожденное изнеможением спокойствие, мысль остановилась. Единственно, чем она может встретить страдание, – это готовностью страдать бесконечно, и потому только она до сих пор жива. Зачем противиться страданию, нужно ему отдаться, подчиниться, и пусть оно медленно тебя сжигает, выжигает твое нутро без остатка, даже то, что еще не успело возникнуть, пусть вдыхает в тебя душу, чтобы, в муках лишаясь всего, ты могла наконец родиться.
Вот и привал, неотвратимый привал.
Стало быть, здесь?.. Эта песчаная впадина – конечная веха.
Она помогает ему укрепить камнями палки – он не может шевельнуть больной рукой, – помогает набросить на них кароссу. Когда наступают сумерки и он не делает попытки встать, чтобы идти дальше, она решает, что теперь это действительно конец. И с чувством чуть ли не облегчения ложится снова и закрывает глаза.
Но, решая, она сбросила со счетов его волю. А он все обдумал заранее и ждет лишь, чтобы она уснула. Пройти весь этот долгий путь только затем, чтобы покорно умереть здесь, среди вельда, точно лишенное разума животное? Нет, ни за что, он даже в мыслях с этим не смирится. Уверившись, что она спит, он тихо подзывает к себе собаку. Покрытое коростой животное приподнимается и ползет к нему на своих израненных, кровоточащих лапах. Он гладит большую голову, треплет за ушами, и собака начинает вилять хвостом и лижет своим сухим языком ему лицо и руки.
– Ложись, – говорит он, указывая себе на колени.
Собака ложится и кладет ему на колени голову.
Держа нож в левой руке, он правой продолжает ее гладить, потом сжимает пальцами морду.
Ты будешь недолго мучиться.
Он резко закидывает ей голову назад, чтобы всадить нож в горло, и пес со сдавленным визгом рвется от него прочь.
Тебе так тоже лучше.
Из перерезанных артерий брызжет кровь. Ему не удержать больной рукой бьющееся, содрогающееся тело, он падает на умирающего пса и прижимает к земле, заглушая животом и грудью его последние слабые конвульсии. Он точно обнимает женщину, это похоже на любовь.
Он не кричит, но по его лицу бегут слезы. Вот я и поднял руку на мою собственную мать, думает он. Теперь я заслужил самую страшную казнь – плеть и раскаленные щипцы под крики чаек, кандалы, остров, мертвую пустыню. Ад, на который я обречен, – во мне.
Когда он убил детеныша антилопы в пещере, она с трудом, но все-таки принудила себя смириться. Смерть собаки она никогда не простит.
– Адам! о, господи… – тихо хрипит она, проснувшись на рассвете в лихорадочном ознобе и увидев, что он жарит на костре мясо.
– Да, – говорит он ей, – да. Молчи. Ешь, ты совсем ослабла.
– Это все равно, как если бы мы стали есть друг друга.
– Неправда, не говори так. Прошу тебя!
Она стискивает челюсти. Он пытается разжать их силой, как раньше, когда собака принесла ему змею. Но она в порыве гнева вдруг выбивает мясо из его руки.
– Ни за что! Я лучше умру.
– Глупенькая, это же мясо, это жизнь!
– Он столько прошел с нами.
– Я не хотел брать его с собой, он сам увязался.
– Он поймал детеныша антилопы, спас нам жизнь.
– Сегодня он снова спасет нас. Он все равно умирал от голода. Так же, как мы. Он уже больше не мог охотиться.
– Он был наш друг. Кроме него, у нас никогда никого не было.
– Съешь.
– Сам ешь, если ты можешь! – кричит она в отчаянии. – Меня не заставляй. Я ни за что не буду. Наешься и иди один, а я останусь здесь.
– Я же для тебя его убил, – умоляюще говорит он.
– Оставь меня!
– Хоть маленький кусочек.
– Никогда.
– Смотри. – Он откусывает немного, с усилием жует, глотает.
– Дикарь! – кричит она, не в силах больше сдерживать ярость. – Я тебя ненавижу.
– Довольно разыгрывать белую госпожу! – взрывается он. – Лучше взгляни на себя.
Она закрывает глаза. Ее бьет дрожь.
– Съешь. Ведь ты не хочешь умереть.
– Что с нами происходит? – шепчет она потрясенно. – Нельзя так убивать друг друга.
– Ешь. Иначе ты убьешь себя.
– Я не могу есть его плоть.
– Ради бога, – говорит он устало, – ведь все равно в конце концов придется. Как будто у тебя есть выбор.
Но она только качает головой.
Мыслима ли большая нелепость, думает она в последних проблесках сознания: в который уже раз мы доходим до крайности, потом нам дарят передышку, мы снова делаем усилие – и опускаемся еще ниже. Нет, должно же у человека быть достоинство, должен же он в какой-то миг сказать: довольно, дальше я не отступлю.
Мать говорила: «Все тобой восхищаются, Элизабет, берут с тебя пример…»
А ты: «Тебе не выжить, если ты не станешь зверем».
– Дай мне кусочек, – шепчет она вечером, не смея взглянуть на него, хоть и знает, что не увидит на его лице злорадства. Она просто не может посмотреть в его воспаленные, запавшие глаза и встретить в них себя. Ее желудок отвергает мясо. Но второй кусок ей удается проглотить. Внутренности снова скручивает судорога, но она усилием воли ее останавливает и долго еще лежит на земле, боясь пошевелиться, чтобы ее не вырвало.
Безумие, безумие. Ведь так легко сдаться и умереть. Зачем люди цепляются за жизнь? Жизнь противоестественна, бесчеловечна.
Зачем ей возвращаться к жизни? Зачем смотреть в глаза Адаму после того, как он оказался способен убить собаку? Зачем вообще жить после того, как она узнала, что и сама она такая же предательница?
– Умереть, я хочу умереть, – тупо, однообразно твердит она, проталкивая в горло следующий кусок мяса, стараясь удержать его в себе, дрожа и задыхаясь от усилия и словно вдавливая себя в землю: скелет, обтянутый черной растрескавшейся кожей, клочья свалявшихся волос, невыносимо яркие пылающие глаза – ничтожная горсть праха, живое существо, человек.
Когда через три дня пришли готтентоты, они были еще живы. Мясо их подкрепило, но они не двинулись в путь, не одолели усталости и безразличия, не нашли в себе решимости начать все в который уже раз сначала – идти и чувствовать, как с каждым шагом убывают силы, пересыхает во рту и распухает горло, глаза все глубже проваливаются в глазницы, как мир плывет перед глазами и вдруг затягивается чернотой… потом опять немного мяса или кореньев, личинки из разоренного термитника, ящерица, и снова возвращение к постылому началу…
После полудня они заметили, что на горизонте поднялось облако пыли и стало приближаться.
– Газели? – спросила она, не зная, радоваться ли очередной передышке или приходить в отчаяние, потому что после нее их ждут еще горшие муки.
– Нет, вряд ли, – сказал он, щурясь на солнце. – Разве что стадо совсем маленькое. Может быть, это…
– Что?
Он не ответил. С час или даже больше он неотрывно глядел на горизонт. Рыжее облако медленно ползло в их сторону, заволакивая солнце.
– Это люди, – объявил он наконец. – Наверное, кочевники-готтентоты.
– Откуда же столько пыли?
– Ее поднял скот. – Он говорил так тихо, что она даже не расслышала ответа.
Когда стало ясно, что караван пройдет примерно в миле от них, они поспешно связали свои узлы и побежали по равнине, гонимые все той же страстью, как в день, когда увидели мираж. Мираж? От этой мысли у нее вдруг засосало под ложечкой и она даже остановилась – убедиться, что караван не видение, и потом снова кинулась за ним, ловя воздух открытым ртом.
Кочевников было человек пятьдесят или шестьдесят: худые, низкорослые, серые от пыли, за ними шло стадо коров и овец, бежали бесчисленные собаки. У овец был еще довольно бодрый вид, они держались благодаря запасам сала в курдюках, а вот коровы совсем заплошали.
Кочевники растерялись и насторожились, увидев путников, но когда Адам обратился к ним на их языке, зловещие морщины на задубелых лицах разгладились, люди весело заулыбались. Все разом заговорили, Адам переводил их слова Элизабет, а те из готтентотов, кто знал немного по-голландски, болтали прямо с ней.
Да, они ходили в Капстад, вот бусы и монеты, которые они там получили, глядите; выменяли они еще бренди и табак, но их не осталось, все выпили и выкурили. Теперь вот движутся на север, кто-то сказал им, что в месяце пути через сухие земли лежат хорошие пастбища.
– Идемте с нами, – предложили кочевники. – Там, где мы были, очень плохо.
– Нет, нам нельзя, – тотчас же вырвалось у Элизабет. – Мы должны вернуться в Капстад.
– Должны? – удивились готтентоты. – Кто вас заставляет?
– Мы уже так давно идем, – попыталась объяснить она.
– Но мы тоже когда-нибудь пойдем в Капстад, – стал уговаривать ее один из готтентотов. – Дождемся дождей и пойдем. Тут хорошо будет идти, увидите. Месяцем раньше, месяцем позже – не все ли равно?
– Нет, нам нельзя…
Он равнодушно пожал плечами – дело хозяйское.
– Вы не понимаете, – сказала она.
– Это верно, – согласился он, – не понимаю. – И вдруг сощурил глаза. – Почему белая женщина идет пешком и в таком виде? – Он, не скрывая любопытства, разглядывал ее увядшую грудь, торчащие ребра. В глазах его не было желания, а у нее даже не шевельнулась мысль, что надо бы прикрыться. Какая, в сущности, разница?
– Ладно, – произнес наконец готтентот, прищелкнув языком, и плюнул на землю. – Подумайте, решите, как вам быть, а потом скажете нам. Мы будем здесь ночевать.
Женщины отправились собирать дрова. К закату из вельда примчались собаки, кто-то из них принес в зубах бурундука, другие черепаху, третьи зайца. Но на этот раз у собак не отобрали добычу и разрешили съесть самим, потому что мужчины ради такого торжественного случая закололи захиревшего быка. И все племя собралось вокруг костра, все ели и пили, весело болтали, смеялись.
Элизабет сидела чуть поодаль и, погрузившись в свои мысли, рассеянно слушала чужую речь.
После ужина готтентоты достали музыкальные инструменты и в лунном свете пронзительно запели бамбуковые флейты, полилась унылая жалоба свирели, загремел барабан. Люди передавали друг другу калебасы с хмельным пивом, громко смеялись, хлопали в ладоши. Молодежь начала плясать, а старшие сидели у костра, окутанные клубами пыли, любовались пляской и поощряли танцующих одобрительными возгласами. В бешеном вихре подскакивали и отлетали передники, земля дрожала под ногами пляшущих.
Элизабет сидела и смотрела, завороженная чужим весельем, и не могла поверить, что такое буйство и безудержность возможны среди безмолвия и однообразия этих равнин. Днем, при солнце, люди едва держались на ногах, измученные зноем и липкой пылью, сейчас, во тьме, они вернули себя к жизни пляской, их музыка и смех изгнали царящую здесь тишину, они поют и пьют кислое пиво, и это пиво питает их экстаз. А завтра – завтра будут те же тяготы и труд.
Завтра караван пойдет дальше. Она будет стоять рядом с Адамом и глядеть, как удаляется облако пыли, слушать, как затихает шум и наконец замрет вдали. Потом уляжется и пыль. И все станет в точности таким, как было раньше: он, она и вокруг только свет и пространство, только совершенная, беспримесная боль. Но сейчас им будет еще тяжелее, потому что отныне их будет преследовать воспоминание о сегодняшнем вечере.
Может быть, повернуть вспять и пойти вместе с племенем? Среди людей они не погибнут. У готтентотов есть мясо, есть кислое молоко, много меду, у них смех, разговоры. Пусть даже они придут в Капстад через год – какая разница? Ведь впереди целая жизнь.
Как, повернуть вспять и идти той же страшной дорогой? Нет, об этом Элизабет не могла даже помыслить, она слишком устала. Пусть ее пощадят, она не хочет принимать решения. Никогда еще Капстад не был так близко. Он снова вошел в их жизнь: его непостижимым образом вернула встреча с готтентотами. Эти бусы и медные монеты им дали в Капстаде, месяц назад эти люди были там. Они видели дворец с его пятью массивными башнями, просторную площадь, где стоит виселица, каналы, спускающиеся от Гееренграхта к морю, видели Гору, с вершины которой Элизабет глядела на раскинувшийся внизу синий океан, на выбеленные дома под тростниковыми крышами, янтарными, бурыми или даже черными от старости, дома, которым не страшна ярость юго-восточных ветров. Видели, как в гавань входят рыбачьи лодки, нагруженные сверкающей на солнце рыбой, как подплывают баркасы, которые везут с острова Роббен сладкий инжир и кристально чистую воду из колодца, песчаник из карьеров для строительства домов, видели, торжественный выезд губернатора и советников, ее отца в карете, Phoenicopterus ruber, рабов, зачерпывающих воду в фонтанах возле тенистого парка, видели мельницы, шелковичные деревья…
Капстад – не мираж, он есть, он существует, он всего в нескольких неделях пути. Готтентоты его видели, вон они пляшут, и в глазах у них еще стоит ее Капстад.
Долго еще продолжалось веселье, но наконец все улеглись спать вповалку на земле, Элизабет с Адамом стиснули в темноте тела каких-то незнакомых людей. Она вдыхала вонь прогоркшего сала, которое они смешивали с порошком из листьев баку и обмазывали себя с головы до ног. Но разве ее собственный запах лучше? Она прижалась в полусне к лежащему рядом телу, не думая о том, кто это, да и не все ли равно, ночь такая холодная, а они лежат рядом и согревают друг друга, все эти свернувшиеся калачиком люди…
Среди всех этих темных тел в темноте он безошибочно нашел ее, обнял и прижал к себе… Я люблю тебя больше, чем свою жизнь. Все, что у нас с тобой есть, – это единственный миг близости, который дает нам ночь: вот мое тело, вот я, возьми меня. Я хочу слышать твой шепот у моего уха, вонзи мне в плечо свои маленькие белые зубы, заглушая стон наслаждения. Роди мне сына, и пусть он когда-нибудь станет свободным. В твоих удлиненных глазах – видения Явы, на твоем-быстром влажном язычке имена ее вулканов и рек, в твоем имени заключено мое спасение, в твоей тьме я прозреваю и вижу, что избавление возможно. Завтра я буду ждать тебя возле калитки, а потом кто-то скажет, что тебя продали и взяли хорошую цену. Все это ждет меня завтра, завтра я потеряю тебя навеки, но сейчас, этой быстротечной ночью, ты принадлежишь только мне…
… – Ну что, идете с нами? – спросил их утром готтентот, когда все племя уже собралось в дорогу и сгоняло овец и коров!
Она покачала головой.
– Нет, нам нужно в Капстад. Теперь уже недалеко.
– Но там, впереди, очень плохо.
– Дойдем. Вы нам дадите немного еды?
– А что взамен за еду?
Они развязали свои узелки. У них почти ничего не было. Хотите ее раковины? Нет. Мы возьмем пистолет и порох с патронами. Но они нужны нам самим! Ну что ж, тогда не взыщите. Бог с вами, берите. Все забирайте, у нас ничего нет. Оставьте мне только платье, которое сшили в Капстаде, наши передники и кароссы, наше самодельное копье, посохи, колчан со стрелами…
Взамен они получили несколько бурдюков с молоком, половину овечьей туши, целебных трав для его раны.
– Как отсюда ближе всего пройти в Капстад?
Объясняли все разом, показывали руками – идите все прямо и прямо, туда, откуда мы пришли.
– А есть вода по дороге?
– Да, ключ в двух днях пути, – сказал готтентот, знающий по-голландски. – У подножья каменного бугра, который похож на спящего льва. Коровы там все истоптали и выпили, но вода есть, вы только выройте колодец.
– И все?
– Еще через десять дней будет ферма.
– А люди?
– Есть люди, есть. Гонкхойква. Хозяин стрелял в нас, – угрюмо добавил готтентот. – Сказал, столько народу он не может напоить, воды не хватит. Ругался и проклинал утробу своей матери.
Потом все кричали и махали им руками. Поднялось солнце – огненный диск. Караван шел, все уменьшаясь и уменьшаясь на огромной равнине, и рыжая пыль влеклась за ним до самого горизонта. Адам и Элизабет остались одни.
– Теперь уж мы непременно дойдем, – сказал он.
Впереди, в десяти днях пути была ферма и люди.
Через несколько дней после ключа, вокруг которого все было истоптано стадом, они опять увидели грифов. Адам первый заметил груду камней на равнине и догадался, что это одна из бесчисленных могил Хейтси-Эйбиба. Но грифы были не возле груды, а ближе, они вились над небольшим овражком. И уже издали было ясно, что означает этот смрад.
Адам хотел сделать крюк, он знал, какое зрелище перед ними предстанет, но в Элизабет проснулось любопытство.
– Там готтентоты, – коротко сказал он в ответ на ее расспросы.
– Что за готтентоты, откуда они взялись? – продолжала настаивать она, что-то вспомнив и уже смутно понимая.
Они остановились на краю оврага, выдутого ветром в твердой, как камень, земле. Дно было черным от грифов, птицы и не подумали взлететь при виде людей и продолжали спокойно трудиться над трупами. Вокруг валялись раскиданные ветки и кароссы, которыми когда-то их накрыли. Неглубокие могилы ведь нетрудно разрыть. Среди мертвых было трое взрослых – судя по всему, стариков – и несколько детей, наверное, они ослабли от болезней и не могли идти с караваном.


