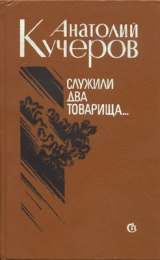
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Горин зажег фонарик, порылся в планшете под головой и протянул фотографию вместе с фонариком.
С открытки смотрели две детские мордочки: глаза сощурены от солнца, носы облупленные, как молодые картофелины, у девочки две тоненькие косички, тугие, как проволочка. Между детьми стояла женщина таких могучих форм, такого внушительного объема и с таким добрым лицом, что невольно рот у меня расплылся в улыбку, когда я попытался представить рядом с нею Горина.
– Нравится? – спросил Горин.
– Отличные ребята.
– Пора домой, в школу, а то Витька верхом на ослах ездит, и, предполагаю, других увлечений у него пока нет. Ну вот, отвезу домой, демобилизуюсь – я ведь из запаса – и отправлюсь разъездным корреспондентом по стране. Посмотрю, как народ снова работает. Книгу, может быть, напишу «Записки военного корреспондента». В последний раз все героическое припомню, о всех ребятах расскажу: о живых и о тех, кто не вернулся. О тебе, Саша, расскажу. Напишу: есть у нас в стране такой Сашка Борисов, золотой парень. Вышел у него один глупейший случай, да был у него характер геройский и совесть, выбрался и пошел бомбить, стал воздушным снайпером – с трех тысяч метров бомбу клал в спичечную коробку. Подходит, Саша? Потом наш герой демобилизовался, ушел в гражданскую авиацию или тракторы стал строить – как хочешь. Не хочешь? Ты где жил?
– В Стрельне.
– Ну, в Стрельне птицеферму заведешь.
– Ерунда. Пойду в Военную академию, если жив останусь.
– Согласен. Слушатель Военно-воздушной академии Саша Борисов.
– А ты что кончал?
– Институт журналистики. Нет, я для себя все нашел. Разве вот дипломатом? Не шучу, меня профессия дипломата очень привлекает. Такие эпохи, как наша, усиливают интерес к дипломатии. Война – только продолжение дипломатии другими средствами. Слыхал? Ну, в академии узнаешь.
– Ты бы сразу рванул в наркомы, Горин.
– Не смейся, могу быть вполне приличным наркомом. К примеру, по делам печати. Справился бы. И ты лет через десять, может быть, вырастешь до наркома, и поставят тебя, Саша, к примеру, управлять авиацией.
– Я не управлять, а летать хочу.
– Хорошее желание, – сказал Горин.
В ту ночь мне очень захотелось рассказать ему о своем замысле, который помогал мне жить в эти трудные дни. Это не была тайна, но я еще почти ни с кем о нем не говорил. Теоретически я все проверил, и мое предположение должно было подтвердиться. А если так, тогда… Но мне даже не хотелось думать, что будет тогда, потому что тогда все будет замечательно, хорошо…
Я лежал на полу в спальном мешке и спрашивал себя: сказать или не сказать? Я любил Горина, люблю его и сейчас, и расположение, которое я к нему испытывал, советовало – скажи!
– Ты не спишь, Горин? – спросил я.
Он не спал.
– Итак, ты напророчил, что Борисов будет прицельно бомбить в спичечную коробку. А что, если ты недалек от истины? Должен признаться, есть у меня такая теория, такая идея полета, что прицельность бомбометания увеличится во много раз.
– А, черт возьми, давай ее сюда, твою идею! – воскликнул Горин, скинул одеяло и сел на топчане. – Обожди, я зажгу свет. От полу у тебя дует, как из ледника.
Длинный и белый стоял Горин у ящика, служившего столом, и возился с лампой.
– Обожди, Саша, я только достану планшет. То, что ты говоришь, очень важно. Если это правильно, ты будешь известен на всю Балтику. Да что Балтику – от Тихого до Атлантического. Метод старшего лейтенанта Сашки Борисова, метод, родившийся в конце ленинградской блокады, метод, который помог ее сломать! Звучит, а? Теперь только посмей утверждать, что ты потенциально не Герой Советского Союза.
Горин радовался, как мальчик.
Я вылез из мешка, снял с гвоздя планшет, достал тетрадку, и мы углубились в расчеты. Мы сидели часа два и замерзли так, что зубы у нас начали выбивать чечетку. Горин принадлежал к тем журналистам, которые отлично знают жизнь, о которой пишут. В душе он был летчик, болельщик, энтузиаст.
Сейчас не стоит подробно излагать мои соображения прежде всего потому, что они стали впоследствии общеизвестными. Ничего особенно оригинального, кроме новой точки зрения на предел минимальной высоты сбрасывания бомбы, в них не было.
Только полет мог решить, прав я или нет.
Мне нужно было вылететь, вылететь хотя бы с Булочкой и, как говорится, проверить все на опыте.
Горин все отлично понимал, чертил карандашом в моей тетрадке, потом яростно грыз карандаш, выплевывая кусочки дерева:
– Тебе надо лететь, Саша, – повторил он раз сто за ночь.
* * *
Все события вдруг понеслись вперед с невиданной быстротой. Мы получили задачу сфотографировать несколько участков немецких укреплений в районе Невы, Шлиссельбурга и Ладоги. При значительном сосредоточении зенитных средств у противника это задача тяжелая.
Дело в том, что фотографу во время съемки надо пролететь над объектом съемки строго по курсу, не меняя высоты и совершенно отказавшись от маневра. В эти мгновения самолет-фотограф – идеальная цель, и расчет только на то, что выход на курс фотографирования и окончание работы неожиданны, кратковременны и враг не успеет пристреляться.
Работу поручили Калугину. Но погода все время мешала.
С Калугиным я не разговаривал. Он по-прежнему отворачивался, когда видел меня, или опускал голову и шел сумрачный своей медвежьей походкой. Мы избегали друг друга.
Салага Ярошенко заболел детской болезнью – корью. Заболел тяжело, его отправили в госпиталь и, по-видимому, надолго. Я гадал, кого теперь Калугин выберет штурманом. Выбор оказался неожиданным: Калугин снова взял новичка и при этом не из сильных.
Как потом передавали, он мрачно сказал командиру:
– Ничего, выучу.
Майор посоветовал другую кандидатуру, но Калугин настоял на своем под тем предлогом, что надо учить молодых.
Выбор Калугина казался глупым, возмутительным, мальчишеским. «Но какое мне теперь до этого дело! Не могу же я из-за этого не спать ночей? Правда, занятно, почему он остановился на Суслове». Иногда даже мелькало предположение, что выбор только на время, что Калугин ждет… «Но в конце концов ничего глупее нельзя было придумать. Не меня же он ждал? Любопытно, как теперь у Калугина пойдут дела с точностью бомбометания? С таким штурманом, конечно, хлебнешь горя».
Погода выдалась наутро ясная, с отличной видимостью. Снег лежал белый, очень чистый после метельных дней. Легкий мороз высушил воздух. Одинокие сосны вокруг аэродрома и лес, одетый в изморозь, ослепительно сверкали на солнце, каждая веточка, как сахарная. У капониров чернели бушлаты. Вдруг тучи снежных искр одевали все вокруг, и весь аэродром начинал дрожать и гудеть с оглушающей силой: заводили моторы.
Люблю эту громоподобную музыку. Натягиваешь комбинезон, унты. И вот уже затянут ремень и пистолет на боку, и меховой шлем на голове, и карта с линейкой в планшете, и ветрочет в кармашке над правым коленом. И через час, через какой-нибудь час тебе предстоит быть над целью, нанести удар, пройти сквозь огонь, уйти от огня и вернуться в «порт», на родное поле, с удачей, с пробоинами, с рассказами.
Присмотритесь к лицам летчика и штурмана, выполнивших боевое задание (впрочем, где же теперь поглядеть? К счастью, негде). Сколько радости, сколько сил и какая живая улыбка!
Уже с раннего утра разлилось гуденье в тот день и затопило аэродром, пробуя, хорошо ли вмазаны стекла в землянках, ударяясь в стены, шевеля маскировочные ветви елей и сосен. Уже с раннего утра оно предвещало большой день.
Началось. Что, собственно, началось?
Нет, это был просто первый неплохой летный день для фотографирования, для учебного бомбометания.
Оживилась и наша третья эскадрилья. Завтракали второпях, потом с горящими от ветра лицами проехали на полуторке из столовой к самолетам.
Командир эскадрильи уже здесь.
– Ну, держитесь, Морозов, – сказал я Булочке, – не торопитесь над целью и слушайте штурмана.
Он внимательно смотрел мне в глаза. Он мне очень нравился, этот молоденький летчик.
Я провожал экипаж на старт. У легковой машины недалеко от «Т» расхаживал майор. Он был необычно тороплив: и его расшевелила погода. Мы поздоровались, я отошел.
– Выпускаете, Борисов? – крикнул он вслед и догнал меня. Мне показалось, что он хочет о чем-то спросить.
– Так точно, выпускаю, – отрапортовал я, – разрешите пойти за ракетницей?
Майор посмотрел внимательно и кивнул.
К самолетам подходил со своими экипажами Калугин. Из его эскадрильи три машины летели на фотографирование. Еще издали я заметил его фигуру. Я узнал бы его, кажется, и за тысячу метров.
Прошел инженер. С инженером я теперь не встречался. Если случай сталкивал нас нос к носу, тогда я, конечно, здоровался. В воздухе повисала пустая фраза: «Как дела, Борисов?» Ненавижу этот дурацкий вопрос. Какие дела? Почему спрашивают о делах, когда не о чем спрашивать? Я, конечно, не оригинальничаю: я бросаю в ответ первую пришедшую на ум бессмыслицу: «Лучше всех».
Калугин летел на семерке, новой голубой машине, и пока мои питомцы садились и ждали своей очереди, я стоял в сторонке и следил за Калугиным.
Калугин подошел к майору и отрапортовал. Вместе с ним подошел Суслов. Может быть, Суслов неплохой штурман, но мне он не нравился. Он вечно что-нибудь забывал, и всегда с ним что-нибудь особенное приключалось.
Калугин отлично взлетел. Я всегда узнавал его по взлету. Не описав круга, он пошел на юго-восток. Он шел невысоко, и немцы, вероятно, уже заметили его. Мы стояли так близко друг к другу, что все было видно. Одно время они начинали артиллерийский обстрел, когда мы взлетали, но прицельность была неважная, толку немного, и они предпочитали обстреливать город.
Калугин шел на юго-восток, и я следил за ним, пока голубой не исчез за соснами на краю аэродрома.
Он должен был вернуться с фотографирования через полчаса.
Теперь пора было выпускать моих ребят. Их повел командир, я давал старт.
Машины стояли на линейке. Я поднял ракетницу, оранжевая ракета взлетела к небу и рассыпалась. Гул мотора заглушил звук выстрела.
Все машины одна за другой скользнули мимо, обдавая бешеным ветром и снежной пылью. Одни грубо подпрыгивали, другие шли легко и нежно, и у меня было такое чувство, будто они прощаются со мной, и мне хотелось лететь за ними. Я стоял с пустой ракетницей на крепчавшем ледяном ветре.
– Замерзли? – За моей спиной стоял майор Соловьев. – Должен вас поблагодарить за ночную беседу в обслуживающем подразделении. Конечно, у вас не было времени подготовиться, но вполне хорошо получилось.
– Ну, знаете, товарищ майор, они мне больше рассказали.
– Ничего, ничего. А теперь выступите с докладом. Через три дня Новый год, вот вы и доложите об итогах военного года. Материал вам подберет Величко.
Комиссар – по старой памяти я называл его комиссаром – смотрел внимательно, глаза у него были чистые и доброжелательные. Я сказал:
– Есть, товарищ майор.
Может быть, я не должен был соглашаться, но я так сказал. Мне не следовало доверять такого доклада.
Нелепо, что я дал слово, но если уж дал – надо держать. Я сказал, что зайду за литературой.
Мы еще немного прошли вместе, потом я свернул в столовую, потому что был второй час.
В столовой народу немного. Вот и стол командиров эскадрилий. Люба подбирает для него лучшие ножи и вилки и тарелки с синим ободком. На столе зимой всегда бумажные цветы.
Приборы ждут тех, кто улетел, чистые, свежие, холодные.
Приборы ждут…
Люба принесла суп. Я почему-то вспомнил, что через три дня Новый год, и сказал ей об этом.
Люба взглянула удивленно. Ей было странно, что можно забыть о таком дне.
И мне тоже немного странно: вот и Новый год, новая обстановка. А я три месяца не писал Вере. Когда же я соберусь с силами и напишу?
Но мне некогда думать об этом, потому что и здесь, в столовой, слышно, как возвращаются самолеты. Я быстро кончаю свой обед без летного компота и спешу на аэродром. Мне хочется взглянуть, как возвращаются с учебного мои мальчики, узнать, как бомбил Булочка. А фотографы должны бы уже прилететь.
У «Т» садятся самолеты – первый, второй, третий. Все!
Вот и фотографы вернулись – один, два… Третьей машины нет.
Так. Третьей машины нет. Но беспокоиться еще рано. Я всматриваюсь в самолеты. Кто не прилетел? Не было голубого.
Теперь можно взглянуть на часы.
В запасе еще сорок минут, но зачем же Калугину лететь сорок минут?
Я подошел к летчикам второй эскадрильи.
Шел очень знакомый разговор. Нетрудно было понять, что задание выполнено и фотографии должны получиться очень хорошие: каждый кустик был виден на снегу.
Потом, как всегда, говорили об огне, о заходе на цель и, как всегда, кто-то сказал: «Посмотрели бы на мое правое крыло – решето!» Еще кто-то говорил о пробоинах.
О Калугине спрашивали все.
– Я не видел его, – сказал правый ведомый. – Сначала капитан шел впереди, а когда стали ложиться в обратный, он отстал.
– Тут был сильный огонь, я ушел в облака, – сказал командир второго экипажа.
– А Калугин?
– Я как отлетел, оглянулся, вижу: далеко, но идет.
Много раз я слышал такие рассказы.
Летчики зашагали на командный полка, и я пошел за ними. Я не мог иначе.
Меня обогнал штурман второго экипажа Гусев, добродушный и добрый парень, тоже старик, ударил по плечу:
– Повезло тебе, Борисов, – сказал он дружелюбно, – ничего не скажешь – повезло!
– Не мне повезло, а Калугину не повезло.
«Если бы он не летел с этим растяпой Сусловым…» Я не мог, да и не хотел говорить.
Майор не удивился, когда я вошел вместе с летчиками второй эскадрильи. Я отодвинулся в угол. Майор, как всегда, был хмур, пригласил всех сесть, но опроса не начинал. Он смотрел в окно. Перед ним на карте лежали часы.
Оставалось минут пять, не больше.
Никто не заговаривал, а майор думал о Калугине, как и все летчики, как весь аэродром в эту минуту. Майор смотрел в окно.
Небо было очень голубое и очень чистое – ни одного облачка.
Потом майор перевел глаза на часы, со звоном защелкнул крышку, взял папиросу из коробки и разрешил курить.
Все закурили и заговорили. Потом отложили папиросы, и начался обычный послеполетный доклад.
Майор спрашивал каждого:
– Когда вы видели Калугина в последний раз?
Ответы не принесли ничего утешительного: разноречивые, они не помогли составить ясного представления о судьбе Калугина.
– Я не хочу думать, что мы потеряли Василия Михайловича (майор еще никого не называл по имени и отчеству; это был первый случай в полку). Еще не хочу думать. Пехота сообщит более точные сведения. Но задачу вы решили, и важную задачу, – подумав, добавил майор. – Ваши фотографии понадобятся, может быть, на этих днях. Понятно ли вам, что это значит? – Он снова помолчал. Он всегда говорил очень медленно, но в этот раз это было особенно заметно.
Майор поднял глаза и не спеша обвел всех взглядом. На мне тоже задержался его взгляд.
Я вышел из землянки. Меня никто не звал на послеполетный разбор, и мне не полагалось на нем присутствовать. Я опустился на скамеечку у входа на КП.
Звено первой эскадрильи уходило на задание по батареям. Самолеты низко прошли над аэродромом, исчезли за соснами, и сразу стало тихо.
Издали доносились разрывы. Судя по звуку, обстреливался Выборгский район.
Я вспомнил тридцать шесть вылетов с Васей Калугиным. Я мог бы рассказать подробно о каждом, я вспомнил его доброе лицо и наше первое знакомство, дружбу, и как он спас мне жизнь, и его бешеную ярость доброго и вспыльчивого человека, вспомнил бесстрашную Настеньку и почти женственную мягкость отношения Калугина к ней. Кто теперь напишет Настеньке о его смерти?
И снова вспомнился он в первые дни войны, в дни отступления, и в первую голодную зиму блокады. Наши разговоры в свободные часы поздно вечером в темноте, когда папироса или трубка то разгорается и на минуту вырывает из темноты лицо товарища, то потухает. А койки в землянке так близко, что, не вставая, можно пожать друг другу руку.
О чем мы говорили? О победе, о конце войны, о втором фронте, о фашизме, конечно, о Вере и Настеньке, о любви, о счастье. О ремесле авиатора. О будущем, о коммунизме. Мы говорили обо всем на свете и никогда не уставали при этом.
На многое мы смотрели по-разному, и это было только интереснее. Потом все кончилось.
Я достал трубку из унта, набил ее и закурил. Но вкус у трубки был горький.
Калугин подарил мне эту трубку с мундштуком из вишневого дерева. Он привез ее с юга и очень любил и, заметив, что она мне тоже нравилась, подарил мне, а я подарил ему свою. Но курили мы чаще папиросы.
И, глядя на трубку, захотелось вдруг уйти куда-нибудь подальше, чтобы никто не видел. Я обошел землянку, сел прямо на снег там, где никто не ходил, и прислонился к зеленым сосновым ветвям, припорошенным молодым снежком.
Миновал, вероятно, час, а я все еще сидел на снегу, и никто не тревожил меня.
Когда я вернулся в эскадрилью, Власов резко спросил, куда я уходил: надо было писать донесение об учебных полетах. Но, посмотрев на меня, отвернулся и потом спросил:
– Ну как, есть новости о голубом?
Новостей не было.
Я сел за донесение. Подошел Булочка. Его молоденькое лицо все еще горело после полета.
– Все три в цель, – сказал он, наклоняясь ко мне, и Власов, услышав его слова, подтвердил:
– А Морозов молодец, точно ввел в пикирование.
Булочка, конечно, расцвел, и стало веселее.
Ужинать я пошел со всеми. На столе командиров эскадрилий стоял прибор Калугина и ждал его. Рядом, мрачно склонившись над тарелкой с кашей, сидел Власов.
Принесли послеполетные сто граммов. Власов шепнул что-то Любе, и она принесла лишнюю кружку с водкой.
– Борисов! – крикнул мне Власов. – Подойдите сюда. Вот порция Калугина, – он усмехнулся, – я думаю, ее следует разделить с вами, Борисов.
Он отлил командиру первой, себе и протянул мне то, что осталось в кружке.
– За Калугина, – сказал Власов, – чтобы он вернулся.
Командир первой ничего не сказал.
– За прорыв блокады.
Мы сдвинули кружки и молча выпили.
В раздевалке я налетел на длинную фигуру Горина. Он только что вылез из шинели и, так как вешалка была занята, привстав на носки, пристраивал шинель на крюк под потолком.
– Борисов, Сашка! – закричал он, сверкая глазами из-под мохнатых бровей. – Есть героическое?
– Есть, – сказал я, – погиб Калугин.
– Враки, – засиял Горин. – Я сейчас от артиллеристов, Вася сел у соседей, фотоаппараты и пленки целы.
Тощее лицо Горина ослепительно сияло.
– А ты говоришь – погиб. Ничего героического… Калугин, Калугин такой молодчина, черт побери, такую сделать посадку, так спланировать! А ведь можно было, скажу тебе, посыпаться: не разберешь, где крыло, где нога.
Горин схватился за голову и продолжал вдохновенно:
– Герой! Герой твой Калугин! Впрочем, он теперь не твой…
Я, кажется, тоже горячо и задыхаясь, сказал что-то вроде:
– Вот это да!
В передней никого не было. Мы посмотрели друг на друга, засмеялись и обнялись:
– Ну, вот еще нежности! Пошли скорее ужинать! Я готов сейчас проглотить и кашу и Любу в придачу.
– Но, но, не очень, – сказала Люба, выскочившая в эту минуту с подносом из кухни.
Люба все понимала по-своему.
– А знаешь, Люба, Калугин жив! – сказал я и почувствовал, как по моему лицу разливается глупейшая счастливая улыбка.
Люба радостно вскрикнула и, поставив поднос с тарелками тут же в передней на окно, бросилась на кухню передать мои слова.
Я вдруг почувствовал, что хочу есть, как волк, и забыл вкус ужина.
– Пошли, надо объявить ребятам, – сказал я. Но это предложение запоздало, потому что Горин уже кричал в мгновенно наступившей тишине:
– Калугин жив, сел у соседей, пленка цела!
Я не находил себе места, пока не узнал, что вернулся весь экипаж. Калугин был легко ранен, Суслов расшиб голову, Сеня Котов не пострадал. Меня занимало, какая роль в этой истории была у Суслова. И я очень удивился, когда узнал, что Калугин похвалил Суслова и сказал, что он отлично вел фотографирование и с толком держал себя.
Вечером я зашел к нашему фотографу взглянуть на снимки Калугина.
– Вы только молчите, что я приходил.
Фотограф понимающе подмигнул и торжественно объявил, подняв руку:
– Есть, товарищ старший лейтенант!
Это флотское словечко означало у него все, что угодно. На этот раз оно означало: «Я по-прежнему расположен к вам и в своем решении молчать тверд как скала».
Снимки получились великолепные. Калугин фотографировал с малой высоты. На пленке отчетливо виднелись не только развалины восьмой ГЭС, но и черные линеечки немецких окопов, расположение батарей и даже ходы сообщений. Нелегко было привезти такие сведения.
Но меня занимали не только снимки, а и то, почему так пристально изучался этот район. Вероятно, здесь предполагался главный удар, и я не мог думать об этом без волнения.
* * *
Днем позвонили с поста у въезда на аэродром, и тоненький задорный голосок какой-то «бойчихи» доложил:
– Товарищ старший лейтенант, тут вас дожидается младший лейтенант, приходите сюда скорее.
Что за лейтенант? Что он там торчит, если у него ко мне дело? До заставы у въезда на аэродром больше километра. Ну, думаю, была не была, раз ждут – пройдусь. Иду, а навстречу замполит Соловьев.
– А, Борисов! Торопитесь, – говорит и улыбается с неизменным добродушием. – Там вас один младший лейтенант ждет. Я уже распорядился, чтобы пропустили.
Прошел еще двести метров – майор. Отдал я честь, а он остановился, словно сказать мне что-то хочет, и по своему обыкновению этак сухо и холодно смотрит, но с какой-то своей усмешечкой, которую я стал примечать с недавнего времени.
Сначала она мне очень не понравилась, презрительной показалась, а потом ничего, даже приятнее стало его лицо с этой усмешечкой. Я, конечно, тоже остановился.
– Ну, как дела у вас? – спрашивает. – Готовится эскадрилья к операции?
– Готовится, товарищ майор.
– А молодежь как вам, Борисов?
Я изумился этому вопросу: действительно, очень ему интересно знать, что я думаю о молодежи. Язвительный все же человек! Но я, конечно, не показываю вида и говорю в соответствии с уставом спокойно и вежливо:
– Молодежь способная и воевать стремится, товарищ майор.
Он кивнул раза два и потрогал усы. Это у него означало, что он очень доволен. Я-то давно разгадал, что значит этот ерундовский жест, пригляделся за последнее время. Вдруг майор хлопнул себя по лбу, будто едва не забыл что-то очень важное и, к счастью, вспомнил.
– Да, Борисов, – говорит, – у заставы дожидается младший лейтенант, а я вас тут задерживаю. Можете быть свободны.
Я даже обалдел от этих его слов. Что им всем дался какой-то младший лейтенант? Что за удивительный лейтенант? Даже шагу прибавил.
Иду и еще издали вижу фигуру в армейской форме: сапоги, шинель длинная, зимняя шапка. И вдруг замечаю, что фигура у лейтенанта женская.
«Кто бы это?» У меня и в мыслях не было, что Вера. Я и подумать не мог об этом.
И вдруг – Вера! Ну конечно. Вера!
Вера узнала меня и бросилась навстречу.
Снег по краю аэродрома глубокий, вязнут сапоги. Добежали друг до друга. Остановились.
Вера осунулась, потемнело лицо, но глаза сияют.
– Какой ты худущий, хмурый… – Вера положила мне руки в огромных варежках на плечи, поцеловала в колючую щеку, отстранилась, разглядывая, – живой и самый настоящий!
– А ты странная в форме, совсем другая.
– Глупости, какая была, такая и есть. Мне тоже очень странно, что я тебя вижу, Саша, что стою рядом. Даже не верится.
И Вера вдруг быстро заговорила о том, как узнала, что ей на попутной машине до аэродрома недалеко, вполне можно добраться, и отпросилась.
Я взял ее руку, и мы, увязая на заметенной тропинке, пошли вдоль капониров.
– Знаешь, я тебя сначала часто искала, когда новых привозили к нам в госпиталь, особенно когда летчиков. Я всегда к ним ходила; иду сама не своя. Мне уж и няни говорили: «Иди, твоих привезли». Потом привыкла…
Мы шли по глубокому снегу. От волнения я выбрал самую узенькую дорожку. Да и куда мы шли?
– Нет, лучше сядем где-нибудь, – Вера улыбнулась, обняла меня и еще раз поцеловала на морозе.
Недалеко стояла наша дежурная полуторка. В кабине дремал шофер.
– Коля, – сказал я, – пусти лейтенантов.
Он был хороший парень. Выскочил на снег.
Сели мы в кабину. Мне не по себе, не знаю, что сказать. А Верочка все еще не замечает, веселая, возбужденная.
– А помнишь, ты так настаивал, чтобы я уехала, помнишь?
– Помню.
Вера сняла варежки, стянула и с меня рукавицы. Руки у нее были нежные и душистые, как прежде, только самые кончики пальцев холодные, и я потер их, чтобы согреть.
– …Но раз я не уехала, – продолжала Вера, – не могла я жить без настоящего дела, понимаешь, Саша? И в комнату свою не могла возвращаться: приду – пусто, холодно, коптилка и коврик, книги, фотографии – только прошлое, одно прошлое. Словно все глядит на тебя из другого мира. И грустно и жалко и себя и других. И даже жить как будто не охота. А это уж глупости, в такое время человеку жить очень хочется, Саша, отчаянно хочется жить! И обязательно должно хотеться жить… Как же сопротивляться, если все надоело? Ты меня слушаешь? Прости, что я так бестолково говорю, но у нас мало времени, а рассказать надо много.
Вера сдвинула ушанку и положила голову на мое плечо, прижалась щекой и засмеялась.
Я только слушал, молчал и ждал, что она вот-вот спросит обо мне.
– …А тут в госпитале советуют, – продолжала Вера: – «Служите вы все равно как военная, от походов домой только силы теряете, вы теперь на всю войну с нами, никуда от нас не уйдете, мобилизуйтесь в армию». И ведь правда: куда я пойду, зачем, за какое примусь более важное, более полезное дело? Ты меня слушаешь, Саша? У тебя глаза такие, словно ты еще о чем-то думаешь… Ну вот, решила я мобилизоваться, потому что иначе не могла, потому что здесь я нужнее, потому что здесь я со всеми и с тобой. Пришла в военкомат. Какой-то капитан меня спрашивает: «Одна, не замужем?» Я сказала, что замужем, что муж штурман морской авиации. Правильно? Я молчал.
– Почему ты молчишь? Что у тебя, Саша?
Вера отодвинулась. Она все еще была под впечатлением встречи. Счастье светилось в каждой черточке ее лица, в каждом движении. И у меня не было сил его разрушить.
– Ничего особенного.
– Нет, что-то есть. Ну, а не особенное? Что с тобой, Саша?
Я не знал, как подойти к тому, о чем я не должен был, не имел права молчать.
– Что у тебя дома?
Я рассказал о смерти отца, о жизни матери и сестры, рассказал коротко. Что ж тут длинно рассказывать…
Вера ничего не сказала. Мы сидели в кабине, и она задумчиво водила левой рукой по холодному стеклу спидометра. Правую я все не отпускал.
– А еще что?
– Вера, тебе не надоело сидеть в кабине? Походим.
– Хорошо, Саша. Конечно, походим.
Мы вылезли из кабины и пошли вдоль летного поля. Снова начала мести метель, и все впереди казалось серым. У самолетов работали техники, и моторы по временам ревели на весь аэродром. Я по привычке не замечал, а Вера вздрагивала. Моя меховушка и Верина шинель побелели.
Глаза у Веры померкли, в них появилась какая-то растерянность.
– Не бойся, лучше прямо скажи. Помнишь, я тебе говорила, что ничем не хочу тебя связывать, сделай, как тебе лучше.
Я остановился:
– Что ты выдумываешь?
– Я не выдумываю, я спросила: правильно я сказала, что у меня муж штурман морской авиации? Ты не ответил.
– Потому что я не штурман больше, Вера.
Она посмотрела с удивлением.
– Почему? Ты ранен? Ты болен?
Вера испуганно заглянула мне в лицо.
Я стоял, опустив руки, и рассматривал снег под ногами. Так мало вдруг стало места, куда бы я мог смотреть.
– Мне пришлось уйти из эскадрильи Калугина и потом… потом у всех летчиков свои штурманы, – сказал я совсем тихо.
– Правда? – спросила Вера.
Вера переспросила, и мне пришлось повторить:
– Калугин разбил из-за меня самолет… Так случилось…
И я ей все рассказал.
Теперь я ждал ответа. Но Вера молчала, и мы все еще стояли друг против друга.
Снег таял у нее на ресницах, потому что она стояла лицом к теплому ветру. Снег ложился на мою меховушку, и, странно, я ощущал его тяжесть.
Я молчал.
Все было сказано, и ничего не надо было добавлять.
– Ну и что? – вдруг сказала Вера. – Все живы, и ты живой. Мне нужен ты, а не самолет. И, пожалуйста, не раздувай эту историю. Все будет как надо… Сядем, я все же устала, пока ехала к тебе в открытой машине.
Вокруг было пустынное летное поле, и даже полосу уже замела метель. Я провел Веру к самолету.
Самолеты стояли у нас в капонирах. Я уже, кажется, говорил: это такие дворики, вместо крыши – брезент, чтобы теплее работать и чтобы самолеты не засыпал снег. А вокруг маскировочные свежие елки.
В капонире было темно, холодно, как на улице, и только не было ветра.
Я усадил Веру на бревно и сел сам.
Мы сидели рядом. Вера не смотрела на меня и ждала.
– Ну, что ж ты молчишь? Я понимаю, это могло с тобой случиться. А с другими, с твоими товарищами?
Вера робко посмотрела на меня. Я решительно покачал головой.
– Понимаешь, Вера, я ошибся, когда нельзя ошибаться, понимаешь?
Она взяла мои руки в свои и стала их согревать, потому что я забыл надеть рукавицы.
Мы плохо видели друг друга в темноте, хотя ее лицо было рядом с моим.
– Не жалей меня, пожалуйста, не надо жалеть. Я буду летать, Вера, что бы мне для этого ни пришлось вытерпеть. Я буду летать, потому что иначе не могу. Не могу работать на земле, когда товарищи летают… И еще скажу тебе, у меня родилась одна мысль…
Я рассказал Вере без подробностей, о чем рассказал Горину, и, когда окончил, торопясь и задыхаясь, Вера сказала:
– Ты будешь летать, Саша, и я нисколько тебя не жалею.
* * *
Мы долго сидели в капонире, уже совсем стемнело. Я едва различал черты Вериного лица. А она, словно успокаивая меня, повторяла:
– Ты будешь летать. Я люблю тебя больше, когда ты летаешь. Мне лучше, я счастливее, когда ты уходишь и потом возвращаешься в «порт». Кажется, ты так рассказывал. Ты, конечно, будешь летать, и тебе будет легко, и ты будешь воевать вместе с твоими товарищами.
У Веры задрожал голос, и она почему-то еще раз сказала:
– Я такая уверенная и гордая, когда ты летаешь. И не раздувай всю эту ерунду. Вы, мужики, ужасные выдумщики.
Я поднял с земли ветку ели и стал смахивать с унтов снег. Черт его знает, почему человеку не хватает слов на самое важное в жизни!
– А ведь послезавтра Новый год, – сказал я.
– Ну, конечно, я даже привезла подарок.
Вера открыла сумку. В ней лежали пачка печенья, бутылка вина и шерстяные перчатки.
– Это тебе перчатки, – сказала Вера, – и думай, что я их вязала сама.
Мы все еще сидели друг подле друга, и у Веры было такое славное, хорошее лицо, что мне хотелось расцеловать ее, обнять… Ну, прямо не знаю, как я был бы рад, если бы все было иначе.
Совсем стемнело. Работали только оружейники и мотористы, когда мы шли с Верой по аэродрому. То тут, то там мелькали под укрытиями огоньки. Шел снег и пахнул очень хорошо и молодо. Начиналась новогодняя метель.








