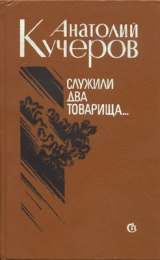
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Особенное это состояние – уходить в полет после перерыва в две недели, представляете? А тут как раз случился такой перерыв, и лететь надо с новым, неопытным штурманом.
Наши комбинезоны, мой и Калугина, висели всегда вместе в маленькой каморке на КП эскадрильи. И одевались мы всегда вместе. Я надевал на черные собачьи унты галоши и подпоясывался потуже. У меня был отличный комбинезон на искусственном меху, теплый как печка. Одеваясь, мы обычно болтали друг с другом. А тут Вася одевался один, и это было неприятно, и мой комбинезон лез, наверное, ему на глаза и раздражал. У Ярошенко были только минуты на подготовку к полету.
– Я как поглядел на него, товарищ старший лейтенант, – вздыхает Котов, – вижу: вся физиономия в пятнах, так волнуется человек, опытному глазу сразу видно.
Я представляю себе, как волнуется Ярошенко. Полет сложный. Вася Калугин сказал ему, наверное, два-три успокоительных слова. Но обычно он перед дальним полетом сосредоточен и, наверное, не замечает волнения своего молоденького штурмана. Как это, черт возьми, скверно! Просто Калугин привык к тому, что мы спокойно уходили в полет. И затем убежден – он думал обо мне, он не мог в эту минуту обо мне не думать.
Взлетела ракета, взял Вася Калугин старт, как всегда. Летят. Ярошенко, наверно, следит за ориентирами. Вот красная труба кирпичного завода, она уходит вправо. Река, над нею туман, его волнует ветер, и он розовеет в солнечных лучах. Я ведь хорошо знаю маршрут, он у меня перед глазами.
Они давно перевалили линию фронта. Осенние осыпавшиеся леса и последние огненные березы, еще сохранившие последнюю листву, плывут на восток. Все плывет на восток. Они ныряют в облака. Самолет сильно бросает. Он то падает, будто в воздушную яму, то выбирается из нее, словно на гребень волны. Ветер – это неплохо: ветер разгоняет туман.
Укачивает, как на корабле. И, может быть, у Ярошенко от волнения кружится голова. Он, наверно, достает ветрочет и проверяет поправки на ветер, и цифры, наверно, плохо складываются и плохо вычитаются. Но, может быть, Ярошенко уже успокоился, хотя ему и трудно. Он в первый раз видит эти повороты реки и лес.
Где– то здесь должно быть маленькое озеро, но озера почему-то нет, хотя по расчету времени ему полагается появиться. Они идут как будто по курсу, а озера нет. Значит, не по курсу?
Я не могу спокойно думать об этом, не могу спокойно слушать Котова.
Ярошенко сверяет расчеты, карту с наземными ориентирами. Справа должно быть озеро. Может быть, его затянул туман? А у него справа лес. Солнце прячется в облака. Внизу уже не видно солнца, тени укутывают землю.
«Товарищ командир, – сказал, наверно, Ярошенко, – у меня что-то с ориентирами».
«Что?»
«Не появляются».
«Проверьте курс».
О, я хорошо знаю этот разговор! Ярошенко снова берется за расчеты. Но цифры пляшут перед глазами, пляшут стрелки приборов, голова под шлемом, наверно, становится мокрой. Бесконечно долго производит он расчеты. И вдруг он видит цель.
«С опозданием на шесть минут», – кричит Калугин в микрофон.
Но тут уже некогда разговаривать: надо заходить на станцию. На путях столпотворение составов.
«Как и предполагали, – говорит, наверно, Калугин, – подбрасывают артиллерию».
На путях стоят платформы, укрытые брезентом, и сверху ветви елей. Что может быть под ветвями? Скорее всего орудия.
Он проносится над станцией почти на бреющем. Вон на шпалах немец с ведром. Он поворачивает голову к небу, видит советский самолет и прячется под вагон.
Штурман, наверно, пытается сосчитать составы, но это ни к чему. Фотографирует, не надеясь на успех: света мало, солнце где-то заблудилось в облаках. И они уходят вверх.
«Дай им прикурить, штурман», – кричит Калугин и кладет самолет вдоль дороги.
Ярошенко сбрасывает четыре сотки и на вираже видит, как они рвутся. Немецкие зенитки уже завели разговор, но Вася уходит, быстро уходит. Экипажу весело: замечательное чувство, когда знаешь, что задание выполнил.
«Давай точный курс!» – кричит в переговорную трубку Калугин.
Они потеряли минут шесть при выходе к цели, а полет – на пределе радиуса. Если теперь отклониться – не хватит горючего.
На земле легкий туман, нельзя сверяться по ориентирам. Под кабиной туман, они врезались в полосу дождя.
«Ты точно рассчитал маршрут?»
«Точно», – говорит Ярошенко, и он не понимает, что это неправда. И мне больно за Ярошенко, мне больно оттого, что я не был там на его месте, на своем месте.
Я вижу все это, словно сам лечу с ними.
Дождь продолжается. Он сечет в смотровое стекло, оно молочно-белое и блестит. Над приборами спокойно горят лампочки. Ярошенко с напряжением глядит на часы, на компас. Фосфорически светятся стрелки и цифры: часы отсчитывают минуты. Ровно тянут моторы. Приборы показывают, как с каждой минутой моторы поглощают свою пищу, неизменно и точно.
Идет дождь.
Вот они перевалили за половину, за три четверти пути. Под крыльями в непогоде не видно линии фронта. Горючее на исходе, мотор принимает последние порции пищи.
Дождь.
Они перевалили линию фронта, а города не видно, хотя он заметен даже затемненный, даже в сумерки: каналы и реки отливают лунным зеленоватым серебром.
Под крыльями Ярошенко угадывает лес и поля. Под крыльями туман, перламутровый сумрак, тени и дождь.
«Где же мы перелетели фронт? – силится понять Ярошенко. – Насколько отклонились? Куда отклонились?»
«Где мы, Ярошенко?» – слышит он взволнованный голос Калугина.
Ярошенко молчит, он не может отвести глаз от стрелки бензомера. Неумолимо ползет она к нулю.
«Где мы, черт побери?»
Что может он ответить?
«Ничего не понимаю, – наверно, говорит Ярошенко, – ориентиров нет, по расчету времени должны сейчас выйти».
«Ты врешь или приборы врут? Провались ты со своими расчетами!»
Может быть, Ярошенко пытается пошутить в ответ – он веселый парень, – но ему не до шуток. Я знаю Ярошенко и все это очень ясно вижу.
Приборы не врут. Когда же он ошибся? Лихорадочно перебирает Ярошенко в памяти отрезки пути.
– Не нора ли, товарищ младший лейтенант? Тут я его, значит, спрашиваю, – волнуясь и жестикулируя, повествует Сеня Котов.
Еще бы не пора! Но Ярошенко отвечает:
«Не торопись!»
И вдруг в наушники он слышит позывные и голос командира с КП:
«Девятый, у вас истекает время».
«Видимость плохая, сбились с маршрута, принимаю решение», – отвечает Калугин.
«Где мы находимся?» – допытывается он у штурмана.
Я понимаю, что тревожит Калугина.
Стрелка бензомера ползет к нулю.
«Иду на вынужденную», – объявляет штурману Калугин. У него деревянный голос.
Стрелка бензомера на нуле.
Хорошо, что дождь перестал. Теперь видна ослепительно желтая полоса солнечного света, пробивающаяся сквозь облака и дымку.
Садиться надо на полянке. У них много шансов скапотировать, и экипаж это отлично понимает. Но выхода нет. Еще минута – и пропеллер остановится в воздухе. Под ними, по всей вероятности, поле, а там межи и канавы. Самолет должен скапотировать, и это почти неизбежно при посадке на колеса.
Вот теперь видна земля; к счастью, на ней нет тумана.
Осеннее небо светлеет.
«Сажусь на фюзеляж», – кричит Калугин.
Они быстро снижаются.
Стрелка бензомера на нуле.
Ярошенко держится левой рукой за спинку кресла Калугина, а правой машинально закрывает лицо. В следующую секунду основательный толчок валит его с сиденья. Калугин приземляет машину на фюзеляж, не выпуская шасси.
Земля. Они вылезают. Наш новенький «Петляков», «Месть уральских металлургов», беспомощно лежит среди полыни и бурых стеблей васильков.
Внизу темнее. Солнце спряталось, вдали пустая дорога.
Тишина – дождь перестал, в воздухе влажный запах осени.
Калугин подходит к Ярошенко, лицо Калугина покрыто мелкими капельками пота. Он еще тяжело дышит. Он глядит на Ярошенко так, словно готов тут же задушить и разорвать его на части.
«Извольте доложить, где мы, товарищ штурман!» – шипит он.
«Мы отклонились в полете, товарищ капитан, – говорит Ярошенко, – не представляю, где мы».
«Не представляешь? А это видишь, скотина, это тебе ясно?» – цедит сквозь зубы Калугин и показывает на беспомощно распластавшийся посреди поля наш новенький самолет.
И вдруг Вася Калугин обмякает и говорит:
«Что я на тебя кричу, салага? Это не твоя вина, это я да Борисов виноваты».
– И тут командир про вас говорит такое, – мрачно подмигивает мне Котов, – как хотите, а повторить не могу.
Ярошенко идет выяснять местоположение вынужденной. Из-за поворота выезжает колонна автомобилей с грузами. Машины мелькают одна за другой. Ярошенко пытается остановить последнюю, но она проносится не останавливаясь.
Вдали появляется новая колонна. Ярошенко, раскинув руки, ждет посреди дороги.
Колонна приближается, она вьется лентой вместе с дорогой. Передняя машина гудит резко, повелительно. Ярошенко не двигается.
Шофер тормозит за несколько метров, вылезает из кабины и зло кричит:
«Чего стал? Не берем пассажиров!»
«Это какая дорога?»
«Обыкновенная. А ты что за птица?» – спрашивает шофер, и Ярошенко видит, как он сует руку в карман за пистолетом.
«Я летчик, вон моя машина, сели на вынужденную. Где мы?» – спрашивает Ярошенко и показывает рукой на самолет в поле.
«Прямо по дороге в пятнадцати километрах Тихвин».
«Черт возьми, вот это ошибка!» – Ярошенко возвращается и докладывает.
«Отлично, превосходно, замечательно!» – шипит Калугин.
* * *
В тот же день за ужином я встретился с Калугиным. Он мрачно посмотрел на меня и отвернулся, не подав руки.
– В чем дело, Вася? – спросил я.
– Иди к черту, я тебе не Вася, а командир эскадрильи, – сказал Калугин. – Подал рапорт: больше с тобой не летаю. К дьяволу! И вообще ты мне не нужен в эскадрилье!
На этом мы расстались.
Вечером состоялся разбор боевых полетов. Я присутствовал на нем. Наш комсорг Величко обиженно посмотрел на меня, будто я его лично тяжело обидел, официально поздоровался и сделал вид, что крайне занят содержимым своей папки.
Я сел в угол. Вошел Калугин, кинул взгляд в мою сторону и отвернулся. Пришел замполит Соловьев, спросил: «Ну как, благополучно вернулись, Борисов?» – и сел рядом с Калугиным.
Всех приходивших в землянку я хорошо знал, многих любил, со многими выполнял боевые задания. Но в тот вечер я почувствовал себя одиноким среди этих близких мне людей.
Когда пришел командир, начальник штаба начал разбор полетов. Потом перешли к аварии Калугина. Много о ней не говорили. Ярошенко, весь красный, долго смотрел в пол, потом попросил слова и тихо сказал:
– Это моя вина, товарищи. – Больше он ничего не добавил.
И тут взял слово Калугин. Он сердито оглядел присутствующих и, стараясь не смотреть в мою сторону, сказал командиру.
– Хочу замолвить словечко за младшего лейтенанта Ярошенко. Он новичок, не следовало его в первый раз выпускать в такой сложный полет. И театра он как следует не изучил, и прочее… Тут я, конечно, один виноват… Но еще я хочу сказать два слова о старшем лейтенанте Борисове. – Калугин посмотрел на меня. – Вины за штурманом Борисовым никакой нет, это даже ребенку ясно. Летать он не летал – о чем же тут может быть разговор? Из двухдневного отпуска вернулся? Вернулся. Даже раньше срока на два часа. Ничего не скажешь, исполнительный товарищ.
Калугин остановился, у него от волнения не хватило дыхания.
– Вины за ним нет, наказывать или ставить ему на вид мне не за что. Но летать я с ним больше не буду! Точка. Я с Ярошенко угробил новую машину, мою и Борисова машину. Ни в чем не виноват Борисов, а все же не могу я этого ему простить, когда у нас авиации еще в самый обрез, а не сегодня-завтра решающие бои под Ленинградом!
Калугин грузно сел и, склонив упрямую голову с выражением яростного горя на лице, уставился в землю.
Ему, вероятно, нелегко было говорить все, что он сказал. И когда я слушал его, слезы у меня подступали к горлу, но я продолжал слушать, словно речь шла не обо мне, а о ком-то другом.
Взял слово Соловьев. Он говорил долго, и смысл его речи был таков, что виноват Калугин, не следовало брать новичка в полет, надо предвидеть.
Калугин с места промычал: «Правильно!»
– Конечно, если берешь молоденького, надо его учить и помогать ему лучше. Но тут некогда было, так уж все сложилось, – сказал Соловьев. – Как говорится, и на старуху бывает проруха, но в данном случае это не подходит… Десять орденов получили наши летчики за последние полгода, потому что честно выполняют свой долг перед Родиной, геройски сражаются с врагом. Несколько экипажей потеряли мы за два месяца. Это нелегко, товарищи. Если бы Борисов, простите, Калугин, по-настоящему это оценил, он лучше подготовил бы молодого штурмана к полету.
Не знаю, случайно или нарочно оговорился Соловьев, – наверно, случайно, – но в землянке стало очень тихо, и все посмотрели в мою сторону.
Я уже порывался взять слово и, вероятно, сказал бы что-нибудь несуразное и лишнее – так я был взволнован и сбит с толку за несколько часов, миновавших с самого моего возвращения, и летчики уже загудели в ожидании моей речи, – но тут взял слово командир полка.
– Случай интересный, хотя и печальный, – сказал он, подумав. – Вот мы все говорим о Ярошенко и Калугине. Калугин, конечно, допустил ошибку, он виноват. Но многие из вас смотрят на Борисова и даже оговариваются случайно или не случайно, как майор Соловьев. Почему же в самом деле оговорился товарищ Соловьев?
Командир замолчал, словно подыскивая правильные слова для мысли.
– Прежде всего о Борисове. Мне не за что его наказывать. Он просился у Калугина и у меня в город. Основание? Личные дела, сердечные дела, несомненно, серьезные дела, тут я не ставлю Борисова под подозрение. Он упрашивал, настойчиво упрашивал. Особенно Калугина, как я знаю, допекал. Калугин разрешил отъезд, и я поверил Калугину и пожалел Борисова, прямо сознаюсь – пожалел, и отпустил. И вот что из этого получилось: Калугин разбил машину. Разбить он мог, конечно, и с Борисовым и даже не вернуться – все бывает на войне, но ведь беда случилась из-за неопытности товарища Ярошенко. И будь Борисов на своем боевом посту, а не в Ленинграде – и капитан Калугин вернулся бы с удачей. С точки зрения уставной Борисов ни в чем не провинился и ни в чем не погрешил. А по совести… По совести – пусть подумает сам Борисов.
Майор говорил все это своим сухим и ровным голосом, временами останавливаясь, и все же этот холодный, необщительный человек вдруг предстал передо мной в новом свете.
– Оказывается, устав не может все предусмотреть, – продолжал майор, – и если точно следовать уставу, то виноваты я и Калугин. Но и Борисову есть над чем подумать… Очень скоро, может быть завтра, начнутся решающие операции (мы в своем кругу, и я могу это сказать). Готовился ли Борисов к ним? Конечно, готовился. Но, оценивая все, что случилось, не совсем правильно готовился… Конечно, он занимался с летчиками маршрутами в связи с общей тактической задачей по моему указанию, но душевно он недостаточно этим жил. В том-то и дело, товарищи: живи Борисов всей душой своим делом, готовься он к предстоящим боям – не стал бы он в такое время проситься в город, уезжать на двое суток. Поймите меня правильно. Не должен был он этого делать, именно по совести не должен был. Тут и проявилось его слабое место. Повторяю, дисциплина тут ни при чем, и Борисов – командир дисциплинированный. Но думаю, он не был в эти дни полностью с нами. Вот это больно. А ведь Борисов – кадровый командир, это надо учесть, товарищи. Ведь мы на таких должны опираться, как на каменную гору, в первую очередь на них, а не на молоденьких. Вот к нам скоро придут учителя и агрономы, ставшие летчиками, и боюсь, товарищи, придется нам, кадровым командирам, подумать, чтобы не ударить лицом в грязь. С таким выводом я и заканчиваю разбор.
Каждое слово майора было для меня как нож.
Все молчали.
– Пусть Борисов скажет, – крикнул кто-то.
Я был в таком волнении, что не разобрал, кто говорит.
– Пусть скажет, если хочет, – сказал майор.
Я встал и, едва сдерживаясь, заявил, что говорить не в состоянии, хотя мог бы многое сказать. Но еще скажу об этом когда-нибудь, и что больше всего мне жаль нашу машину.
– А чего вам? – крикнул с места Ярошенко. – Не вы ее ломали, не вам и жалеть.
Я не успел ответить. Начальник штаба закрыл собрание.
* * *
В тот же день по настоянию Калугина меня отчислили из эскадрильи. Калугин был раздражен до бешенства и старался со мной не встречаться.
Я пошел в первую эскадрилью. Я знал, что штурман командира звена Матвеева был ранен в последнем вылете. Правда, Матвеев со дня на день ожидал нового штурмана, но пока суд да дело – у него был неполный экипаж.
Когда я пришел, Матвеев чистил пистолет. Он яростно протирал ствол тряпочкой, намотанной на шомпол, и ругался.
– Вот забудешь почистить – грибы вырастут, порядочек!… Здорово, Борисов! Садись. Что, не на чем? Землянка у меня не сильно нарядная. Вон там ящичек, ничего, выдержит.
Мне очень трудно было говорить, и я начал о том, о сем, а потом, робея и волнуясь, прямо предложил:
– Полетаем, Матвеев, я попрошу командира.
Матвеев продолжал протирать ствол пистолета, потом посмотрел сквозь него на свет.
– Слушай, Борисов, – сказал он наконец, откладывая пистолет. – Такое серьезное дело не могу я враз решить: шутка ли – новый штурман! Дай мне сроку до послеобеда.
После обеда мы встретились у столовой, Матвеев отозвал меня в сторонку и сказал:
– Понимаешь, какое дело, Борисов, – он мялся и морщился и наконец предложил: – Давай начистоту?
– Давай начистоту.
– Ну так вот. Я долго думал и так и этак. Не вовремя ты, приятель, в отпуск запросился. Сам знаешь, что такое экипаж: святое дело, чего мне тебе объяснять. Либо тебя назначают – ну, тогда, как говорится, свыкнешься – слюбишься, и по большей части все складно получается. Но если выбирать – тут семь раз отмерь, раз отрежь… Так ты, брат, меня не хай: прикидываю, понимаешь ли, я тебя в нашем экипаже – и после вчерашнего не получается… Прости за правду, но так оно лучше…
Матвеев с трудом выдавил свою тяжеловесную речь и протянул руку.
– Как хочешь, – сказал я, – насильно мил не будешь.
После разговора с Матвеевым зашел я к Закиеву. Этот летчик недели три как попал в полк. Он воевал на Черном море, но недолго, лежал в госпитале, и теперь его прислали к нам.
Закиев был совсем юнцом. Родился он где-то под Грозным в горах и работал до войны нефтяником. Потом попал в школу летчиков, уже в войну. Постоянного штурмана у него еще не было.
– Послушай, Закиев, – сказал я, – у тебя нет постоянного штурмана, полетаем вместе? Дело свое я знаю, спроси у кого хочешь, бомбы кладу в цель – мост разбомбил.
Мне мучительно все это было излагать Закиеву. Закиев мрачно посмотрел на меня и вдруг сказал:
– Это слишком большая честь для рядового летчика Закиева – летать с таким опытным штурманом. Не могу я принять такое предложение, товарищ старший лейтенант, права не имею, только если назначат. Если назначат – тогда что ж, Закиев дисциплине подчиняется всегда. А по доброй воле, от всего сердца – на это нет согласия Закиева.
Он проводил меня до дверей землянки и даже поклонился, приложив руку к груди.
Я жил три дня без дела. Калугин летал на новой машине с Ярошенко. Инженер был занят у самолетов. Я пробовал читать, писать письма. Наконец я решил пойти к командиру полка.
Майор встретил меня внимательно, но сухо. Я сбивчиво передал о своих беседах с Матвеевым и Закиевым и о том, что я, как это ни странно, в боевое, время без дела.
– Согласен с вами: очень и очень странно, – кивнул майор.
Позвонили по телефону, майор поговорил и потом сказал мне, как и на разборе, что я ни в чем не виноват. Ведь это смешно упрекать меня за то, что Калугин в мое отсутствие сломал машину.
– Да, само собой разумеется, – как мне показалось, охотно, даже как-то чрезмерно охотно, согласился майор, не выпуская из рук трубки, – это было бы очень странно. Чего же вы хотите?
– Прикажите Матвееву взять меня в штурманы.
Майор положил трубку, посмотрел на меня с каким-то странным выражением, я бы сказал, с любопытством:
– Видите ли, Борисов, – помолчав, сказал он, – представим, что не хватает у нас штурманов и по этой самой причине тормозятся боевые вылеты. Тогда я приказал бы не только Матвееву, но и Калугину летать с вами. Ясно? Ясно. Но сейчас в полку, как вы знаете, есть и летчики и штурманы, их даже больше, чем машин. Зачем же мне в таких условиях навязывать вас экипажу, если он не хочет с вами летать? – майор развел руками.
Он все это так кратко и точненько изложил, будто думал об этом немало времени; возможно, так оно и было.
Снова позвонил телефон.
– Какие портянки? Куда вы звоните?… Ах, ко мне? Так и говорите.
И майор стал горячо толковать о портянках, о бушлатах, о махорке для рядового состава. «Что ж это вы присылаете, друзья: труха какая-то, а не махорка!» – сердился он.
Я долго слушал эти хозяйственные пререкания и впервые увидел нашего майора, спокойнейшего и молчаливейшего человека во всей балтийской авиации, страстно погруженным в эти хозяйственные мелочи.
– Иногда теряю терпение, – словно извиняясь, сказал майор и поправил аккуратно застегнутые и начищенные до солнечного блеска пуговицы на кителе.
– Что же мне делать? – спросил я.
Майор долго не отвечал на мой прямой вопрос. Он встал из-за стола, подошел к окну и зачем-то посмотрел в мутное дождливое небо.
– Ну, а что бы вы сделали на моем месте, товарищ старший лейтенант? Разберем задачу. Летчики не хотят летать с неким штурманом, и есть у них к тому не формальные, ни в коем случае не формальные, а, так сказать, моральные основания. Стоит ли к этим моральным основаниям прислушаться? Стоит, товарищ старший лейтенант, стоит. Но и штурману без дела нельзя ходить. В мирное время и то плохо, а тут война, обстановка серьезная. Надо этому штурману на земле поработать, нехорошо в такое время без дела.
Это была одна из самых длинных речей майора, которую я когда-либо слышал.
Я, может быть, побледнел, потому что майор привстал, положил мне руку на плечо и скрипучим, не очень суровым голосом сказал:
– Придется пойти в адъютанты эскадрильи. Вот в третьей как раз вакансия. Наведете порядок. И с этими бушлатами, не сомневаюсь, наведете.
Майор даже проводил меня до порога, и тут случилась маленькая заминка, потому что в дверь как раз в это время протиснулся Соловьев. Большой, добродушный, он внимательно посмотрел на меня и потом на командира.
Я всегда испытывал к Соловьеву доброе чувство. Как вам известно, мы служили вместе с начала войны, я знал его как человека отзывчивого и справедливого. Я помнил и его последнее слово на разборе, резкое слово. Но почему-то в ту минуту душевной неустойчивости мне показалось, что Соловьев поможет, отстоит, помешает моему переходу в адъютанты эскадрильи.
Соловьев заметил мое волнение и сказал:
– Постой, подожди, Борисов, я на минутку к командиру, а потом нам, кажется, с тобой по пути.
Я остался у дверей, а он подошел с командиром к столу, сел на табуретку, снял ушанку и похлопал ею по колену.
– Товарищ гвардии майор, дело получается какое, – начал он, поблескивая глазами, – надо о Любавине вопрос решить.
Любавин был инженер, которого хотели взять авиаремонтные мастерские, а командир полка не хотел отпускать.
И у двух майоров пошел хозяйственный разговор с разными подробностями, совсем для меня неинтересными.
Я ждал и думал о своем. Черт знает, как много я передумал за эти минуты, и главным в этих проклятых размышлениях было чувство обиды. Сейчас и вспомнить смешно. Сижу этаким обиженным героем и вдруг слышу свое имя.
– Ну и отлично решили: операций больших на носу нет, штурманы с запасом, молодежь такая, что смотреть приятно, и подготовка есть… Правильно решил, – говорит Соловьев.
Я смотрю на него, а он на меня смотрит и уже мне говорит:
– А знаешь, Борисов, хороший адъютант – для эскадрильи золото. Это же необходимейший человек. Не согласен? Вижу, не согласен. Ну, что поделаешь, а все же в жизнь эскадрильи вникнуть, во все ее дела войти – полезное дело. Тут обо всех надо подумать, о каждом летчике, штурмане, стрелке, а не только о личных своих заботах… Ну, пошли! Я на КП второй, а вы?
– Мне в другую сторону.
– Ладно, – сказал майор, – в другую так в другую. А личными делами мы после войны займемся. Сейчас по аттестату посылаешь? Что жив, здоров и фашистов бьешь, домой отписываешь? И довольно при нынешнем положении.
Мы остановились у землянки.
Он протянул руку, я смотрел в землю.
– Постой, – сказал вдруг Соловьев, – покажи хоть, к кому ездил, карточка есть?
Я достал карточку Веры, она всегда была при мне, и протянул майору. Он вынул из кармана очки, надел, поглядел.
– А ничего, с огоньком девушка, – одобрительно сказал майор, – даст вам после войны жару, Борисов!… Что ж, повидали?
– Нет.
– Плохо. Ну, ничего. В сердечных делах я не специалист, но не встретиться иной раз тоже не к худу.
И он повернулся, надвинул ушанку на затылок и зашагал во вторую.
* * *
Когда я вернулся от командира в нашу землянку, как мне казалось, чужой всем, Калугина и инженера, к счастью, не было. На моей подушке лежало письмо. Я машинально взял его в руки. Это было письмо от Веры. Как я ждал его! А теперь мне было тяжело к нему прикоснуться. Не знаю, почему у меня было такое странное чувство, но я долго не распечатывал письма.
«Мой хороший, – писала Вера, – как давно я говорила с тобой и как все для меня с тех пор переменилось! У меня работа, как и была, только теперь я, как и ты, ношу форму. До конца войны я уже не принадлежу себе. И правильно, так и надо. Я ничего себе не выбираю в жизни, я даже не хочу сейчас мечтать о том, что будет, когда кончится война. Работаю с утра до ночи.
Если бы ты знал, Саша, как мне трудно было возвращаться вечером в свою пустую холодную комнату, хоть плачь. Теперь я часто думаю, что мы с тобой, может быть, рядом, и, когда я свободна, об этом приятно думать. По секрету: в госпитале, в комнате, где я сплю, большой стенной шкаф, пустой, и однажды, когда никого не было, я на минутку влезла в него и закрыла дверцу, чтобы совсем как тогда, в гостинице. Можешь теперь смеяться надо мной сколько тебе угодно, пожалуйста!
Если бы ты знал, как я обрадовалась рассказу соседки о тебе. Она потеряла мой адрес. Я так просила передать, а она потеряла! Я ревела целый день.
Пиши мне чаще, мне тяжело, когда не приходят от тебя письма, у меня тогда самые грустные мысли. Писем давно уже нет, да и не могут они быть здесь, на новом месте. Я вижу, как они лежат пачкой на полу у дверей моей старой комнаты.
У меня теперь тоже адрес из нескольких цифр. Может быть, смешно, но я этому очень рада».
Я спрятал письмо в бумажник. Как бы я радовался этой весточке несколько дней назад, еще вчера! А сейчас мне было только больно.
Что мог я теперь написать Вере? Что Калугин разбил подарок уральцев? Что отныне ни один волос не упадет с моей головы? Что больше я не штурман? Вера говорила: «Ты обязательно должен летать, я и за это тебя люблю».
Вспоминая сегодня об этих мучениях, я невольно улыбаюсь. Можно вспомнить даже большое горе в своей жизни и почувствовать удовлетворение оттого, что выстоял и выбрался из него.
Самое страшное – остаться одному, но всего страшнее – на войне. Нигде человек так не страдает от одиночества, как на войне. Всегда горько ошибаться, но нигде так не горько, как на войне.
Я потерял лучшего друга, я лишился возможности воевать так, как только и мог воевать, – от души.
Но я не был одинок, как мне тогда казалось. В один из этих печальных дней у майора состоялся разговор с флагштурманом полка о бомбометании с малых высот, о моем предложении, о моих будущих полетах. Я, разумеется, не знал об этом.
Получив новое назначение, я уложил свои моряцкие пожитки (у меня был старый и довольно внушительных размеров фибровый чемодан) и оставил землянку, в которой последнее время жил с Калугиным.
Я прошел, почти прячась, до нового КП. Мне казалось, что мой чемодан рассказывает каждому встречному о том, что со мной случилось.
Кстати, через несколько дней я узнал, что Калугин, рассвирепев по какому-то случаю на инженера (он теперь на все сердился), тоже переменил землянку, и так мы все разошлись.
* * *
Отныне мне предстояло, как гласил приказ, занять место адъютанта третьей эскадрильи. Командиром в ней был Власов, человек новый в полку; он пришел с пополнением, никто его толком не знал, и он никого не знал. Мне это было только приятно, потому что освобождало от излишних разговоров.
Я доложил по форме – мол, явился в ваше распоряжение старший лейтенант Борисов – и поставил свой фибровый на скамью.
Власов посмотрел на чемодан и спросил:
– Где жить будете?
– Думаю, здесь, товарищ капитан.
– Живите, – сказал Власов, – правда, тесно, но ничего: жить можно.
Со мной Власов обходился так, словно я всю жизнь состоял в адъютантах эскадрильи, и я был ему благодарен за это. Может, это была маленькая хитрость, но получалось у него все очень хорошо.
В первый же день выяснилось, что мне, бывшему штурману эскадрильи, надо позаботиться об унтах для двух новеньких экипажей и пройти в вещевую часть.
Я весь день не находил в себе сил для этого похода.
Вещевая часть помещалась на краю аэродрома, и хозяином в ней состоял краснофлотец первой статьи Пищик. В полку он служил чуть ли не с первого дня войны, в хозяйстве своем держался порядка и даже некоторой нарядности, так что склад Пищика больше походил на колхозный магазин, и в нем пахло кожами, резиновой обувью, ваксой и махоркой.
Когда я вошел, Пищик выдавал валенки базовским краснофлотцам. Шел какой-то крепко приправленный деловой разговор о сроках носки и качестве валенок. Я встал в сторонку в ожидании своей очереди, но острый взгляд Пищика выудил меня из толпы.
– Товарищ старший лейтенант, – крикнул Пищик, – чего вы там к стенке жметесь, летный состав? Пропустите старшого, ребята.
Я подошел к прилавку и протянул шесть вещевых аттестатов. Пищик взглянул на аттестаты и на меня с удивлением. Потом, вспомнив последние события в полку, сдвинул на затылок фуражку.
– А я чуть было не сморозил, – сказал он добродушно, – получайте, товарищ старший лейтенант.
Он больше ничего не сказал. Он не сказал, что именно он чуть не сморозил, а я, конечно, не спросил его об этом. Он даже бровью не повел, как будто я всю войну приходил к нему за чужими унтами.
Покончив свои небывалые дела с Пищиком, я вспомнил, что еще не обедал и не ужинал, и хотя время было позднее и я не заявлял расхода, я все же решил пойти в столовую. На военной службе, как бы ни грешил человек, какие бы ни одолевали его настроения, а пришел час завтрака, обеда или ужина – и по привычке идешь в столовую.








