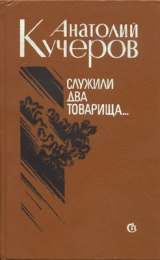
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Борисов вспомнил Сеню Котова. Он с Калугиным похоронили его на маленьком кладбище рядом с ленинградским аэродромом. Два его стрелка погибли, и когда-нибудь придет и его час, если это продлится. Но это не продлится. Скоро все будет кончено. Навсегда! Борисову хотелось думать об этом. И чувство ярости против тех, кто сегодня отнял у него Костю Липочкина, отнял у мира гениального математика, бушевало в нем.
И где это носит Морозова? Пойти к Калугину, посидеть, что ли?
И хотя было трудно натягивать сапоги, он оделся, накинул шинель. Постучали. Посыльный вызвал к командиру полка.
Командиром полка был старый хмурый майор, начинавший войну под Ленинградом. Может быть, он стал немного приветливее? Возможно. Все стали приветливее по причине вполне понятной. Он теперь даже улыбался, к нему вернулась эта способность. В первый раз он улыбнулся, и это все заметили, когда полк перелетел нашу старую границу. Борисов встретил его тогда у дверей штаба эскадрильи. Командир полка посмотрел на штурмана, подняв голову, и в лице его было что-то новое, непривычное. Он сказал:
«Поздравляю, товарищ Борисов! Вот они, пошли совсем незнакомые места».
Экая длинная фраза, да еще с романтическим оттенком.
«Места действительно незнакомые», – сказал тогда Борисов и тут только понял, что новое в лице командира – улыбка. Майор улыбался! Эта способность возвращалась к нему понемногу. Он даже двигался теперь менее угловато, и тяжелый зимний лед постепенно таял в его глазах. Вскоре ему присвоили очередное звание. Майор отнесся к этому событию спокойно, не отмечал его по принятому в полку обычаю. Но что-то в нем происходило, какое-то странное обновление. Вот жил человек, сжав зубы, и вдруг разжал.
* * *
Командир полка сидел за столом. В полумраке за его спиной висела закрытая пологом оперативная карта. Он был, как всегда, прям и словно бы прислушивался к чему-то в самом себе. Борисов, еще в блокаду разгадавший за видимой сухостью и строгостью сдержанность и постоянный незримый огонь волнения, сразу понял, что командир расстроен, может быть, даже удручен, но это не сказывалось в его словах.
– Морозов скоро подойдет. Давайте потолкуем, – сказал подполковник, вставая. – Завтра наносим бомбоудар по Гдыне. Первая Калугина, потом ваша.
Подполковник замолчал и стал внимательно исследовать при свете свечи карту, лежавшую на столе. И вдруг спросил:
– У нас недобор в экипаже? Хочу предложить стрелка. Летал в гвардейском соединении, ранили. Около года лечили и сейчас прислали к нам. Я с ним разговаривал: человек живой, художник в будущем, в Академии учился. Стреляет на «отлично», радист, так сказать, первого класса. Вы против художников не возражаете?
– Не возражаю, – сказал Борисов.
– Я послал его к вам в эскадрилью.
Разговор был окончен, но подполковник не отпускал. Перед ним на зелено-голубой карте лежало письмо рядом с подсвечником, в котором горела высокая свеча, оставляя огромный кабинет в темноте.
Два человека стояли у огонька свечи, смотрели на письмо – машинописные строки и под ними спокойная подпись.
– Вчера получил. Предписание откомандировать товарища Липочкина в Академию наук. Ему собирались поручить какие-то фантастические расчеты. Полет в космическое пространство. Вам понятно? Утопия, конечно.
– В штурманских классах не изучали космического… – пожав плечами, сказал Борисов. – Но Липочкин действительно решил труднейшую задачу высшей математики, здесь, в нашем полку, вы же знаете. И послал в Академию. Он был скромный парень, не болтун. Знали только я и Морозов. Мы не придали этому значения, в конце концов шла война…
Подполковник помолчал и резко кивнул.
– Я знал об этом и сказал замполиту. Где-то мы похвастали, что у нас в полку такой стрелок. И забыли. Думаешь только о войне, будто она тебе дочь или мать, простите глупое сравнение… Только о ней… Я мог вчера не выпустить его в полет, и он уехал бы заниматься космическим пространством… И для того ведь воюем, чтобы такие занимались своим сумасшедшим делом… Весь день огорчаюсь. У меня сын так погиб… Не сохранил человека…
Борисов поразился многословию подполковника и подумал: это у него от волнения. «А что можно было сделать? Послать к нам художника? А тот, черт его знает, в будущем Рембрандт или Репин!»
Командир полка бросил бесполезное письмо в открытый ящик стола. Поглядел на Борисова нахмуренным взглядом из-под поседевших за последний год мохнатых бровей, вытянул длинные пальцы на ручках кресла.
– Послушайте, – сказал он.
В полумраке за окном, за тяжелой портьерой дышал морской прибой.
– Оно теперь шумит по-весеннему, и веет от него миром, что ли, тишиной и концом войны. Помните, Борисов, мы ведь теперь знаем, что это скоро, что нам уже недолго возить смерть под крыльями и скоро нам среди побед и всяких там радостей предстоит сосчитать, сколько же мы безвозвратно потеряли. Вот об этом я сегодня думал… Идите, принимайте стрелка… Приказ у начальника штаба.
Борисов поднялся, и в это время вспыхнули лампы. Темнота, заклубившись на мгновение и растаяв, открыла мавританские своды зала с бронзой и позолотой и хрусталь люстры, оленьи рога по стенам, фанерную перегородку, за которой вдруг застучала машинка (там штаб и оперативный отдел). Борисов заглянул туда.
На вертящемся стуле сидела Оля и что-то печатала. Ее милое некрасивое лицо было заплакано и нежно светилось, словно просыхая под светом лампы.
– Пишу в вашу эскадрилью о новом стрелке Ивашенко Алексее Григорьевиче, художнике, – сказала она.
– А слезы зачем?
– Просто так.
– Просто так не надо.
– Товарищ гвардии капитан, у меня просьба: есть у вас фотокарточка Кости Липочкина? Дайте, я попрошу, ребята переснимут…
Оля глядела в пол:
– Вы не подумайте ничего такого, просто он убедил меня в свободное время готовиться в университет на химическое отделение и я послушалась. Иногда помогал. Он обо всем умел говорить так, будто всю жизнь только об этом и думал. С девушками вот он был деревянный, – из глаз Оли посыпались капли и стали расплываться на розовой промокашке.
– Ладно, подарю тебе карточку, – сказал Борисов, – если она тебе так нужна. Завтра же приходи за ней, и довольно об этом. Понятно?
– Понятно, товарищ капитан.
Борисов закрыл фанерную дверцу и шагнул в темноту, отворил дверь на улицу и окунулся в весенний ночной холод. Вздохнул. Давно он не чувствовал себя таким душевно усталым.
На опушке стояли самолеты. Он пошел по ломкой от холода траве. Он любил аэродромы на полянах посреди лесов, где дышится привольно. Он шел и еще не думал о завтрашнем утре, но по яркости звезд, глубине синевы и сухости мороза в этот ночной час на аэродроме рядом с морем он угадывал боевую прозрачность утреннего неба.
Толкнул ногой дверь на командный пункт и вошел в землянку. Там было жарко, как в аду, от раскаленной докрасна чугунной печурки. За неструганым столом сидел юноша в голубом свитере. Курчавые пряди лезли ему на потный лоб, на бледное лицо, на большие голубые глаза, смотревшие с любопытством. Перед ним дымилась солдатская кружка с чаем, лежала буханка хлеба, сахар, круг копченой колбасы.
С другой стороны стола сидел Морозов, сняв китель. Из открытого ворота выглядывала крепкая шея, темная там, где кончался воротник, и зимняя, нежно-белая к ключицам.
– Да сними ты свой свитер, Алексей Григорьевич, – сказал Морозов. – Знакомься, наш новый стрелок, – продолжал он мрачно, повернувшись к штурману. – А это гвардии капитан Борисов… Снимайте свитер: наш старшина до войны служил кочегаром и другой температуры не признает.
– Да какая там особенная температура, товарищи командиры, – сказал широкоплечий усатый человек, гревший на печурке чайник. – Просто тепло, как в летний день.
Борисов скинул летную куртку, снял китель и завернул рукава рубашки.
Новый стрелок стянул через голову свитер и остался в бязевой кремовой рубахе с завязками вместо пуговиц. И снова принялся за чай. Отпивая из кружки, он посмотрел на офицеров.
– Пока тебя не было, я погонял его по специальности, – сказал Морозов, – ничего, в радио разбирается. А стреляет отлично, понимаешь, как будто у него нечеловеческие глаза.
– У птиц, наверное, такие, – сказал старшина.
– Не в том дело. Мы тут постреляли из личного оружия, так он сбивает зажженную папиросу за тридцать шагов.
– Подходяще, – сказал Борисов.
Морозов поставил локти на стол и сжал голову ладонями:
– Вот одного я в тебе, парень, не пойму: как ты дошел до жизни такой, чего тебе в этой живописи?
– Об этом меня многие спрашивают, – признался стрелок, – и, честно говоря, не знаю, как на такой вопрос ответить. Вот большинство думает словами, а художник линиями и цветом, сочетанием линий и цветов. Непонятно? Ну вот всегда так получается – не умею объяснить.
– И правда непонятно, – огорченно сказал Морозов. – Ну ладно. А знаешь, на чье ты место пришел?
– Уже рассказывали, – закивал стрелок, отпиливая финским ножом кружок крепкой, как доска, колбасы. – Говорят, был замечательный человек. Меня тоже осколок достал, только вроде бы посчастливилось.
Стрелок жевал колбасу, смотрел ясными глазами на Морозова и улыбался.
Морозов, только что хваливший стрелка штурману, разглядывал парня, стараясь понять, что он в сущности за человек, и все больше раздражала его мягкость и физическая слабость. И этот цыпленок будет летать вместо Кости Липочкина. Но ведь он отлично стреляет и хороший радист. И то, что учился на художника, его личное дело.
Пришел адъютант эскадрильи Леня Карпухин, он пришел от начальника штаба с задачей для эскадрильи на завтра, потом звонил начальник штаба и уточнял подробности полета; Борисов позвонил на метеостанцию. Прогноз был благоприятный. Позвонил Калугин и спросил, как настроение:
– Что-то редко мы с тобой разговариваем, старик.
– Воюю, – сказал Борисов, вслушиваясь в голос друга.
Пока велись деловые и дружеские разговоры, Борисов придирчивым и ревнивым глазом наблюдал за стрелком. Тот допил чай и с интересом прислушивался к вечерней жизни на командном эскадрильи, которую он позабыл за длинные месяцы в госпитале и которую по привычке не замечали другие. Морозов ушел с инженером к самолетам, Борисов раскрыл карту и стал намечать маршрут завтрашней операции, но ему почему-то мешал новый стрелок.
«Слетаем раз, и пройдет!» – подумал Борисов.
– Послушай, Алексей Григорьевич, пошли к нам, – сказал он, складывая карту. – У нас такой порядок, чтоб экипаж вместе. И жить и воевать.
Когда они вернулись в келью, там горел свет и дневальный поил Муху сгущенным молоком. Увидав Борисова, собачонка бросилась к нему и тихонько заскулила.
– Ну-ну, не плачь, Мушка, слезами горю не поможешь…
Постели новому стрелку, – сказал Борисов дневальному. – А вода в умывальнике есть?
– Только что наливал, холодная, аж кости ломит.
Борисов снял китель, стянул майку и стал умываться.
– А теперь спать, ребята! Потушить свет, отворить окно и спать.
Муха устроилась на своем месте и, когда все затихли, еще долго повизгивала во сне.
* * *
Аэродромы просыпаются до зари. В темноте уезжают заправляться бензо– и маслозаправщики, возвращаются и бегут по снегу или по зеленой траве от самолета к самолету. Самолеты пьют горючее, воду, масло. Оружейники проверяют оружие, боезапасы, подкатывают и подвешивают бомбы, механики заводят и пробуют моторы. И гул машин будит городок, словно загудели, задышали тысячи органов.
Встает солнце. Над морем лежит перламутровая пелена и постепенно редеет. Еще летчики, штурманы и стрелки спят, а в столовой уже ставят приборы.
Утро – стремительно, если погода благоприятна для полетов.
Последние дни Борисов, вскочив с постели, звал дневального и спрашивал:
– Ну как, старшина, не кончилась за ночь вся эта петрушка? Не подняли еще руки?
– Никак нет, – отвечал дневальный, – петрушка еще не кончилась.
– Выходит, еще слетаем, товарищ дневальный? Подбросим огоньку? А то они что-то не торопятся.
Лицо дневального расплывается.
Встретив приятеля из хозчасти, он говорит:
– Здорово веселые у меня командиры! Железный народ.
Но в то утро, открыв глаза, Борисов прежде всего увидел курчавую голову нового стрелка-радиста, его исхудавшее бледное лицо и белую, закинутую под голову руку. Он как-то особенно легко и спокойно дышал.
Муха тоже проснулась, она спала на старых унтах Кости. Ей хотелось выскочить из окна в сад, пробежать по сухим от ночного холода дорожкам, но она не хотела будить своих хозяев и, позевывая, ждала, когда они проснутся.
– Дневальный! – крикнул Борисов.
Ивашенко и Морозов открыли глаза. Вошел дневальный с ведром воды и стал наливать в умывальник. Он ждал обычного вопроса о петрушке, но Борисов молчал, и тогда дневальный сказал:
– А петрушка, товарищ капитан, продолжается, – и улыбнулся.
– Ну ее к черту, – ответил Борисов, – ты бы о мыле позаботился, все раскисло.
– Есть позаботиться, – уныло сказал дневальный, – сейчас принесу с дамочкой на бумажке.
Ивашенко поднял огромные голубые глаза и улыбнулся в пространство. В светлый четырехугольник окна.
Дневальный раздернул шторы. В окне над морем золотился утренний туман.
Муха взвизгнула, вскочила на подоконник и уже хотела спрыгнуть в сад, но, вдруг что-то вспомнив, вернулась на свою подстилку и грустно сунула морду в лапы.
– Скорее, скорее, ребята! – торопил Морозов.
Они чистили сапоги, потом плескались под умывальником, подшили подворотнички и вышли на крыльцо, как всегда свежие, румяные. И трудно было заметить, что они не такие веселые, как всегда, и, может быть, чуть сильнее у Борисова и Морозова обозначились морщины. Муха шла за ними спокойно, но не отбегала далеко и не лаяла, как обычно. Один Ивашенко – он не бывал в этих краях – наслаждался и морем, и небом, и соснами.
* * *
В столовой было жарко от солнца. Гудели голоса. Мгновенно Люба притащила котлеты и какао, они глотали все второпях, не разбирая как следует вкуса.
Подошел, как всегда, Калугин. Борисов и Калугин похлопали друг друга по плечам, совершая обряд старинной и вечной дружбы.
У калитки сада уже ждала полуторка, в нее набилось много народу. Все стояли в кузове и, чтобы не вывалиться, держались друг за друга. Ивашенко поднял Муху, ожидавшую очереди. Полуторка выскочила на дорогу, и, когда проезжала мимо собора, все услышали музыку органа и детские чистые голоса; удивительно красиво и безмятежно звучали они.
На аэродроме гудели моторы, а над морем все еще не рассеялся туман.
Летчики побежали к своим бомбардировщикам; через поле, подсохшее после ночного мороза, пронеслась легковая командира полка. Земля кое-где начинала зеленеть изумрудной молодой травой.
Морозов позвонил в штаб, но еще не давали добро на вылет.
Борисов рассматривал карту. Лететь предстояло навстречу весне. Стоило углубиться в карту, и он мысленно видел весь маршрут. Напряжение поднималось, как ртуть в градуснике на солнечной стороне, и только Ивашенко, осмотрев и проверив с оружейником пулемет, сидел на земле, подставив лицо ветру, и, положив голову на бомбу, разогретую утренним теплом, грыз коротенькую травинку. Рядом лежал его шлемофон, а у ног свернулась Муха и наблюдала за новым членом экипажа.
Прошла радистка с командного, Таня. Ивашенко ее сразу узнал и окликнул.
– Чего тебе, стрелок?
– С тобой связь держать в полете?
– Со мной.
– С тобой и на земле готов держать связь.
– Очень ты мне нужен, – презрительно сказала Таня и пошла дальше своей легкой походкой.
«Не теряется стрелок», – подумал Морозов и вспомнил робость Кости Липочкина.
И вот наконец взлетела ракета.
«За Костю», – сказал про себя Морозов, садясь в самолет.
Весь экипаж был теперь на своих местах, только на месте Липочкина сидел этот художник и теперь у его ног лежала Муха.
* * *
Они летели всей эскадрильей. Морозов вел первое звено. Над ними купались истребители прикрытия. Все земные воспоминания на время будто растворились в гуле моторов. Одна страсть, одно желание овладевали людьми.
Они ушли на север и на высоте трех тысяч метров стали почти невидимы. Оттуда, из этой солнечной голубизны, откуда море тоже кажется небом, они устремятся к порту, причалам и кораблям.
Когда они повернули на юг, открылась земля – волнистая, коричнево-серая линия берега с нежным зеленоватым блеском, но им некогда и невозможно было видеть ее краски, ее весенний свет, прелесть мира, красоту его теней – все это сейчас было не для них.
Внизу у берега, серебристо-серые с высоты, стояли корабли, прижавшись к причалу, как листья к ветке. Звено Морозова обрушилось первым, и когда оно вошло в пике, земля, камень, пыль, огонь, гладь чистой воды, блики солнца на ней, транспорты под парами – все это рванулось с оглушающей стремительностью навстречу. Лицо Морозова покрылось потом. Высота сокращалась, она сжималась, казалось, что густеющий, все более упругий воздух вот сейчас раздавит, что его нельзя вдохнуть, что он превращается в камень и останавливает сердце.
Может быть, сильнее всех это чувствовал Ивашенко. Его сплющивала скорость падения. Кровь стремилась разорвать тело. Но он знал, что сейчас оторвутся бомбы и он сможет дышать и видеть мир.
Когда самолет выскользнул из пике, Ивашенко увидел под собой ниточки дорог, причалы, волнорез с маяком. Все это было освещено солнцем, а сейчас пряталось в туман дымовой завесы и уходило на север. А под крылья все быстрее стремилась незнакомая земля.
– Не попали, – тяжело дыша, сказал Морозов в переговорную.
– Не хотел бы я быть у причалов, – успокаивая, сказал Борисов, – если не наши бомбы, то эскадрильи.
– Попробуем еще раз.
– В порту пожар, товарищ командир, – доложил Ивашенко.
– Следите за воздухом, – приказал Морозов.
Ивашенко не требовался совет. Воздух на всем пространстве, открытом стрелку, был чист и свободен, а в вышине мелькали тени ястребков прикрытия.
Первая атака – пятьдесят секунд мучительного напряжения, следующая короче. Бой длился четыре минуты. Часы показывали тринадцать часов и три минуты.
Вторая бомба обрушилась на пирс.
– Вот теперь точно, старина, – сказал Морозов.
Когда они выходили из второго пике и пронеслись в пятистах метрах над Гдыней, над черепицей крыш, над белой колокольней, над привислинской поймой, Ивашенко увидел «фокке-вульф» и, навалившись на турель, послал первую очередь. Но истребитель выскользнул из поля зрения, сорвав очередью покрытие правого крыла.
Морозов отвернул самолет. Ивашенко снова увидел истребитель и снова послал в него очередь, вторую и третью. Очередь истребителя пробила кабину и колпак, но никого не задела.
– Вот я тебе, сволочь! – взвизгнул Ивашенко и сжал рукоятки пулемета. Ствол задрожал от стремительной очереди, и в это время Ивашенко увидел ястребок прикрытия. Он падал с высоты на самолет врага. Казалось, вот-вот они столкнутся.
– Уходи, Коля, – услышал Морозов голос истребителя.
Самолет шел на юго-восток, на Мазурское приозерье.
– Ложись на курс! – крикнул в переговорную Борисов.
– Заклинило рули поворота, – передал Морозов.
Теперь для них был возможен только один курс.
Морозов передал, что идет на ближайший по курсу аэродром. Рядом двигались войска Второго Белорусского. Попытаться сесть на один из армейских аэродромов, сесть без круга, и будь что будет. Вот единственное, что осталось.
– Товарищ командир, – услышал Морозов голос ведомого Катунина. Это был молоденький летчик из пополнения. За плечами три месяца войны, два дня назад они гоняли мяч.
– Прикрыть, товарищ командир? – спросил Катунин.
– Прикрывают истребители, – передал Морозов. – Прощай, Катунин, ложись в обратный.
Ивашенко продолжал яростно вести огонь.
– Горит! – крикнул в переговорную Ивашенко. – Горит, сволочь!
Ястребок летел над противником. Тот шел вслед бомбардировщику, дымя и сгорая и все же стремясь сбить наш самолет. Он угадал его беспомощность. А в это время там внизу их уже брала в прицел какая-то батарейка немецких зениток. Снаряд разорвался под правым мотором, и Муха, которая лежала спокойно, вдруг затявкала. Это было видно по ее жалобной морде.
Борисов услышал жесткий, чуть охрипший голос Морозова:
– Попадание в правый мотор.
Борисов понимал суровый смысл этих слов. Он уже лежал однажды с Калугиным на льду Финского залива после такого попадания. Можно было, конечно, тянуть домой и на одном моторе, если бы работали рули. И если бы они не ушли так далеко на запад.
Борисов взглянул на карту. Они летели у извилистой красной черты фронта. Они летели теперь в глухом, почти безлюдном крае, среди озер и болот. Сама земля здесь была непроходимой крепостью: чащи, сплавные речки, редкие хутора. Иногда над низиной в солнечном свете и сиянии озер вставали башни старинных крепостей. Сейчас они стояли совсем небольшие, когда глядишь сверху, одинокие, словно забытые людьми, наверно увитые диким плющом.
А истребитель противника все шел за ними, он больше не стрелял, у него, наверно, кончился боезапас. Он горел, но шел вслед.
«Мальчишка, – подумал Борисов, когда увидел его в зеркальце, – сошел с ума, ни скорости, ни силы духа, чтобы таранить».
А в вышине над ним парил наш истребитель. Он не стрелял, он понимал, что у противника остались последние минуты, минуты жизни в огне.
Борисов крикнул в переговорную Морозову:
– Не горюй, Булочка, дотянем!
Потом он соединился со стрелком.
– Медленно идем, товарищ капитан, – сказал Ивашенко. – Передать в хозяйство координаты?
Стрелка высотомера ползла вниз.
– А нельзя ли уйти повыше, Коля? Может, дотянем?
Молчание.
Теперь он знал, что они никуда не дотянут, что даже за все блага мира они не смогут дотянуть.
– Передай координаты открытым, – глухо сказал Морозов.
В их распоряжении оставались мгновения, и Борисов понимал, о чем думает друг. Он подумал о парашютах, но трудно было уйти троим: на все оставалось чудовищно мало времени. А может быть, в нем еще жила надежда, что он заведет свой корабль в порт, бывают же чудеса?
Нет, чудеса случаются редко. А надежда живет, она помогает рукам делать то единственное, что можно сделать, когда выбран последний маршрут. Самолет еще слушался руля высоты, он планировал.
В кабине стало тихо. Экипаж снял наушники. В этой грозной тишине они могли сказать друг другу, может быть, последние слова.
Радист лихорадочно передавал на аэродром:
– Кольцо!… Таня!… Кольцо! Слышишь меня? Идем на вынужденную, передаю координаты, желаю счастья. Все. Прием.
В мыслях промелькнуло испуганное лицо Тани с наушниками в кудрявом нимбе растрепанных волос.
Они не успели принять последний привет. На них надвигалась земля всей своей беспокойной плотностью. Деревья, кусты, овраги, изгибы берега, лесные чащи, болото – огромная, мрачная, опасная земля.
Многое бывает знакомым в полете, но одно всегда ново – меняющаяся под крыльями земля. Она каждый раз была другая, и они всегда смотрели на нее с любопытством.
Они еще не стояли на ней, не ходили по ней, это была чужая земля.
Мысли мелькали со скоростью света. И самая нужная: не в первый раз. Не в первый, и все же страшно и опасно, как в первый.
Морозов направил самолет на зеленую полянку в лесу. Она была невелика, но выбора не оставалось.
Немецкий истребитель тремя минутами раньше беспорядочно свалился на землю, и теперь подошел их черед. Никого не было вокруг, и только в самой вышине их провожала пара истребителей прикрытия. Они шли за ними, они качали им крыльями.
Когда самолет Морозова исчез в лесу, они сделали последний прощальный круг и повернули на север.
* * *
Кусты на поляне скрипели и стонали. Крылья самолета срезали их, прокладывая просеку, и, разрушаясь, таяли, как свинец в огне.
Кабина упала в глубокий мох, сорвала дверцу о мшистый пень и остановилась.
В лесу стало тихо.
* * *
Чуть слышно шумели ручьи. Мокрые черные ветви, еще обнаженные в светлой тишине, обсыхали на солнце.
В безветренном затишье у пня рядом с кабиной раскрылась на стебельке белая чашечка подснежника. Чудо спасло его от гибели, и теперь он благоухал в тени искореженного крыла.
Кабина врезалась в огромный муравейник, разрушила муравьиное царство, и тысячи муравьев уже занимались восстановлением и переустройством своей страны.
Рядом на озере отдыхали перелетные птицы.
Недалеко от реки лось, выйдя из чащи и не увидев вокруг никого, только диких коричневых уток, осторожно пил бархатными губами воду, прислушиваясь к весенней тишине.
«Вот, кажется, и конец, – подумал Ивашенко, открыв глаза, – и все же я сбил этого гада, товарищ командир». Ивашенко казалось, что он говорит Морозову, хотя это была невысказанная мысль, стучавшая в его мозгу. Он потрогал лицо и посмотрел на руку: на пальцах была кровь. «Опять, как в прошлый раз, разбил морду о ручку пулемета». Руки и ноги были целы, он мог ими двигать. В голове гудело и звенело, но он был жив.
Он даже зажмурился почти с таким удовольствием, как в детстве, когда его будил в постели солнечный луч. Но в следующее мгновение его вдруг отчетливо пронзила мысль, что он лежит на днище самолета, что пахнет горючим и стреляными гильзами и что если они не взорвались, то их падение давно заметил противник и преследователи вот-вот будут здесь. Он поднялся и огляделся. Впереди полулежал Борисов. Он стягивал бесполезный шлемофон, с трудом стащил его, зажал голову в руках и помотал ею, как будто кто-то лил ему на макушку холодную воду.
– Товарищ капитан, живы? – спросил Ивашенко.
– Жив, как видишь.
Морозов сидел на своем месте, рука его лежала у приборов, а голову он втянул в плечи, как от удара. У его ног сидела Муха и лаяла.
– Молчи, молчи, собака. Морозов, Коля! – позвал Борисов.
– Ну? – Морозов поднял лицо, выпачканное кровью. – Пить, штурман. Воды!…
– Давай я тебя перевяжу. – Борисов протянул флягу, достал индивидуальный пакет и перевязал командира.
– У меня в голове, братцы, что-то перекатывается, как дробь… – сказал Борисов.
– До свадьбы заживет. Поздравляю с посадкой, штурман. Здорово благополучно сели! – отрываясь от фляги, промычал Морозов. – Но радоваться рано, ребята. Проверьте оружие.
Он с трудом произнес эту речь. Штурман и стрелок проверили пистолеты, они были полны патронов.
– Борт-паек!
Какие добрые руки собирали этот паек! Здесь было все, что по закону положено летчику в аварии. Три плитки шоколада, три пачки галет и отдельно солдатская фляжка в суконном чехле – с чистым спиртом. О ней позаботился механик.
Они отстегнули парашюты и стали вылезать из самолета, протискиваясь мимо старого высокого пня, сорвавшего дверь с кабины.
Ивашенко, принявший на себя все обязанности Липочкина, позвал Муху.
– Ребята, – сказал Морозов, вытирая мокрое от пота лицо, – не будем жаловаться.
Они разбавили спирт водой и по очереди выпили из крышки фляги. Ивашенко вспомнил о пулемете, снял и выбросил затвор. Приборы разбились при падении. Все это сейчас было не нужно: ни пулемет, ни приборы.
Борисов достал карту, компас и попытался определиться.
– Судя по всему, нас снесло на юг километров на сто – сто пятьдесят от своего аэродрома. Вокруг, наверно, полно немцев. Где-то рядом линия прорыва Второго Украинского.
– Слоеный пирог, – сказал Ивашенко.
– Посмотрим, не предсказывай, – рассердился Морозов.
Сверху все ясней, а на земле у них не было ориентиров. Они не знали точно, где находятся, а надо было подальше уйти от самолета. Борисов предложил продвигаться на восток.
Пошли сквозь лес напролом.
Морозов шел молчаливый, сосредоточенный. Он старался понять, допустил ли ошибку и когда же это случилось? Забыл о противозенитном маневре? Нет, не в этом дело. Осколок заклинил рули. Эту случайность невозможно предусмотреть. От нее чаще умирают, и точка. А он попытается выбраться и вывести своих ребят назло всей фашистской сволочи в мире. Все же у него железные парни. Идут по болоту, как следопыты. Ивашенко, конечно, не Липочкин, но идет неплохо.
На земле лежала прошлогодняя листва и пахло сыростью. Вокруг поднимались то рыжие сосны, то ольха да ива с розовыми сережками.
Они шли все на восток и заблудились в болоте.
Болоту не было конца, оно светилось изумрудными крошечными озерцами, рыжело прошлогодней осокой, уходило в гниющий кустарник. Оно дышало и полнилось водами проснувшихся весною ручьев. Не было тропок. Шли мокрые, потные, грязные. Болото зловеще хлюпало под ногами. Ивашенко, самый маленький и легкий, шел впереди, за ним Муха.
Они шли и ползли, перемазались в болотной жиже, мокрые, страшные. Один раз Морозов провалился по пояс: он был самый грузный. Ивашенко и Борисов, напрягая последние силы, вытащили его на тропу. Морозов улыбнулся одними губами на черном от грязи лице.
– Стрелок ничего, молодец, чувствует землю…
Постояли, чтобы отдышаться.
Они так измучились на этом проклятом болоте, что не могли говорить. И наконец выбрались в дикий нехоженый лес.
Два часа шли по компасу все на восток. И вдруг гуще потянулась ива: они вышли к пойме. Насколько хватало глаз, до самого горизонта она была затоплена рекой.
– Разлив, – сказал Морозов, – похоже, как у нас речонка дома. Летом курица вброд перейдет, а весной прямо великий океан: берегов не видно. Умыться бы…
На огромном пространстве стояла вода, играя на солнце. Вдали плавали дикие утки. Они поднимались невысоко, снова садились на воду, купались и кричали.
Пока люди умывались, Муха побегала у воды, попробовала, какая она на вкус. Вода понравилась, она вошла чуть подальше, замочила лапы и сразу же выскочила.
– Что, холодно? – сказал Морозов. – То-то!…
Они свернули на север. Шли часа два вдоль воды, за кустами ольхи и за ивами, и снова перед ними, закрывая дорогу на север, изогнулась река, бледно-голубая, с легкой дымкой, а за ней бесконечное болото и сотни маленьких озер, светившихся, как осколки зеркала.
– Озера да болота, – сказал Борисов, – и нигде ни души. Для начала неплохо.
– Хорошо для начала, – согласился Морозов. – Как себя чувствуете, ребята? Вымазались, как свиньи.
– Бывает хуже, – сказал Ивашенко. – Отдохнуть бы. – Он едва держался на ногах.
– Вечером отдохнем, – жестко отрубил Борисов.
– Голова вроде не моя.
– Держится – и ладно. Попробуем теперь немного на запад. Надо выбраться из болот.
– Зато здесь труднее попасть волкам в зубы.
– Ты о каких? На четырех ногах или на двух?
– Предпочитаю на четырех, – сказал Ивашенко.
– Смотрите, какой умный, – сердито сказал Морозов, – просто замечательно умный у нас стрелок.
Они пошли на запад, пугая птиц. Солнце теперь ласково грело им мокрые спины.
Под вечер они выяснили, что окружены разливом рек и речушек, что они одни в этом лесу, на острове суши среди болот, и остается только ожидание. Из боя их швырнуло в тишину, воды взяли их в плен.
* * *
Они мучительно устали. Лихорадило, болело тело, болели ссадины и ушибы.








