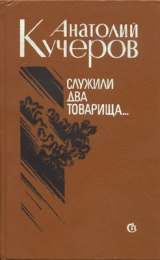
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Бомбили с такой-то высоты? – он называет цифру.
– Да, товарищ майор.
– А почему попаданий столько, товарищ Морозов?
– Я сам себя спрашивал, в чем тут дело, товарищ майор. Тут ведь что получается, – Морозов смотрит на меня, словно просит разрешения изложить наш разговор, – тут при малой высоте проскочить легче. С непривычки не вовремя нажмешь сбрасыватель – отклонение в секунду, а при малой высоте это выходит тоже чувствительно.
– А вы как думаете?
Я говорю о непривычности сбрасывания с малой высоты, о мгновенности маневра, о невозможности бомбить с пикирования при малой высоте. Но особенность этого способа бомбометания в том, что с малых высот невозможно отклонение в пятьсот метров, и если цель не поражается прямым попаданием, она всегда поражается осколками.
Майор хмурится:
– Если уж идти на риск бомбоударов с малых высот, попадания должны быть точными. В противном случае они вряд ли оправдают себя. Надо еще раз обдумать и проверить.
– Есть обдумать и проверить, – говорю я. И буквально с этой минуты для меня и Морозова начинается сумасшедшая жизнь. Мы летаем на боевые и бомбим, как все, а каждую свободную минуту заняты расчетами моего способа. Цифры и полеты, полеты и цифры путаются в сознании. И самое сложное, что ошибки нет, что теоретически все правильно, и все возможно. А практически почему-то нет больших преимуществ, а риск значительно больше. И мы никак не можем выпутаться из этого противоречия.
По вечерам ко мне приходит Горин, ерошит свои черные волосы, шагает по моей клетушке от одной стенки к другой, и это похоже на движение белки. Он шагает по землянке и советует то одно, то другое. Он фантазер, и у него сразу все получается. Но бомбометание – это наука, прикладная наука, это физика плюс математика, плюс баллистика. Приходится не совсем точно принимать поправки на быстроту и направление падения тела, поправки на ветер, на скорость самолета, на точность глаза, на твердость руки. Вот почему из науки эта отрасль физики на практике превращается в искусство; вот почему есть мастера точных бомбоударов, художники с особым снайперским чутьем. Я думаю об этом между боевыми полетами, усталый, как хорошо потрудившийся человек. Я все еще не могу справиться с этой задачей. Кончится война, говорю я себе, и тебе в самый раз уходить из авиации. Какой ты летчик, какой ты штурман, какой ты бомбардир! Иди и стреляй ворон из рогатки, меняй профессию. Ты не военный по призванию, ты не авиатор, ты не умеешь управлять своими глазами, своими мускулами и своим сердцем!
«Что же мне делать? – спрашиваю я себя. – Что делать?» И в полусне начинаю придумывать себе подходящую профессию, но ни одна не нравится мне, ни одна.
«Я авиатор, дело в тренировке, надо тренироваться, и тогда точность бомбоудара будет достигнута».
Я, как маньяк, размышляю, что было бы, если бы каждая наша бомба точно попадала в цель. Уже не было бы половины вражеских заводов, в Германии не было бы мостов, корабли не выходили бы в море: их разбомбили бы у пристани. Я штурман морской авиации, и мне надлежит думать о морских целях.
Но вот уже некогда заниматься этим делом, потому что надо вставать и лететь в боевой.
И вот этот замечательный день. Еще не сообщили о прорыве блокады, еще ждут приказа, но через Неву, хотя и под обстрелом дальнобойной артиллерии, а все же строят мост, и я вижу этот деревянный мост во время полетов. Он растет по часам, как богатыри в сказках. В тот день я возвращаюсь после бомбоудара с темнотой. На посадке подсвечивает прожектор. На старте нас с Морозовым встречает комсорг, оружейник сержант Величко.
– Товарищи Борисов и Морозов, – на комсомольское собрание!
Мы спешим в знакомую землянку. Горят на столе три свечи в бутылках: испортился движок, и нет электричества. На повестке прием в комсомол.
– Товарищи, – объявляет Величко, – принимаем двух стрелков, отличившихся в последних боях: Ржевского и Ротного. На повестке еще один вопрос: о рекомендации Борисова в партию.
– Начнем с Борисова! – раздаются голоса.
– Кто хочет сказать о Борисове?
У меня стучит сердце так громко, что, кажется, соседи должны услышать его стук.
– Я прошу слова! – крикнул Булочка. – Дайте мне слово.
Но Величко дает почему-то слово технику по вооружению скептику Серегину. Серегин говорит медленно, и слушать его – мучение. Но сейчас его слова звучат музыкой для моего уха.
– Что ж, – останавливаясь на каждом слове, говорит Серегин. – Борисов показал, что он хороший штурман, смелый… и, так сказать… новатор в своем деле… и воюет хорошо, и с бомбометанием с малых высот у него получается… Я, правда, думал сначала, что не получится, и потом сам прикидывал – должно получиться.
– Так ведь я то же самое хочу сказать, товарищи, дайте мне, – шепотом молит комсорга Булочка.
– И что ты, Морозов, торопишься? Дисциплины не знаешь? Дам и тебе слово, не беспокойся.
– Случилось так, что пришлось поработать ему на земле, ну да это дело сейчас в прошлом, товарищи ему доверяют, – закругляется Серегин.
Потом держит речь Булочка.
– Товарищи, – торопится Булочка, – я здесь самый молодой по возрасту, мне двадцать лет. Но я летчик и летаю с Борисовым, и я хочу сказать, что он умеет учить молодых и что лучшего штурмана мне не надо. Я мечтаю летать с товарищем Борисовым до конца войны!
Все одобрительно слушают.
– Может, тоже слово скажете, товарищ майор? – говорит Величко.
– Обязательно, – слышен густой голос Соловьева. Оказывается, он на собрании. Майор выходит из темного угла, протискивается к столу.
– Я зашел к вам сказать, что рекомендую в партию товарища Борисова. Длинно не буду говорить, не пугайтесь, некогда. Мы собирались принять Борисова в партию перед ближайшим боевым, и ваша рекомендация, товарищи комсомольцы, в самый раз.
Соловьев потер ладонью затылок, хитро посмотрел на Величко и продолжал:
– Кто не слыхал о нашем, так сказать, чрезвычайном происшествии в полку? Ну, вижу, все слыхали. Сегодня могу признаться: я тогда даже не ожидал подобного оборота в этом, хотите – мельчайшем, а хотите – очень большом, деле. Откуда, думаю, такая, на первый взгляд, даже чрезмерная принципиальность? А потом разобрался: добрая она принципиальность и боевая. Говорят, сапер ошибается только один раз. На войне нельзя ошибаться, товарищи. Военному человеку ошибиться – смерть. Вот почему офицеры так отнеслись к нашему чрезвычайному происшествию.
Майор оживляется и начинает помогать речи движениями руки.
– С уставной точки зрения тут и нет ничего примечательного – не проступок, а, так сказать, его тень. Но летчики оказались осмотрительнее и осторожнее устава. Видать, многое дано каждому из вас, товарищи, если с вас можно так много спросить, как спросили с Борисова. Представьте себе в какой-нибудь другой армии такую историю. Да ни в какой это не могло быть армии, товарищи. Добился, так сказать, человек отпуска или других благ, даже если он закон незаметно обошел, – и то неплохо, и это герой, честь ему и слава. Сосед ему позавидует, и это хорошо. Потому что в их старом мире зависть погоду делает и города берет. А у нас великое товарищество, и нельзя против него погрешить. И Борисов не то чтобы прямо ошибся и погрешил, а все же на какой-то час-другой лишился его полного доверия, то есть доверия этого самого товарищества. Ну, а с половиной доверия лучше и не водить самолета… Прошло, однако, время, посмотрели, как воюет Борисов на земле; ничего, говорят друг другу, честно держит экзамен. Может, и мы кое в чем, товарищи, пережали. Ну хотя бы Калугин: какой летчик, какой человек, но горячий, не попадись ему в нехорошую минуту под руку (в землянке засмеялись). Жизнь и поправила, наступление показало, что и Борисов – храбрый офицер, и голова на плечах, и опыт есть, и вот вы в партию его посылаете. Правильно посылаете! И это, так сказать, будет последняя строчка в политдонесении о чрезвычайном происшествии в нашем морском бомбардировочном. А теперь проголосуем за товарища Борисова.
Величко настойчиво спрашивает, не хочу ли я слова. Я робко беру слово. В это время ветер распахивает дверь землянки и гасит все три свечи. Работа собрания останавливается: нельзя вести протокол.
– Ничего, Величко, – кричат с места, – не задерживай, пусть говорит, потом запишешь.
Я становлюсь храбрее и говорю в полной темноте нечто такое беспорядочное и восторженное, что совсем невозможно повторить. Уже закрыли двери, зажгли свечи, Величко вносит мою речь в протокол (как он в ней разобрался – не знаю) и предлагает голосовать.
Все руки поднимаются, задевая белую бумагу потолка землянки, и потом все руки тянутся ко мне. Я жму десятки рук. Кажется, я никогда так не волновался, хотя мечтал об этом дне давно. По телефону меня вызывают в эскадрилью, и я выбегаю из землянки.
В дверях сталкиваюсь с Калугиным. Вася Калугин впервые за три месяца берет меня за руку, он тоже чертовски смущен, и на него нападает припадок яростного кашля.
– Ерунда какая-то, Борисов, – говорит Калугин, – курят тут – не продохнуть. Выйдем.
Мы выходим на мороз. Темно, но мы отлично видим друг друга. Я вижу в темноте белые зубы Калугина и его льняную прядь на лбу.
– Я тут без тебя хотел распорядиться, Борисов, – говорит Калугин, откашливаясь и глядя в сторону, – чтобы твой чемодан перенесли ко мне в землянку, освободилась койка… И вообще пора тебе домой, в родную эскадрилью, – ворчливо заканчивает Калугин.
Я сначала радуюсь его решению. Но потом вспоминаю о Булочке.
– Знаешь, Вася, – говорю я, – это несправедливо – бросать Морозова, и у тебя твой новый штурман молодец.
– Живи у меня, а летай с кем хочешь. Ну хоть один день. И на этом поставим точку, – говорит Калугин.
– Ладно, на денек-другой… Как раньше…
– Петро, – кричит Калугин своему подвернувшемуся оружейнику, – организуй чемодан старшего лейтенанта ко мне, живо!
Черт его знает почему, мы обнимаем друг друга и хлопаем друг друга по плечам, потом садимся на завалинке у землянки и молчим. А в это время стрелок Калугина тащит через аэродром мой фибровый чемодан. И тут только я вспоминаю, что меня ждут в эскадрилье.
* * *
Хорошие дни продолжаются. Объявляют приказ о прорыве блокады. У нас праздник, в Ленинграде праздник, во всем мире у всех честных и хороших людей праздник.
Я снова вместе с Васей Калугиным, и наш постоянный гость, конечно же, – Морозов. Разговоры только о том, как мы вышвырнем фашистов из-под Ленинграда и вернем Балтийское море.
– Ты не разучился воевать над морем? – спрашивает Вася Калугин. – Вот где пригодится твое бомбометание с малых высот.
Мы разговариваем в столовой. Люба несет наши послеполетные. В окнах горят ледяные веера: морозно. Мы пьем за то, чтобы всегда возвращаться с победой, за конец войны, за то, чтобы впереди были только самые хорошие происшествия. И все нам кажется легким, достижимым, прекрасным!
Крепкий снег хрустит под ногами, и в воздухе чудный свежий запах мороза. В планшете у меня письмо от Веры. И впервые за эти месяцы на крыле самолета я пишу второпях ответ Вере. На этот раз я хочу написать, что мы увидим победный конец войны, доживем. Но я не пишу о том, что мы доживем. Я не суеверен, как иные летчики, но не люблю искушать судьбу. Я физически ощущаю: все для меня будет правильно и хорошо после этих месяцев несчастья.
Я иду к майору Соловьеву поговорить по душам. Не так-то легко идти через весь аэродром к его землянке в эту нескончаемую метель. Сколько дней она играет, воет, рвется – и все понапрасну! Я иду для того, чтобы сказать нашему комиссару (мы между собой все еще зовем его комиссаром), что я кое-что понял за последнее время…
– Но немалая работенка в этом направлении еще впереди, – говорит майор Соловьев, – и не для одного штурмана Борисова, а для всех нас…
Ночь. Наконец мы тушим в землянке свечу. Наши с Васей койки стоят рядом.
– А что с Настенькой? – спрашиваю я. Вася Калугин, кажется, уже спит и не слышит. Я протягиваю руку и трогаю его за плечо.
– Как Настенька?
– Что тебе? – спрашивает спросонок Вася. Повторяю вопрос.
– Пишет, – говорит сквозь сон Калугин.
Пишет Настенька! Все правильно, и, кажется, не может быть иначе, а я не могу заснуть.
* * *
Вы спросите меня, а что случилось дальше? Как мой полк и моя эскадрилья воевали и как закончили войну? Что делают Настенька и Вера?
Дорогие товарищи, с тех пор прошло более десяти лет, срок почтенный и, как говорят, дающий право на воспоминания. Как много событий случилось за эти десять лет!
Теперь я флагштурман, а Вася Калугин командир полка. У нас новые замечательные машины, каких не было в последнюю войну, но это уже особый разговор, и я не могу в него вдаваться.
Вчера к нам приехала Настенька; после войны она окончила текстильный институт, сейчас работает инженером на фабрике.
Как я уже давно собирался доложить, в сердечных делах у нее полный порядок. После войны возвратился муж, родился сын. Но с Васей Калугиным они добрые друзья. Вася Калугин обзавелся за это время семьей; жену его, маленькую, курносую и миловидную женщину, зовут Клавдией; она всюду с нами, куда бы нас ни послала служба; завела библиотеку в полку, которая прославилась на весь военный округ. Первую дочь Калугины назвали Настенькой, разумеется, в честь Настеньки-партизанки. Дело в том, что, оправившись после ранения, Настенька улетела в партизанский отряд и с ним воевала до того дня, когда отряд влился в регулярные части Красной Армии. Калугины и Настенька ездят семьями друг к другу, и я люблю, когда Настенька приезжает к нам в часть, люблю смотреть на нее рядом с Калугиным. Но это совсем другая история, и о ней в другой раз.
Сейчас шесть утра, в открытое окно глядит огромный прохладный аэродром, ангары серебристо-зеленые, как крылья стрекозы. За ширмой спит Вера, я слышу ее легкое сонное дыхание. Скоро она проснется и помешает мне писать.
Два слова о бомбометании с малых высот. Одновременно со мной эта идея появилась у многих, и я вовсе не оказался родоначальником этого способа бомбометания. Я был один из многих, кто вынашивал его, и я горд этим, и пускай он не называется моим именем, как этого хотел Горин: я не честолюбив.
После рассказанных событий прошло не так-то много времени, и загудели машины на нашем аэродроме, и стали выносить из землянок разное барахлишко, накопившееся за девятьсот дней ленинградской блокады, и весь наш полк взял курс на запад. И так я, и Калугин, и где-то отдельно от нас Вера вместе со всей нашей армией, вместе с миллионами людей нашей страны шли, ехали и летели на запад до последнего военного дня. И сколько сменилось за нашими плечами аэродромов, и сколько героических историй записал Горин!
Так шли мы в одном полку, Калугин, я и Морозов, до последнего нашего аэродрома, назовем его Эн три звездочки, на котором остановились и где стоим теперь. Он тоже у моря, есть на нем и сосны, и зимой их, совсем как на аэродроме в Б., заносит снежок.
Здесь мы учимся, освобождаемся от «переходящих остатков», чтобы построить такую жизнь, какой еще никогда не было на белом свете. Здесь мы живем как часовые, смотрим на запад, на облака и тучи, которые весной и осенью гонят западные ветры, и, вглядываясь в клубящуюся по временам непогоду, вспоминаем с Калугиным миновавшие бури, и Калугин по своей закоренелой привычке говорит:
– Одно к одному, осилим и эту!
*********************************************
D:kucherov_aj_troe.doc
*********************************************
Кучеров Анатолий Яковлевич
Трое
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Экипаж самолета Пе-2 состоит из трех человек.
Техническая документация
Они летали группой в операцию по кораблям. Экипаж Морозова потерял стрелка Костю Липочкина. Пуля прошила его тело.
На обратном пути Морозов передал, что его стрелок тяжело ранен, и, когда он приземлил самолет, у посадочной полосы поджидали врач, санитары и машина санчасти.
Был тихий весенний вечер. На взлетном поле зеленела трава, и воздух пахнул соками просыпающегося леса. Была суббота, и немногие оставшиеся в курортном городке жители собирались дома после дневных забот. В соборе на главной улице играл орган, шла служба.
Аэродром, и городок, и пустынный морской берег были, словно стеклянным колпаком, прикрыты тишиной. Особенно удивительной была весенняя тишина для тех, кто только что вернулся из боя.
На аэродром машина за машиной опустилась эскадрилья. Воздух наполнился гулом, быстро таявшим в тишине, как снег, падающий в воду.
Санитары не без труда извлекли из кабины долговязое тело Кости Липочкина и положили на носилки. Он уже не дышал.
Морозов и Борисов постояли у носилок. Липочкин был легким, добрым и не очень заметным человеком, но все, кто знал его ближе, любили его. В сумерках еще можно было увидеть его светлые волосы и красивый задумчивый лоб. Лицо его казалось торжественным и сосредоточенным.
Маша Горемыкина расстегнула на нем меховой реглан и китель, открыла белую спокойную грудь, приложила стетоскоп. Прислушалась, сказала:
– Он умер.
И отошла. Она не любила говорить в таких случаях.
Санитары положили Костю Липочкина в машину, увезли, и он для многих перестал существовать.
Но для Морозова и Борисова он продолжал жить.
В летной столовой, расположившейся в одном из залов дворца, разносили ужин.
Борисов и Морозов ели молча.
К ним подошел Калугин, присел. Они распили послеполетные Кости Липочкина.
– Мир потерял замечательного математика, – сказал капитан Морозов, – я в этом убежден.
– А ты помнишь, Саша, как он взял на себя вину Метелкина, когда тот едва не угодил на губу?
Калугин, нахмурившись, слушал.
– Не знал я, что он математик, – немного удивленно сказал Калугин.
– Он решил своим методом, – вам, ребята, не надо говорить, что я в этом деле ни хрена не понимаю, – уравнение Ферми или Ферма – забыл, – сказал Борисов. – Так вот, это уравнение буквально сто лет решали все ученые математики Европы и ни черта не решили. А Костя Липочкин решил!
– У него была светлая голова и светлая душа, – сказал капитан Морозов, – такого стрелка нет во всей Балтийской авиации.
– Не горюй, ребята, – сказал Калугин, – еще война не кончилась, некогда горевать. А вот кончится – тогда всех вспомним, за каждого поднимем рюмочку…
Он, как всегда стремительно, встал из-за стола и, отбросив огромную тень на стены и потолок, где недвижимо плясали древние гречанки в туниках и фавны играли на свирелях, исчез в коридоре.
Ужинали при свечах. В гарнизоне чинили движок. За столами шел громкий разговор. Люба едва успевала приносить граненые послеполетные стаканчики и шоколад в фарфоровых чашках из дворцовых сервизов.
Когда Морозов и Борисов остались одни, Люба принесла шоколад, поставила голубые чашки с золотыми венками на уже залитую скатерть и присела на кончик стула. На ней был крахмальный фартук, не больше мужской ладони, и наколка в пышных волосах. Она смотрела на Морозова нежными глазами. Ей было понятно горе летчика и штурмана. Этот Костик Липочкин был славный парень, слишком уж робкий или равнодушный к девушкам, но очень вежливый. Другие, если опоздаешь принести что-либо за обедом или ужином, так облают, даже неприятно, а он никогда ничего-ничего не говорил, никогда! И ему приносили в последнюю очередь в зал, где ели сержанты, стрелки-радисты.
– Ты где вечером, капитан? – Люба собиралась в клуб, ей хотелось потанцевать с Морозовым.
Шла война, не возвращались летчики, красные столбики с именами погибших, украшенные ветками ели, появились в лесу рядом с аэродромом. Эти кладбища вырастали всюду, где проходили или стояли полки. А где-нибудь рядом со столовой, в сарае или в доме, все равно, вечером танцевали под баян или старинный рояль. На огонек к летчикам, где тишина и покой, приходили девушки.
Морская авиация из боя возвращается в порт, там тишина, и только кровь продолжает кипеть до следующего вылета.
Борисов и Морозов вышли из столовой. Небо догорало, как костер. Пепел затягивал огненные полосы, море лежало огромное, тяжелое и тихое, вдали желто-золотистое, как медь. Они спустились к нему улицей с заколоченными домиками-дачами. Домики были пестрые, воздушные, словно их строили для бабочек. Просыпались деревья. Они еще стояли без листвы, но оживали. По их древесным сосудам уже струилась весенняя молодость.
Капитаны шли к морю. В памяти звучал бой, они еще были в нем, и каждый знал мысли другого. Рядом шагал Костя Липочкин.
Человек привыкает к соседу по квартире, еще больше – по комнате, но товарищ в полете становится частью тех, кто с ним летает. Их руками, их слухом, их глазами. Костя Липочкин был глазами экипажа, его зоркими, защищающими хвост самолета глазами.
Вчера они шли по этой дороге к морю втроем. Сегодня их осталось двое.
– Хочешь курить? – спросил Борисов, нарушая молчание. Это было его право и, может быть, его обязанность старшего.
У них были одинаковые папиросы, те, что каждые две недели выдавали в полку.
Теперь они стояли у широкого песчаного берега. На черте, где сливались вода и небо, угасал закат, легкая черная волна ползла на песок и шипела. От нее тянуло холодом зимы. Становилось все темнее, потому что не было света в окнах: жизнь шла за густыми бумажными шторами, черными и синими.
Борисов думал о том, что давно не получал писем от Веры. Она шла с пехотой, она всегда была в огне, каждый день и, может быть, каждый час она могла уйти, как ушел сегодня Костя Липочкин. И эти мысли настраивали Борисова на особенный, грустный лад.
Он щелкнул металлическим портсигаром со звездой на крышке, протянул его Морозову, взял папиросу и себе.
Морозов высек огонек колесиком зажигалки, и свет, ослепительный в надвигающейся темноте, осветил их лица.
– Кто идет?
Из сумрака под соснами выступил часовой, весь в черном, светилась только вороненая сталь автомата.
– Свои, не узнаешь? – сердито сказал Борисов.
Морской берег охраняли. В песке, подальше от воды, притаились ходы сообщения, окопы. Одна лишь узкая полоска старого деревянного пирса оставалась свободной. К ней приставали корабли. В окопах стояли часовые.
На дачный городишко спускалась вечерняя темнота.
Морозов и Борисов закурили. В этом человеческом обряде, в этой земной привычке, в папиросе с двумя граммами табака откуда-то с южного берега Крыма или Кавказа, было притяжение земли. В папиросе заключался покой, которого недоставало в крови и в сердце.
Два облачка дыма скользнули в вышину, и стало легче.
– Мир потерял замечательного математика, – с ожесточением и упорством Морозов повторил свою мысль, не дававшую ему покоя.
– Слушай, Булка, – сердито сказал Борисов, – довольно! Отправляйся лучше в парикмахерскую.
Они покурили, повернули назад и расстались.
* * *
Возле главной улицы, за высоким красным собором с простреленной колокольней, в двухэтажном флигельке пряталась парикмахерская. Гарнизон взял ее под свое покровительство, и в ней всегда было полно офицеров. По вечерам на широкое зеркальное окно опускали черную штору и, если не работал движок, зажигали свечи.
Перед двумя зеркалами за двумя креслами работали две девушки, черная и рыжая, с прической «конский хвост». В очереди сидели офицеры, их было трое, когда вошел Морозов.
– А, Морозов! – сказал начальник почты, седой полный майор. – Липочкину пришли два письма, вот бы обрадовался.
Морозов не ответил, офицер штаба полка подвинулся на диванчике, чтобы освободить место, и сказал:
– Командир ищет тебе стрелка.
– Другого такого не найти, – мрачно сказал Морозов.
Пламя свечей отражалось в зеркалах.
Девушки разговаривали на своем трудном, непонятном Морозову языке. В углу на керосинке кипел и посвистывал чайник. Матово блестели подносы и стаканчики из нержавеющего металла. Особый запах незнакомых духов распространялся от пульверизаторов, от халатов и кожи девушек, нежно мерцавшей в свете свечей.
– Вот и вы! – медленно выговаривая непривычные русские слова, сказала рыжая и метнула в Морозова долгий обещающий взгляд.
«Не смотри на меня, ведьма!» – подумал Морозов, но нарочно замешкался с газетой, чтобы попасть к ведьме в кресло.
Теплые руки, запахи цветущего сада, жар мыльной пены, отражение язычков пламени – все это было как волшебство после полета над зимним морем и после смерти, сторожившей за спиной.
– Вы последний, – шепнула рыжая, – проводите…
Морозов постоял в тени дома, покурил… Показалась луна, и стало светлее. Рыжая выскользнула из парикмахерской, кутаясь в шубу и черную шаль, прижалась к Морозову, и они скрылись под густыми ветвями едва распускающихся каштанов.
Морозов молча вел свою спутницу. Ее острые каблуки стучали по камням. В его сегодня ожесточившемся сердце жил образ девочки, от которой он был за тысячи километров. Он учился в летной школе, когда она пришла в Дом офицеров потанцевать. Уже была война, и было очень скверно на душе и тяжело, но все в зале танцевали и никто ее не заметил в тот первый раз, только он. И как она была ему благодарна, и как легко она танцевала. И они очень смущались: он вел ее на расстоянии вытянутой руки. Она еще ходила в школу, в девятый класс. А теперь? Теперь она не знает его полевой почты, и он не знает, где она, и только вот так в мыслях она приходит, когда он с другими.
У дома в тени каштанов рыжая остановилась. В окне между рамой и черной шторой дрожала ниточка света.
– Свет? Мать дома, ко мне сегодня нельзя.
Она настойчиво обняла его.
– Ты завтра приходи. Завтра воскресенье, мать уйдет к сестре. Завтра, милый…
Это было как заклинание – заклинание военных лет. «Приходи, милый, останься… Останься навсегда! Я всегда буду только с тобой!…» Но дороги бежали мимо, как реки.
И любимых дорога уносила, как река. И глаза становились печальными и жадными.
– Хорошо, завтра, – шепотом сказал Морозов, просунул руку под шаль на рыжие волосы и притянул ее голову к своему лицу. Она смотрела ему в глаза огромными подрисованными глазами. От нее шел жар с запахом пудры, и от этого тепла было нестерпимо тревожно, бездомно, но от него трудно было уйти.
– Я приду завтра, – повторил Морозов.
* * *
В одном крыле дворца, в прошлом перестроенного в монастырь, а потом в гостиницу, жили летчики, в другом помещался штаб.
Двадцатую келью-номер отвели экипажу Борисова.
Борисов зажег свечку. На залитой чернилами газете лежали треугольничек и конверт, оба Косте Липочкину.
У стены стояла постель Кости с синим грубой шерсти одеялом, плоская жесткая подушка. Под кроватью на боку рыжий чемодан, противогаз и мешок от парашюта, набитый бельем для стирки.
У ножки кровати – плошка с водой для Мухи. Ее подобрал Липочкин в литовской усадьбе. Маленькая собачонка неведомой породы быстро научилась понимать русскую речь. Липочкин повсюду таскал ее с собой, брал в полеты. По его словам, она приносила счастье. С особенным удовольствием она сидела за пазухой у своего хозяина.
Мухи не было. «Наверное, она там, с ним», – подумал Борисов и огляделся. Комната без Кости не переменилась: и темно-вишневая шелковая портьера на окне, и кровать красного дерева, на которой спал Борисов, и диван в пестрых цветах, на котором спал Морозов, и камин из красного кирпича, где лежали поленья, – все было как прежде.
Вошел дневальный, рядовой хозяйственной роты, и, как всегда, спросил:
– Погреемся, товарищ капитан?
Он присел на корточки у камина, плеснул из кружки на поленья керосин, и дрова занялись дружно, желтым ярким пламенем. Возле огня задвигался сухой воздух, почудился запах смолы, лицо солдата осветилось и стало бронзовым.
Борисов развернул треугольничек. Письмо было от девушки. Он знал о ней, хотя Костя по юношеской робости почти ничего не рассказывал и смущался, как мальчишка. И вот Борисов держал в руках одно из тех неприметных писем, которые миллионами приходили на полевые почты и тысячи из них оставались без ответов из-за гибели адресата. В них писали обо всем на свете – о школьных или институтских занятиях, о ночной работе на оборонном заводе, о последней кинокартине, в которой тоже стреляли и умирали. Но хотя это были письма о повседневных заботах, в них дышала и жгла бумагу невысказанная пугливая любовь. Борисов угадывал ее в тревожном движении рассказа о какой-то приблудной кошечке, которую ужасно приятно кормить молоком, и в школьном описании одинокого весеннего вечера, морозного и звездного.
«Какое нежное, робкое сердце, – подумал Борисов, – и почему Костя никогда о ней не говорил?» Ничего, она утешится. Молодость не бывает безутешной. Теперь, под конец войны, добравшись до Литвы, Польши и Германии, он это знал. Это была его незримая для глаз зрелость человека, живущего рядом со смертью.
Дневальный все продолжал хлопотать у камина, поглядывая то на разгоравшиеся и стрелявшие поленья, то на капитана. Выражение лица у него было серьезное, вдумчивое, и Борисов заметил в нем сочувствие и доброту, которые не всегда прочитаешь на огрубевшем от военных лет лице.
– Разрешите собрать имущество стрелка-радиста товарища Липочкина и передать в кэч на сохранение? – спросил он громко, официальностью словно подчеркивая печальное значение происшедшего.
– Пусть все остается как было, товарищ Сергеев, – уклончиво сказал Борисов.
Дневальный снова бросил внимательный взгляд на Борисова.
– А знаете, товарищ капитан, как я Липочкину обязан? – вдруг спросил Сергеев. – Ну вот, дело было так. Получил я письмо от жены, а у меня двое ребят: Василий и девочка Нинель, в честь Ленина… С молоком же худо и дорого, а ежели молоко есть – значит, и дети сыты, и мать довольна. Ну вот, подвернулась ей коза за две тысячи. Мать сразу написала, а у меня, сами понимаете, откуда же такие деньги? Вот я, как сейчас, печку топлю и обо всем товарищу Липочкину рассказываю, и ничего такого не думаю, поскольку стрелок-радист лицо не очень богатое, у каждого своя нужда. А товарищ Липочкин вдруг говорит: «Да возьми ты у меня, Сергеев, тысячу рублей, потом отдашь». Взял я тысячу рублей, а кому теперь отдавать?
– У него мать жива, – сказал Борисов, – ей и отдай.
Борисов порылся в записной книжке, переписал на почтовый листок адрес стрелка и протянул дневальному.
– Как смогу, так сразу верну… Вы, товарищ капитан, угли сами помешайте.
«Он никогда не говорил об этой тысяче рублей», – подумал Борисов, стащил сапоги, потушил свечу и приоткрыл окно. В узкий просвет скользнул голубой луч луны, холод и шум моря. Море шумело ровно и глухо и смывало усталость и мучительное напряжение, но оно не в силах было освободить от горечи утраты. Липочкин был здесь, и Борисову казалось, что он дышит на своей койке. Может быть, он читает историю математики, которую вечно таскал с собой, читает при тусклом свете камина, свесив голову к огню.








