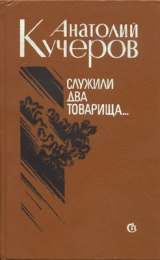
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
* * *
В столовой уже никого не было. Люба только что вымыла пол и, положив свежие скатерти (был субботний вечер), расставляла на столах бумажные розы. Увидев меня, она выбежала на кухню.
Над аэродромом падал первый густой снежок. Я сидел у стола и без мыслей смотрел в окно, как снег падает в темноте, как он кружится, и почему-то становилось легче оттого, что не только мне, но и всем другим сейчас нельзя летать.
С тарелкой борща в одной руке и с хлебом в другой появился сам Степа Климков в белом халате.
Люба принесла все остальное, а Климков (мы были с ним старые приятели) присел у моего стола и, подперев свою непропорционально большую курчавую голову ладонью, смотрел на меня. Он не знал, как начать разговор, и я пришел к нему на помощь.
– Так-то, Степа, – сказал я и продолжал заниматься борщом.
– Так да не так, – ответил Климков.
– Что не так?
– Все у тебя не так, – отрезал Климков. – Эй, Люба! – закричал он. – Принеси старшему лейтенанту мяса.
– Все не так, – кивнул я и отложил ложку.
Климков, видимо, собирался с мыслями.
– Понимаешь, Борисов, – сказал он, когда я взялся за второе, – поломать без пользы такую машину! Ведь она уральским металлургам вскочила в копеечку, а? Ну, что им напишет майор, как напишет? Ты попробуй, напиши. У меня прямо руки отнимаются, когда я подумаю, как о таком деле написать… Что в ней поломано?
– Центроплан.
– Всего? Выходит, можно похоронить.
Я не ответил, а Климков продолжал:
– Нет, ты пойми, какую ты загубил машину, Борисов! Есть тебе за что отвечать! Это, поверь мне, это почувствовать надо.
– Да не я же поломал, меня ж тут и не было, пойми ты, мудрец!
Климков задумчиво посмотрел, повертел рукой.
– Это ничего, что не было. А все же и ты в этом деле не без греха. Только разберись, сразу легче станет. Вот у одного моего дружка тоже был такой эпизод, еще до военной службы, когда он по своему кулинарному делу работал.
Климков придвинулся и стал горячо рассказывать:
– Знаешь, Борисов, иной раз руководит человеком не общественный, а, прямо скажем, шкурный интерес. К примеру, летом надо уметь хранить продукты, а директор этого моего приятеля говорит: «Не хранить надо уметь, а продавать. Возьми трехдневной давности котлету, нашпигуй луком, пережарь, обложи гарнирчиком – и пожалуйста!»
И вот, кажется, чего там особенного – одна залежалая котлета из переходящих остатков, чтобы, так сказать, ничего не списывать в убыток. А призадумайся – вредительская точка зрения. И вот какой вышел у этого приятеля эпизод. Отравился постоянный клиент. Поел котлетки и заболел, да так, что чуть не помер, и хорошо, что не помер, а то мой приятель еще до армии схлопотал бы себе казенный харч и квартиру.
Ну, значит, заболел этот клиент. Как и что? Выясняется – котлета! Пришла санитарная инспекция, а тут на грех – салат из переходящих остатков. Стали протоколы составлять, допросы. И понял этот парень что к чему… Да, бывает: человек вред делает, а ему кажется – пустяковина.
Вот этот мой парень, поняв, куда его работа клонилась, пошел штраф платить. А штраф был внушительный, такой, чтобы человек почувствовал.
Приходит он в кассу. Кассирша посмотрела и спрашивает:
«Чего вы так радуетесь? Кажется, штраф платите, а не получаете по облигации».
«Оттого, – говорит, – что правильный штраф».
Ну, она поразилась:
«В первый раз вижу, – говорит, – такого оштрафованного».
И с той поры этот парень кончил с переходящими остатками…
Климков посмотрел испытующе, как я принял рассказ.
– Тебе бы, Климков, служить агитатором, – сказал я. – Отлично получается. Большое тебе спасибо.
– Угадал, – сказал Климков, – я и есть по нагрузке вазовский агитатор, но не в том дело. Главное, сам разберись, за что на тебе штраф, за какие «переходящие остатки»… Люба, компот!
Появилась Люба, и тут Климков, видимо, вспомнив важное и неприятное дело, нагнулся ко мне и шепнул:
– А с летного довольствия вынужден тебя снять, Борисов. Сам понимаешь – приказ. Так что торопись, возвращайся в штурманы.
Я покраснел при этих словах, но Степа Климков уже шагал на кухню.
* * *
Поздно вечером зашел ко мне Сеня Котов.
– Эх, товарищ старший лейтенант, наломали вы дров! Кто теперь с нами вместо вас летать будет?
– Не знаю, Сеня.
– А командир злой, не подступись, слова не скажи. Все кричит: «Я вам покажу дисциплину, я у вас заведу порядочек!» Мне пообещал трое суток: не по форме доложил. Вызывал к себе штурманов, обдумывает, с кем…
Сеня посмотрел на меня искоса.
– Такое настроение – хуже не бывало. Мы ж с вами всю войну, товарищ старший лейтенант… Вы бы как-нибудь поправились, а? Чего-нибудь придумайте.
– Придумаю, Сеня, не приставай.
– Есть, – сказал Котов и продолжал стоять, словно решил сообщить еще об одном немаловажном событии.
– Ну, что молчишь?
– Заходил к нам майор Соловьев, – многозначительно сообщил Сеня, – я в это время приемничек в углу разбирал. Завел разговор о том, о сем и вдруг слово за слово о дружбе, какая у древних греков была и у товарищей Маркса и Энгельса… а смысл такой, что она под ногами не валяется… Наш слушал, слушал, как воды в рот набрал, и вдруг говорит: «У меня, – говорит, – ссоры нет. Он, может, прав…» Это вы, значит, – разъясняет Сеня, – «а вот летать с ним сейчас не могу и не хочу. И давайте на этом закруглимся…» Такие, выходит, дела! Вы уж что-нибудь придумайте, товарищ старший лейтенант, – жалобно заключил Сеня.
Обо мне помнили, но я этого тогда не ощущал, хотя и было приятно, что наш майор заходил к Калугину. Чувство одиночества не оставляло меня.
Теперь я был хозяином своего крохотного угла на командном пункте эскадрильи: койка у фанерной стены, ящик, служивший столом, чугунная печурка, у изголовья мой летный комбинезон, вот и все.
В оконце, едва затянутое инеем, виднелся огромный аэродром, и когда я смотрел из окна, глаза мои были на уровне земли, и от этого аэродром казался еще огромнее.
Здесь, в углу, я никого не видел и по ночам мог писать письма и даже читать книги. Но я не писал писем и не читал книг, и когда мне не спалось, я просто думал.
У меня было много новых обязанностей, и я с трудом к ним привыкал.
Адъютант эскадрильи наблюдает, чтобы каждое приказание командира выполнялось. В любую минуту он должен представлять себе, сколько самолетов в строю, сколько в ремонте, когда вернутся в строй. Он должен следить за всем распорядком жизни эскадрильи, за соблюдением часов боевой и политической учебы. Он обязан сноситься с начальником штаба, получать приказы, доводить их до командира и личного состава. Он должен заботиться о хозяйстве своей эскадрильи, аттестатах, вещевом, продовольственном, мыльном и табачном довольствии.
Обычно на эту работу назначались вылетавшиеся или раненые летчики и штурманы либо командиры частей, обслуживающих авиацию. Работа адъютанта суматошная, случается – ни днем, ни ночью нет минуты покоя. Но это во время перебазировки или горячей боевой работы, а в блокаду, когда мы месяцами стояли на одних и тех же аэродромах, да еще в нелетную погоду, у адъютанта эскадрильи находилось немало свободного времени.
Но от этого мне было только тяжелей.
В первые дни, приступив к новой работе, я буквально готов был провалиться от стыда сквозь землю, хотя все относились ко мне, как и следовало относиться к офицеру, добросовестно выполняющему свои обязанности. Словно назло, меня не оставляли в покое. Особенно раздражал майор. Позвонит без особого дела:
– Борисов?
– Так точно, – говорю, – товарищ майор, старший лейтенант Борисов, адъютант третьей эскадрильи, у телефона.
Не знаю, обращал ли он внимание на мой весьма официальный тон. Он спрашивал обычно то, о чем я уже докладывал за день перед тем начальнику штаба, и, выслушав ответ, спокойно говорил:
– Работайте.
Спрашивается: что, собственно, мог я делать, как не работать? Этот сухарь раздражал меня.
На дворе стоял ноябрь, шел снег, низко висели облака. Летали больше на разведку.
Молодежь нашей эскадрильи сидела за картами, как в школе, и часто я видел, как двадцать пар глаз следили за мной, когда я проходил.
Никто не заговаривал, но, видимо, моим новичкам не терпелось разломать лед.
Был среди новичков совсем юный летчик Морозов. Его прозвали Булочкой – такой он был румяный и белый. По словам Власова, у Морозова был прирожденный дар к пилотированию.
– А срубить могут в первом же бою. Уж очень ребенок, – сказал мне однажды Власов.
Морозов глаз от меня не отводил. Может быть, он восторгался, потому что история моя передавалась в романтически приукрашенном варианте. Одни говорили: девушка бросила, другие – что умерла и штурман так огорчился, что товарищей подвел.
В один из дождливых нелетных дней заявился ко мне флагштурман полка. Шли занятия по штурманскому делу, я вел урок по поручению командира эскадрильи. Дослушав все до конца и задав несколько вопросов новичкам, флагштурман отвел меня в сторонку и, прижав к стене, начал с пристрастием расспрашивать о бомбометании с малых высот.
– А ну, покажи фото, помнишь, привез.
Мы сели в уголок, я развернул планшет, и мы долго рассматривали пленку у мигавшей лампочки.
– Как в Адмиралтействе назвали снимок, «недоразумение»? А ведь неплохое, Борисов, недоразумение! Красота! Ты не оставляй этого дела, – сказал он вдруг сердито, – мне на эти ваши ссоры ровным счетом наплевать, особенно пока мало летаем, а то бы ты у меня полетел как миленький! – добавил он грозно, словно я отказывался. – И Калугин с тобой бы летал. Ну, а раз пора не горячая – поучи молодых, это дело сейчас не маленькое. Но о своем маловысотном помни. Пока больше тебе ничего не скажу. Помни!
Он помотал своей круглой головой с седым ежиком и мохнатыми белыми, словно снегом запорошенными, бровями.
– Есть помнить, – сказал я.
Не успела с грохотом закрыться за флагштурманом дверь, как она хлопнула вновь, и он снова появился на пороге в потоках дождя.
– Что ж о рекомендации не спросил? Я, что ли, должен заботиться? Получай. – Он протянул конверт и загремел дверью.
Это была давно обещанная рекомендация в партию, о которой я не решался в последнее время заговорить. Да и вправе ли я был сейчас подавать в партию? Как отнесутся теперь к этому мои товарищи-комсомольцы?
* * *
Вечером двадцать второго ноября все разошлись после занятий в классе, а я сидел в углу у карты над огромной дугой Сталинградского фронта. За оконцем шумел ветер, на аэродроме было темно и холодно. Утром замечательно летали два звена первой эскадрильи на бомбоудар по узлам коммуникаций, два самолета вернулись подбитые, трое раненых, но сейчас все машины стояли в капонирах. Победно летал Калугин снова с Ярошенко.
В углу сидел Морозов и читал, а может быть, не читал, а наблюдал за мной, подбрасывая поленья в железную печурку, на которой грелся чайник.
Вот уже неделя, как мы были знакомы, а он все не мог начать разговор. На этот раз Булочка заговорил. Он даже книгу отложил для решительности, подошел и выпалил: – Товарищ старший лейтенант!
Я взглянул. Морозов стоял красный от волнения.
– Товарищ старший лейтенант, – повторил он, – я бы полетал с вами… Вы бы меня… Мы бы с вами хорошо летали… Да вот штурман ко мне прикреплен, да и вам нельзя, раз вы адъютант.
Вторую половину фразы он произнес шепотом, хотел сказать еще что-то, не нашелся и вышел, изо всех сил хлопнув дверью.
А я вскочил и стал ходить по тесному помещению, даже петь захотелось. Обрадовал меня Морозов.
Но, конечно, не стоило делать из мухи слона, и приходить в восторг тоже не было причины. Офицер хороший и летчик неплохой, но это еще не повод, да и дела на фронтах и мои дела вовсе не были так замечательны. Чего уж там петь! Но я словно предчувствовал, что в этот вечер произойдет что-то небывало хорошее. Кто его знает, может быть, и не врут предчувствия?
Я все ходил по землянке и время от времени останавливался у карты, стараясь представить обстановку на Сталинградском фронте. У нас в углу висели столовые часы из разрушенного дома, они пробили одиннадцать. Вдруг заговорило радио…
Я остановился. Я застыл, словно статуя, онемев. Каждая жилка во мне заликовала. Я забыл все свои печали и горести; все мои переживания и ошибки показались мне в эту минуту ничтожными, даже странно было, как я мог о них раньше думать.
Диктор говорил: «Наши войска под Сталинградом, перейдя в наступление с северо-запада и с юга, продвинулись на шестьдесят – семьдесят километров. Взят город Калач. Наступление продолжается».
Подбежал я к карте и принялся переставлять флажки. Какое это было, черт побери, наслаждение! Сколько времени они уже стояли как неживые и вдруг чудесно ожили и двинулись по карте на запад. Потом я много раз переставлял флажки. И они шагали и шагали все на запад до самого Берлина.
Я не заметил, как зашипела вода, выплескиваясь из носика чайника на раскаленный чугун, и как еще раз хлопнула дверь на пружине и передо мной выросла фигура майора Соловьева, осыпанная снегом.
Я сразу понял по его виду, что он все знает: такой он был веселый и счастливый.
– Ну, Борисов, дождались!… Поздравляю!… – сказал он торжественна и подошел к карте.
Мы долго молча рассматривали новую линию фронта, и лицо майора, мокрое от растаявшего снега, светилось от удовольствия. Потом майор повернулся ко мне и сказал неожиданно резко и с накипевшей злостью:
– Ничего, Борисов, и у нас дела пойдут в гору! Подожди, Ленинград им покажет!… За все покажет! Подожди, Борисов, потерпи!
Майор подошел к печурке, протянул красные от холода руки к накалившимся дверцам и, смягчаясь, сказал:
– Как работается, старший лейтенант?… Знаю, что порядок. Проведете с краснофлотцами беседу о международном положении.
Это было неожиданно.
– Есть провести беседу… Но…
– Видишь ли, Борисов, – пояснил Соловьев, – у тебя пока время свободное, так грех, чтобы оно убегало.
– Меня удивляет ваше предложение, товарищ майор.
– Почему?
– Пожалуй, можно и не объяснять, – сказал я.
– А вы и не объясняйте, старший лейтенант. Работайте.
Это было, конечно, приятно, но странно. Политработы я не вел и вообще никогда не числился в теоретиках, больше тройки по истории партии не получал – и вдруг выступить с докладом! Удивительные идеи бывают у нашего Соловьева.
Зазвонил телефон. В трубке я услышал голос комсомольского секретаря Величко.
– Здорово, Борисов! За тобой должок по членским взносам, так что заходи, уплатишь, а заодно и литературу возьмешь, я тебе кое-что к докладу приготовил… Ну, как здоровье и все прочее?
– Спасибо за литературу, – сказал я, – утром зайду.
* * *
Я вышел из землянки по шаткой лесенке. Положительно, я не мог сейчас заниматься своими бумагами.
На земле лежал нежный белый покров. В облаках быстро катилась луна, и снег сверкал ослепительно чистый в лунном свете. Пронеслась над городом шальная метель, засыпала все вокруг и стихла. Потеплело. Искрясь, кружились в воздухе одинокие белые звездочки и колючие иголки.
На огромном поле аэродрома рота краснофлотцев, освещенная луной, убирала снег лопатами из фанеры.
В такую лунную ночь с тихим снежком удобно бомбить. К черту, не надо об этом думать!
В такую лунную мирную ночь хорошо ехать в деревенских санях рядом с Верой, укутать ноги потеплее и смотреть, как тают снежинки на ее лице, а я этого никогда не видел.
Вспоминается детство. Вот в такую лунную ночь в жарко натопленной комнате, когда слышен только ход сонного маятника, хорошо подойти к окну и сквозь мутнеющее от мороза стекло всматриваться в снежные искры, в белые тихие крыши, в звезды, огромные, как елочные орехи, с иголочками-лучами.
Тяжело в такую ночь одному и вместе с тем хорошо. Тяжело потому, что хочется поделиться с близким человеком, а нет его под рукой, и хорошо: что-то поет в тебе и кажется – все возможно. Все хорошее возможно в такую минуту.
Я подошел к командиру роты. Он сидел на подножке маслозаправщика и с ожесточением смотрел на небо.
– Ишь, навалила, прорва, – сказал он, подвигаясь и освобождая мне место. – Ну и погода. То снег, то дождь – шут его знает, что за климат. Вот у нас в Сибири: если жара, так жарко, если мороз – так мороз. Порядок. А здесь, скажем, сейчас холодно, глядишь – завтра все равно летать нельзя: туманит, и к вечеру снова снег, и опять убирай… Нелегко воевать лопатой, – закончил он, словно я спорил с ним.
– А нельзя ли у вас лопату?
– А хоть десяток, вон у сосенки, – хмуро ответил лейтенант, видимо, обиженный тем, что беседа не состоялась.
Я взял лопату и пошел к полосе.
– Нашего полку прибыло, ребята! Становись сюда, товарищ командир, – сказал крайний краснофлотец.
Снегу было много, полоса огромная. Я стал рядом и принялся сгребать с полосы. Снег так и летел из-под лопат. Скоро к нашему краю подъехала машина, и за несколько минут мы навалили полный кузов. Серебристая в свете луны пыль летала в воздухе. Бушлаты и ушанки краснофлотцев побелели.
– Ну, теперь перекур! – объявил мой сосед.
Человека четыре, работавших рядом, отошли к палатке у старта. В палатке лежали свежие сосновые ветки и горел фонарь. У входа стоял бачок с водой и кружкой на медной цепочке.
Мой сосед достал кисет с махоркой и протянул мне:
– Покурите, товарищ летчик, нашего.
– А вы папиросы не хотите?
– Отчего же.
Мы сели в палатке у входа. Четыре краснофлотца потянулись к моим папиросам. Все закурили, незаметно завязался общий разговор.
– Вы, часом, не Борисов будете?
– Борисов.
– Тот самый Борисов? Вы уж простите, что я так сразу, дело житейское.
– Да, тот.
Краснофлотцы посмотрели на меня с любопытством.
– Да, любишь кататься – люби и саночки возить, – неожиданно сказал мой сосед.
– Это так, – подтвердил другой, доставая сухарь из кармана и принимаясь его грызть. – Нет, вы по совести скажите, товарищ командир: довольны, что не летаете?
– А чего ему стало, – заметил кто-то, – сыт, обут и нос в табаке.
– Как же так, ребята? Учился на штурмана, знаю дело. И вдруг: довольно летать, идите в канцелярию. Товарищи мои летают, а я в это время приказы переписываю…
Эти слова вырвались у меня невольно и, должно быть, произвели впечатление на краснофлотцев. Все примолкли.
– Правильно говорите, товарищ командир, – сказал наконец маленький краснофлотец, сидевший на корточках и куривший почему-то в рукав, обращаясь не столько ко мне, сколько к краснофлотцу, спросившему, доволен ли я, что не летаю. – Легкое ли дело – со своего места уйти. Возьми Сергеева: сняли его за беспорядки, поставили на другую работу. Так ведь как человек страдал! Или вот служил я до ранения на «охотнике». Случалось, что провинившегося не брали в операцию. Дружки уходят в море, а он сиди на берегу и грей пузо. Так ведь как страдал. И понятно!
– А мне нет, – заговорил тот, который начал с замечания по поводу носа в табаке. – Чего, спрашивается, человеку надо? Или он самый последний дурак, или перед кем-то выкомаривает: вот, мол, я какой, смотрите на меня!
– Глупости! – неожиданно и зло оборвал его мой сосед. – Совести нет, потому и не понимаешь.
Сидевший на корточках краснофлотец засмеялся.
– А при чем тут совесть? – обиженно возразил задетый.
– Выходит, для одного наказание, а для другого счастье, поди разберись, – сказал краснофлотец, кусавший сухарь.
– Так ведь товарища командира никто и не наказывал. Просто не хотят летать с ним – и точка.
– А это что, не наказание? А по-моему, оно даже иному непосильное, только если совесть у человека есть. А бессовестного, конечно, не прошибешь, с ним другой разговор… Товарища командира я понимаю, ему сейчас жизнь – не мед с сахаром.
– Ребята, – сказал я, – мой сосед…
– Его Горбуновым зовут.
– Вот товарищ Горбунов верно говорил: тут и впрямь дело в совести, даже наверняка в совести. Одно я вам пожелаю – не оказаться в моем положении, и еще скажу: только скотина может мне позавидовать.
– Эй, в палатке, перекурили? Давай за лопаты!
Краснофлотцы не сразу откликнулись.
– Пусть его покричит, не торопись, – объявил Горбунов, поворачиваясь ко мне. – Я вдвое против вас старше, товарищ старший лейтенант, и к тому же мы сейчас без официальностей разговариваем. Горе, оно, конечно, грызет человека, но тут одним огорчением ничего не исправишь… А голову вешать не годится, время не такое. Правильно? Ну, а раз правильно – разбирай лопаты.
Мы вышли из палатки. Луна спряталась за тучи, но снег сверкал по-прежнему, и белая перламутровая пыль дрожала над взлетной полосой. Грузовики то и дело подъезжали и уходили, полные снега.
Когда убрали всю полосу, мой сосед по лопате сказал:
– Может, зашли бы когда-нибудь к нам, а то вы, летчики, народ гордый.
– Ну да, гордый, – сказал я, радуясь приглашению.
Да, дело было в совести. Как ни странно, мне хоть и было стыдно и тяжело, а вот убеждения, что я виноват, вначале не было. Формально я ни в чем не погрешил. Я сердился на товарищей, на командира. И вместе с тем я чувствовал, что и Калугин прав в своей злости, и товарищи правы, став на его сторону, и командир. Да, есть вещи еще более тонкие, чем параграфы устава. Ведь бывает и так: человек погрешил против устава, и все же принимают во внимание всякие смягчающие обстоятельства и признают «по совести не виновен», а мне этих слов не сказали. Именно потому и не сказали, что не было за мною формальной вины. А все дело в совести.
Ночью зазвонил телефон.
– Проверяю линию… Не спится, Борисов? – спросил наш инженер связи.
Мне не спалось. Я всегда завидовал людям, умеющим строго и стройно мыслить. У меня же это всего больше походило на оркестр, в котором каждый инструмент играет, не заботясь об остальных. Дикая музыка. Я пил чай, мучился бессонницей и шагал по холодному полу, стараясь разобраться в себе.
Я мучился и должен был в конце концов придумать что-то ясное и хорошее. Мне вспоминались все время слова замполита на разборе и «переходящие остатки» Климкова, и мысли мои потекли по этому руслу. У меня, конечно, были свои «переходящие остатки».
Я спрашивал себя, как все это могло случиться? Ведь было время, и не так давно, когда Калугин отправил меня в Ленинград, хотя мог бы поехать и сам. Мы оба были ранены тогда и не могли летать. И я был так благодарен Калугину. О нас и в полку всегда говорили, как о друзьях.
Каждый экипаж дружит, иначе и невозможно, а нас связывали полеты с первых дней войны. И вот разошлись.
Я шагал в носках по холодному полу и, может быть, в сотый раз за последнее время старался понять, почему так произошло. Разве не могло быть иначе?
Не надо было уходить с боевого поста, когда все оставались.
Не надо думать только о себе.
А разве я думал о себе?
В детстве я видел в ТЮЗе «Проделки Скапена» Мольера. Там есть сцена, когда слуга приходит к своему хозяину и сообщает, что пираты задержали хозяйского сына и не отпускают с галеры. Старик в отчаянии, и о чем бы ни заходил разговор, он все возвращается к мучающей его мысли: «Но за каким чертом он пошел на эту галеру?» И я тоже в сто двадцать пятый раз спрашивал себя, почему я так упорно требовал отпуска. Да, смалодушничал, дважды орденоносец, человек, в чьей храбрости никто не сомневался, смалодушничал, не жил общим делом так, как жили им другие.
У меня оказались изрядные «переходящие остатки». И замполит, да и Климков обнаружили завидную проницательность.
* * *
Прошло недели две. Товарищи летали на разведку, все предвещало близкое наступление, а я оставался на земле и был занят унтами и табачным довольствием.
И вот появился корреспондент флотской газеты Горин. Он всегда приезжал к нам перед серьезными событиями. Завидев его длинную, тощую фигуру, его горбатый нос и жестикулирующие руки, его старенький планшет, набитый, как чемодан, у нас говорили: «Ну, раз Горин приехал – что-то будет!»
На удивление горячий и увлекающийся человек, он знал каждого морского летчика и штурмана, помнил каждый чем-либо примечательный полет, срочную отслужил стрелком-радистом, падал на По-2, разбился и снова летал. Приехав в часть, он прежде всего спрашивал: «Что случилось героического?» И если отвечали: «Ничего особенного», он удивленно поднимал мохнатые брови, иронически улыбался, и в конце концов ему удавалось доказать свое. Он умел подмечать все хорошее, что делали люди.
Когда не летали, Горин разыскивал краснофлотца с бензозаправщика или телеграфистку и начинал разъяснять всем, какие это замечательные мастера своего дела и как они замечательно воюют.
«Молодцы! – восторгался Горин. – Посмотрите на эту девушку: кто передает больше телеграмм? Не знаю другой такой девушки, молодчина! Пусть подождет: кончится война, я на ней женюсь… Ты согласна, Маша?»
И Маша, или Клава, или Зина, убегала, а он, тонкий, длинный, как винтовка с примкнутым штыком, в разлетающейся шинели, стоял, с восхищением хлопая себя по тощим бокам, потом быстро что-то записывал в «энциклопедию» (так он называл свою записную книжку) и через полчаса шумел уже в другом конце гарнизона.
Я любил его, и он ко мне относился со свойственной ему горячностью и дружелюбием. Прощаясь, Горин каждый раз обещал:
«Скоро, Саша, будешь Героем Советского Союза! Не забудь тогда журналиста Горина, не забудь, что он это предсказал».
В то утро он влетел, как бомба, и разорвался на весь командный пункт:
– Ты меня убил, Борисов! Месяц назад я напечатал статью о лучшем штурмане эскадрильи, о тебе! – Горин упал на табурет. – Ну, вот теперь ты молчишь… Борисов не летает. С Борисовым отказались летать, – большей нелепости не видел!… Говоришь, правильно? Мало сказать правильно! Ты обязан что-то сделать, дорогой, иначе позор на всю Балтику Хорош я буду, когда привезу эту новость. Зрелище!
– Послушай, Горин, ты на операцию?
– Не знаю.
Он всегда сначала говорил, что ничего не знает.
– Ты не мальчик, сам должен разбираться. Впрочем, ты мальчик, не сердись, Сашка! Но я не могу тебе простить этой глупейшей командировки. Получить, так сказать, совершенно официальный отпуск, вернуться бодро в срок и тут только понять, что ничего более глупого, чем это путешествие, нельзя было придумать… Ну покажи, как ты клянчил, покажи! Люблю я эти романтические истории.
– Перестань болтать!
– Я не болтаю, я делюсь впечатлениями. А ты не падай духом. Я верю в Сашку Борисова: ты еще будешь Героем Советского Союза!
– Где ты ночуешь?
– Где-нибудь.
Я хотел предложить мой чуланчик на командном, но не решился.
Горин посмотрел, сощурив глаза охотника за героическим, хлопнул меня по спине и сказал:
– Могу и здесь, хотя ты и обеспечил мне выговор с предупреждением и крупнейший скандал в авиационной печати. Черт с тобой, Саша!
Вечером я, как всегда, остался один, развел огонь в печурке, переставил флажки на карте по сводке Информбюро. Часов в двенадцать ворвался Горин.
– Ты всегда такой, словно мчишься куда-то, – сказал я, усаживая Горина на табурет у ящика, служившего столом.
– Не куда-то, а вперед. Слыхал последнюю новость? В немецкую армию под Ленинградом прислали стулья.
– Стулья?
– Говорят, что они так долго стоят под Ленинградом, что пора и посидеть.
– Неплохо… Давай ложиться.
Я уступил Горину топчан, а сам лег на полу в спальном мешке. У меня был спальный мешок, в нем можно было спать и на снегу. Свет мы потушили, но долго еще разговаривали в темноте. «Давай спать», – говорил Горин, и тут же находилась очень интересная тема, и мы продолжали разговор.
Война давно кончилась, а я отлично помню ночные разговоры где-нибудь в машине, когда полк перебазируется, или у дороги в разбитой избе, или в землянке, где дымит печь, сыро и холодно. В машину под брезентовый навес летят звезды или падает дождь, или ветер забрасывает пригоршнями снег. В избе темно и грязно, в окно глядит чужая ночь, но рядом теплое плечо товарища. То здесь, то там мигнет карманный фонарик, разгорится папироска, слышен тихий разговор: кто-то вспоминает, кто-то рассказывает, кто-то читает письмо из дому. Но больше всего толкуют о том, как жить после войны.
– Ты что будешь делать после войны? – спросил Горин.
Я ответил, что мне как военному, да еще профессионалу, да еще летчику, не стоит задумываться об этом сейчас, где-то на середине дороги.
Горин затянулся, и я на мгновение увидел в красноватом свете его лицо. Оно было немного сумасшедшим и мечтательным.
– Ерунда, – отрезал Горин, – это совсем не вредно. А я вот не могу не думать о том, что мы все будем делать после войны. И знаешь, что самое интересное? Никогда не угадаешь всего хорошего, что может сделать человек. Посмотришь – вполне заурядный парень, приезжаешь месяца через три и, если только он жив, узнаешь, что он и тут замечательно сражался и там что-то очень хорошее сделал и придумал… Вот я так прикидываю, что все у вас в полку герои, – сказал Горин с глубокой искренностью.
– Ну уж и все, – возразил я, хотя мне всегда было очень приятно, когда хвалили мой полк.
– Конечно, не такие, как Борисов, но и у тебя время впереди. Жизнь – не классный дневник, в котором одни пятерки за поведение. Не вздумай, пожалуйста, что я прощаю или хвалю. Ерунда! У тебя все же оказалось изрядно всякой дряни, выбрось ее за борт.
– Мы говорили не о дряни, а о том, как будут жить после войны.
– Кстати, попадалась тебе когда-нибудь книжка «Все люди – враги», не могу сейчас припомнить автора. Что, любопытное название? А по-моему, плохое. Это все ерунда и неправда. Ну, вот этот писатель, англичанин кажется, изобразил двух счастливых влюбленных. Если разобраться, Саша, они сущие бездельники, и все люди кажутся им врагами. Герой воевал в первую мировую и, конечно, не может найти себе места после войны, мечется и ничего не делает, потом отыскивает свою возлюбленную, австриячку, и они живут на острове, какого и на карте нет, пьют молоко и вино, покупают платья и вполне довольны своей жизнью. Но, понимаешь, что интересно: автору хватило пороху описать только неделю такой жизни, а если так жить год, то можно, конечно, от безделья сойти с ума. У нас кое-кто представляет себе, что после войны можно будет жить, как живут эти герои, что все будут половину года лежать на пузе и собирать камешки на южных пляжах. Этого, конечно, не случится, работенки и у тебя и у меня после войны хватит, это я тебе обещаю, Саша, хватит ее и у Пети, Васи и Кати.
– Пойми, мы могли бы все сразу же после войны очень хорошо жить, – продолжал Горин, – при одном условии, чтобы соседи, ближние и дальние, не позавидовали и сразу же после войны не пожелали рубашки ближнего своего. Эти общие соображения задевают, конечно, и Васю, и Катю и помешают нам получить все то от жизни, что она могла дать и охотно дала бы. Лично для себя я проектирую следующее…
Я видел, как Горин даже приподнялся на локте, вглядываясь в темноту.
– Во-первых, привожу жену и ребят обратно в Москву. Они у меня сейчас бог знает где, под Самаркандом. Сын черный, как негр, и тощий, как палка, в папу, а дочка так выросла, что и узнать ее не могу. Хочешь взглянуть?








