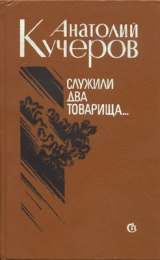
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– Ведь только что из леса, – шепотом сказал Борисов.
– Да нет, то другие леса, Саша, – возразил Морозов. – После войны, наверно, и в этих легко станет.
– А у меня, – зашептал Ивашенко, – одно желание: поскорее до своего дела добраться. Сколько всего повидал – кажется, на всю жизнь хватит. Главное – чтобы война кончилась и чтобы, понимаете, ребята, это была последняя. Я готов для этого на что угодно.
– Никто после нынешней не захочет ее снова. Если найдется такой тип – определят в сумасшедший дом и будут показывать как редкость, – сказал Борисов. – У нас, конечно, такого не найдешь. У них – черт его знает.
Морозов раздумывал. Войной он был сыт по горло. Ну, а если бы снова к нам пришли? Все равно, старик, ты сам натянул бы китель.
– Всем надоело драться! А немцам, думаешь? Ну сумасшедшее у них правительство, и сумасшедшая партия, и фюрер. А народ? – продолжал Борисов. – Не все же они там тронутые? Скоро Берлин возьмут и весь их дьявольский райх. Что они, после этого во второй раз полезут? Не верю.
– Ты мне о немцах не говори, – сказал Морозов. – Я о них спокойно слышать не могу. Вот кончится война, тогда посмотрим, а сейчас пускай они горят…
– Послушай, Коля, – сказал Борисов, поудобнее устраиваясь на полу, – я один из нас троих военный по профессии. Учился в летной, но я, ребята, тоже мечтаю о мирной работе. И знаете, о чем? Хочу в транспортную авиацию. Однажды, ребята, видел, как самолет привез зимой персики из Батуми. Вот запах был! Представляешь, как пахнут персики в самолете! А людей возить? Как это в рассказах пишут? Врач торопится к больному, зима, вьюга. Впереди отвратительная посадочная площадка. Иногда во сне вижу. Лечу, а мой пассажир спрашивает: «Нельзя ли, товарищ, скорее? Время дорого». Гляжу на спидометр – и просыпаюсь… Нет, ребята, кончится война, у меня, честное комсомольское, найдется работа.
– У одного нашего Ивашенко неконкретная профессия, – заговорил Морозов. – Что такое художник? Так, ничего определенного: портретики, пейзажики. Предпочитаю, ребята, цветную фотографию. Вот у Липочкина было настоящее дело: расчеты. Космические расчеты это тоже, конечно, несерьезно. Очень нужно тебе знать, плавает ли звезда эн от Земли на расстоянии одного светового года или двух! А вот расчет кривизны арки моста, это, конечно, настоящая работа, и в ней Костя был гениальный парень.
– Скучно ты рассказываешь, Булка, – сказал Борисов.
– Давайте без прозвищ, – шепнул Морозов. – Скучно – не скучно, а девушкам я нравлюсь, и ладно. И если тебе надо все знать про звезды, если у тебя без этого нет аппетита, изучай сколько влезет и рисуй картинки.
– И буду рисовать картинки, – с упрямством сказал Ивашенко. – Будь все люди, все без исключения, хоть немного художниками, на земле бы не было войн.
– А, говорят, ваш Леонардо строил укрепления и катапульты, слышал об этом на одной лекции.
– В те времена все было иначе! – взмолился Ивашенко. – Когда искусство для всех будет открытой книгой, войны станут невозможными. Заниматься искусством это почти то же самое, что любить жизнь, настоящую, во всем красивую. Понимаете, любить жизнь и воевать – бессмыслица, противоречие, как говорят философы. Искусство, конечно, победит войну! – сказал Ивашенко, холодея от восторга и волнения. – Искусство помогает жить при самых паршивых обстоятельствах.
– Не орите, Ивашенко, вы не на митинге.
– Я отлично знаю, что сижу в погребе и рядом немцы, – прошипел Ивашенко, – но это не доказательство. Но в будущем, до которого мы, быть может, не доживем, искусство станет сильнее войны.
Каждый остался при своем мнении, только Юлька ничего не слышала и не знала, что свечка давно догорела, что она в темноте и ее голова лежит на плече у Ивашенко, и что он осторожно, боясь разбудить, поддерживает ее. И хотя Ивашенко совсем не сторонник аскетической жизни, но именно потому, что сейчас так легко ему прижать к себе это юное, только что пробудившееся существо, ему совестно, и он становится робким. Он старается не шевелиться, хотя руки и ноги у него затекли. И он думает о прекрасной силе искусства, оно будет столь же великим, как наука, и поможет освободить человечество от войн. За этими мыслями он забывает о немцах, которые совсем рядом, и прислушивается к дыханию Юльки, к ее вздохам и детскому легкому похрапыванию, а за стенами погреба проходит ночь.
* * *
Она проходит по небольшому польскому городку, где теперь с каждым днем все меньше немецкого населения. Городок живет среди полей, лесов и болот, в стороне от широких дорог, но окна затемнены. За ними не спят. Сонно и тихо тянется в небо шпиль молчаливого костела, и приземистая пожарная каланча на площади, и здание со стрельчатыми готическими окнами (здесь помещается суд), и красивый дом пана ксендза, увитый хмелем, а на горушке за городом у реки торчит старый графский замок с бастионами, башнями и черепичными крышами. В нем квартирует немецкий гарнизон – ветераны первой мировой войны из запаса, хмурые люди, в душе проклинающие войну. Они сыты, как они говорят потихоньку, этим дерьмом по горло. Здесь живет и высокое начальство. Бог войны подарил ему частицу своего огня, и оно готово днем и ночью играть в солдатики.
Спит город, но не спит пан ксендз. Он сидит в своем кабинете – высокой суровой комнате. Стены уставлены книгами: отцы церкви, польские историки,-собрание классиков, среди них Толстой, Чехов, Ленин, в русском переводе Маркс и Энгельс, труды их в особом шкафу под ключом.
Ксендз уже не молод, лицо покрыто, словно пылью лет, узором тонких морщин. Щеки лежат на высоком воротнике, он размышляет. Он ненавидит проигравших победителей, но он боится и этих людей с востока, он читает их книги, чтобы понять, в чем сила и в чем слабость этих людей, ибо сказано: нет слабости без силы и нет силы без слабости.
В семьях пришельцев складывают пожитки. Надо уходить. А может быть, война обойдет эти леса и болота? Может быть, она изберет более удобные и более широкие дороги? Многие люди в этом городе, заброшенном и затерянном среди болот и лесов, начинают подумывать, что их заброшенность и отдаленность от автострад, от властей и, по мнению некоторых верующих, даже от господа бога, может обернуться величайшим счастьем. И хозяин маленького магазина безалкогольных напитков, куда горожане ходят выпить бокал лимонада, говорит своей жене:
– Ты всегда меня тащила, Зося, в большой город: «Поедем, поедем, там так весело!» А теперь у тебя завелись здесь свои делишки. Может, у тебя любовные делишки, Зося?
Зося молчит, ей хочется спать.
– Если о нас забудут и война пройдет мимо, тогда ты оценишь преимущества нашего городка, – говорит хозяин.
Окно открыто. Из леса рвется свежий ветер. На площади у костела распускаются клены. Но не всем так легко, как пани Зосе.
Например, советнику юстиции Кернеру. Он вспоминает множество слов, произнесенных им публично. Как опасно слово, от которого лишь одно мгновение колеблется воздух!
Советнику юстиции Кернеру не хочется оставаться в городке, когда покинет его бравый гарнизон. Да, у него нет доверия к польскому населению. Что, если оно само распорядится судьбой юстиции советника?
В сарае автомобиль с запасной канистрой бензина. Юстиции советник собирается в дорогу, но куда ехать? Куда уехать юстиции советнику Кернеру? И все же он выезжает еще в темноте. У него пропуск для ночных разъездов.
За городом он встречает Франека, но не замечает его. Никто не обратит внимания на мальчишку. К тому же Франек знает, что до сада пана ксендза можно добраться огородами.
Дед Явор послал его в опасное путешествие, чтобы переправить троих русских. У пана ксендза отличное знакомство среди людей из леса. Он многое может, пан ксендз.
Франек прячется за дерево от черной машины, вылетающей на дорогу, пробирается задворками и тихонько царапается у черных дверей дома, увитого хмелем. Старуха служанка проводит его к ксендзу.
У Франека нехорошо на душе. Он обманул пана ксендза, выпив молока с хлебом перед тем, как пойти на исповедь, а это большой грех. Теперь он грешен, и этого не поправишь до следующей исповеди. В смущении он входит к ксендзу, который знает всех своих прихожан и помнит грешника Франека. Но Франек набирается мужества: он пришел не за отпущением грехов, а по поводу тех троих, сидящих в погребе. И он довольно бойко обо всем рассказывает.
– Вот что, Франек, – говорит ксендз и гладит мальчика по голове, – передай деду, чтобы его гости зашли выпить стаканчик лимонаду к пани Зосе и спросили: «Нет ли у вас, пани Зося, вчерашнего кюммеля?» Она ответит: «Нет у меня никакого кюммеля», и тогда они могут поговорить о деле. Запомнил?
Франек кивает.
Городок в десяти километрах от дома дорожного мастера Явора, и мальчик добирается домой на рассвете.
– Ну что, сынок? – спрашивает дед, лежа на постели, когда перед ним в сумраке бесшумно вырастает Франек.
– Пускай спросят у пани Зоей вчерашнего кюммеля, – говорит Франек.
– Это можно, – говорит дед, – это неплохо.
* * *
На заре команда оберста из дома старого Явора собирается в путь. Пьет чужое молоко, жует сухари. Она оторвалась от своих частей и сейчас шагает в городок.
– Мой храбрый Тьяден, – говорит оберст, – нам не хватает двух покойников для ровного счета.
– На дороге за этим дело не станет, не беспокойтесь, господин оберст.
Тьяден утешает своего начальника. И зачем только господин оберст торопится на фронт? Впрочем, где он теперь, фронт? Может, к счастью, война к тому времени окончится, когда они разыщут своих. Не так давно он, Тьяден, был патриотом, но когда день за днем зарываешь мертвых, перестаешь уважать войну. Тьяден понимает, что это плохо, но он втайне давно уже возненавидел свое благородное занятие… Даже парное молоко не доставляет радости, как и это свежее утро. Оно такое, словно в мире нет войны, и Тьядену хочется реветь… А как славно они начинали!…
* * *
Старый Явор, переодев летчиков в ботинки, штаны и рубахи, в шапки с ослепительными козырьками, сидел на приступочке и любовался.
Летчики жмурились от яркого света после бессонной ночи в погребе и с любопытством поглядывали друг на друга.
Юлька носилась, по собственным словам, як скаженная.
– Ось яки гарнесенькие у нас батраки, дидуся! – кокетливо повторяла Юлька, не сводя глаз с курчавой белокурой головы Ивашенко.
Бабця Юстина испекла блинов на кислом молоке, подала картошки с простоквашей. Она молчала, и лицо ее едва выглядывало из глухо повязанного платка.
Юлька все подкладывала и подливала и носилась вокруг стола, будто ветер. Глаза у нее горели. Вот ведь какое привалило ей счастье.
– Пийдем, Алексей Григорьевич, скотине сена задать, – говорит она и прижимается грудью к плечу Ивашенко, сидящего робко за столом. Под скамьей у его ног лежит Муха.
Юлька заводит его в сарай к скотине и взволнованно шепчет:
– Вы до пани Зоси не ходите: она с немцами гуляла. В костеле мувили. Вы лучше идите до столяра Ганьского, разыщите его на Краковской, семь. Он двух беглых русских девушек из неметчины сховал и вашим переправил. Он вас жалеет. – Юлька все это шепчет быстро-быстро, глаза ее так и сверкают.
– Вы летчики? – шепотом спрашивает Юлька. – Вы еще прилетайте до нас, як война скинчится! Дидуся говорит, что теперь швидко.
Юлька осторожно кладет руки на плечи Алексею Григорьевичу и становится для этого на кончики пальцев, темных от загара еще с прошлого лета.
– Я, как вас увидела, сразу залюбила. Я з вами куда желаете пойду, – жалобно от стыда и смущения говорит Юлька, – хоть в кониц свиту!
Ивашенко поражен и ему хочется сказать доброе и хорошее слово этой дикой Юльке.
– Кончится война, приеду к тебе, Юлька, – и ему кажется, что он обязательно так сделает, но, чувствуя на плечах маленькие загорелые руки Юльки, он соображает, что вряд ли еще раз посчастливится ему попасть в эти польские глухие леса, даже если он довоюет.
Юлька сняла с пальца тонкое оловянное колечко, первое колечко – подарок матери.
– У тебя нет перстенка? Возьми, дарю. А теперь кинь его у крыницю, – шепнула она.
Ивашенко подошел к колодцу посреди двора, красовавшемуся воротом, железной цепью и ведром. Из колодца тянуло свежестью. В нем еще купался месяц.
Ивашенко наклонился и бросил кольцо.
Даже круги едва скользнули по тихой воде. Только месяц скривился на мгновение, задрожал и снова замер.
– Ось, – сказала Юлька удовлетворенно, – теперь ты виртаешься за ним.
– А может, и правда вернусь, Юлька?
Муха теребит Ивашенко за штаны.
– Брысь видсиля, чтоб тебя разорвало! – шепчет Юлька.
Муха, устыдившись, отбегает в сторонку.
* * *
До городка они шли втроем. В городе они решили зайти в кофейню пани Зоси и к столяру Ганьскому.
– Давайте я пойду к Ганьскому, – сказал Морозов, – стрелок парень тонкий, Юльку он покорил, но тут дело серьезное. Либо ты иди, либо я.
– Иди, если хочешь, – сказал Борисов, – а мы в кофейню. Встретимся на городском бульваре, в три часа.
* * *
Пани Зося, нажав крючок сифона, наполняет лимонадом бокал и улыбается хозяйской улыбочкой. Но улыбка ее сегодня безразлична господину в тирольской шапочке с куриным пером за ленточкой. Он проглотил лимонад и торопливо отправился по своим невеселым делам.
На пустом рынке какая-то хуторянка в платке продавала десяток пучков малиновой редиски, а другая скучала над бидонами с молоком в ожидании покупателя. Тут же вертелось несколько городских собак вокруг маленькой суки. Какая-то глупая женщина с рыбьим лицом, как ничего не ведавшая о происходившем в мире, безмятежно ждала покупателей у первых белоснежных нарциссов с золотым сердечком.
У каждого второго дома стояла то повозка с лошадьми, то грузовик, а то и легковая машина. Уезжали немцы. Еще не слышалось артиллерийской стрельбы. Еще над городом стояла утренняя тишина, но за дальними лесами и озерами уже громыхало и посверкивало ночами. Это не были жаркие воробьиные ночи, еще не пришло время для летних гроз.
У половины домов из труб не шел дым, там не готовили пищи, не поливали мостовой и цветов у дома. По главным улицам двигались возы и машины, люди с тележками для ручной поклажи. Они уходили на запад. Из домов выносили чемоданы, перины и старинные часы с кукушками, весело куковавшими еще недавно. Улицы были полны людей, оставлявших городок.
В костеле только что окончилась утренняя служба. Он был пуст. Весенний солнечный свет четырьмя столбами падал в витражи, на которых были изображены сцены Ветхого и Нового завета.
Служка тушил свечи перед изображениями Христа и девы Марии. Ксендз, нахмурившись, стоял в полутемной исповедальне и, положив руку на голову девушки, выслушивал исповедь. Девушка плакала. Сколько раз он видел эти нежные легкие слезы.
Он отпустил ей вольные и невольные грехи и протянул руку для поцелуя.
Ксендз еще долго смотрел на площадь, по которой ехали повозки и шли люди, потом оставил исповедальню и, поручив викарию закрыть храм, спустился с бокового крыльца. Он шел с торжественной медлительностью слуги господа на земле, путь его был недалек и вскоре привел его на рыночную площадь.
В кофейне пани Зоси было пусто.
– Пани Зося, – заговорил ксендз, – к вам зайдут трое хлопов. Они скажут условное слово, укажите им дорогу к нашим друзьям.
– Что то за люди? – спросила пани Зося с любопытством. – Может, они останутся в городе? Что они умеют?
Ксендз подумал:
– Я не говорил с ними и не знаю, что они умеют. Может быть, они умеют только стрелять.
Ксендз вышел, а пани Зося стала перемывать бокалы.
* * *
Прошел час. Пани Зося провела его в волнении: груженная скарбом машина остановилась у кофейни. Вошли двое пожилых людей и три девочки.
– Нельзя ли у вас выпить кофе? И поскорее.
– Торопитесь? – любезно спросила пани Зося, испытывая торжество.
– Война, – сказал старик по-польски, – пейте скорее, девочки, – сказал он по-немецки. Постоял у буфетной стойки, где красовалось несколько пустых коробок от конфет и печенья. – Есть у вас булочки?
– Со вчерашнего не пекут, – с ласковой улыбкой ответила пани Зося.
Старик еще постоял, глядя на плакат, хваливший миндальное мороженое.
– Человеку надо жить дома… – сказал он, не обращаясь ни к кому.
И как раз в это время вошли два парня, оба в изрядно поношенных штанах, в крестьянских ботинках с такими толстыми подошвами, что, кажется, век носи – не износишь, И рубахи на них были с карманами на груди, заправленные в штаны под широкий, в три пальца, ремень. Настоящие рабочие парни. Тот, что повыше и стройнее, с загорелым лицом, с жестко сжатыми губами, был в вельветовой синей фуражке, надетой чуть набок. А другой, словно освещая кофейню своей белокурой кудрявой головой, фуражку засунул за ремень. За пазухой у него сидела крошечная черненькая собачонка и с любопытством осматривалась. Он был немного неуклюж, и добродушная улыбка не оставляла его голубоглазого лица. Оба были ладные ребята.
Пани Зося поглядела в зеркало за стойкой, взбила белокурые, мытые перекисью волосы, поправила крестик в декольте и улыбнулась одной из завлекательных своих улыбок. Она готова была поклясться, что никогда не встречала этих парней… Хорошенькие мальчики!… Может быть, те самые, пана ксендза? Наверное, не те! Тех трое, а этих два… И чего они так держатся? Когда у парней такие глаза, они могут смело смотреть на женщин… Забились в самый угол, дурни!
Один, тот, с тонкими губами, подошел и ткнул в кофейник и помахал двумя пальцами, как немой.
Она поставила перед ними чашки, объяснила, что сахару нет, почесала у собачки за ухом и упорхнула к стойке.
Немец, наверное старый учитель или старый доктор, уехал с семьей на своей ужасной машине.
Теперь остались только эти парни. Они пили кофе и тихо разговаривали. Их совсем не было слышно.
Пани Зося на время забыла о них: перед самой ее кофейней сцепились колесами две коляски. Одна с чемоданами, положенными друг на друга, как будто из них собирались построить фабричную трубу. Сразу началась суматоха, но их скоро расцепили. Те двое взглянули на трубу из чемоданов и продолжали свой разговор.
Пани Зося подумала о том, что, может быть, всему населению города предложат уехать… Нет, она не немка и ей незачем уезжать, пускай они сами убираются. А если предложат, она спрячется в подвале или уйдет в лес… Там не так легко найти… Кофейню, конечно, закроет. Опустит железную штору… Все, наверное, разграбят… У нее нечего грабить, это известно… Никто денег не держит в магазине. Она не сумасшедшая… А если здесь будет сражение? Кому это нужно в такой дыре… Она всегда в молодости хотела уехать… Кофейня держала ее за горло… Сражения не будет, но закрыть кофейню надо вовремя, когда эти уберутся, а другие еще не войдут. Все надо вовремя… Перебьют ее бокалы и сервизы… И с парнями тоже… Всегда надо вовремя… Хорошо, что вина у нее давно нет, и все это знают. Однако долго пьют кофе эти ребята. Таким парням впору пить коньяк.
Она села на свой табурет у кассы, подождала и снова подошла к ним.
– Ничего больше?
С узкими губами показал на чашки и поднял средний и указательный пальцы. Когда она принесла кофе, другой, голубоглазый, спросил на ломаном немецком:
– Нет ли у вас вчерашнего кюммеля?
Наверное, он случайно это сказал… Так получилось… И она ответила по-немецки:
– Мы уже давно не отпускаем гостям вино. Но для вас, пожалуйста, две рюмочки.
Они выпили кюммель и стали снова пить кофе и снова шепотом заговорили между собой.
Она ничего не слышала. А может быть, это немецкие шпики?… Непохоже… Когда что-нибудь непохоже на то, что оно есть, это особенно опасно. Такие красивые парни – и шпики!… Развелось видимо-невидимо. Каждый второй – шпик! С ума сойти!
Этот голубоглазый поманил ее снова, и, когда она подошла, он еще раз спросил по-немецки, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Нет ли у вас вчерашнего кюммеля?
Если бы их было трое, она бы им ответила. Она бы ответила, как надо… Но их было двое. И она принесла еще две рюмочки кюммеля.
Черт с ними, может быть, это шпики!… А если нет, объяснились бы по-человечески… Молчат, как немые.
Но Борисов и Ивашенко не могли и не знали, как объясниться. В кофейню все время кто-нибудь входил и выходил, какой-то старик, пьяный с утра, вертелся у стойки… И эта пани, от которой предостерегала Юлька… Она не признала их, черт с ней… В конце концов, они пойдут лесами. Подумаешь, сто километров… Может быть, Морозов счастливее… Наверно, счастливее. Нет, они не умеют вести себя в немецких кабаках и разговаривать с этими белокурыми чертовками… Они пойдут на бульвар и подождут Морозова.
* * *
Юлька объяснила, как найти Краковскую, семь, и Морозов шел, не спрашивая. Весенняя прохлада стояла над городком. По главной улице на запад ехало и шло много народу, а ближе к окраине было пустынно, тянулись заборы, палисадники, распускалась первая листва.
В окнах, затянутых занавесками, цветы – незнакомые и такие красные бубенчики, как стояли когда-то в морозовской избе. Мастерские и лавочки закрыты, будто воскресенье. За заборами и цветами на окнах шла не знакомая Морозову, чужая, насторожившаяся жизнь.
За невысокой изгородью Морозов увидел человека в жилете, с широкой, красной от загара шеей. Волосы его трепал ветер. Он копал в огороде землю. Морозов увидел его издали, и пока подходил, тот упорно и спокойно копал, как будто не было ему никакого дела до всего, что происходило в городке и на свете.
Человек копает землю – вот это и есть то самое важное и нужное, то, чего ему захотелось с такой непреодолимой силой, как только он оказался среди полей на возделанной земле. Ни Борисов, ни этот мальчишка стрелок не понимали этого. Можно очень далеко уйти от того, что было самым важным в твоем детстве, но только сойдешь с привычной колеи – и вдруг память возвращает тебе все былые привязанности, привычки и пристрастия.
Морозову захотелось попросить лопату у этого человека в жилетке, вонзить ее раз-другой в землю и посмотреть, как горит солнце на ее лезвии. Но он остерегся. Он не знал ни немецкого, ни польского, он вообще не знал языков, кроме родного. И был немым в этом городке. И сейчас, один, без товарищей, он испытывал чувство одиночества.
Надо было добраться до Краковской, семь.
Он узнал домик сразу, так подробно его описала Юлька. Одноэтажный дом с мезонином, три окна на улицу, зеленая дверь с большой трещиной, на окнах цветы и занавески. Перед домом палисадник с тремя кустами.
Улица молчала, словно вымерла.
Он постоял у дверей, в нем шевелилось неприятное чувство, но ведь он сам говорил, что должен шагать как победитель, ведь он один из миллионов победивших. Он поднял голову и позвонил.
На Морозове были ботинки, штаны и суконная рубашка, которые обычно носили сельские рабочие в этих местах. Комсомольский билет и офицерское удостоверение он спрятал в ботинок, и они жали ему ногу. Ничего, как-нибудь донесет. На плече у него было что-то вроде дорожной сумки с куском хлеба и колбасой. Карты и планшет он выбросил, но компаса ему было жаль, и он сунул его в нагрудный кармашек. На руке остались часы, пистолет он положил в карман.
У дверей послышались слабые шаги, дверь отворила старушка. Морозов сказал одно слово:
– Ганьского.
Старушка что-то ответила по-польски. Он продолжал стоять, силясь уразуметь смысл ее слов.
Тогда она замахала рукой, давая понять, что ему следует поскорее уйти. И в это время из-за ее спины появились два человека, в штатском и военном.
Штатский в тирольской шапочке с петушиным пером дернул Морозова за руку, и он невольно сделал шаг в дом, а тот, который был в военном, захлопнул дверь.
– Идите вперед, – по-польски приказал тот, что был в тирольской шапке.
Морозов не понял. Тогда тот заговорил по-украински.
Морозов продолжал молча стоять, сердце его яростно стучало. Выстрелить и бежать… Но в это мгновение тот, что был в военном, припал к нему, скользнул ладонями по его рубахе, штанам и стремительно вытащил из его кармана пистолет.
– А, подлец! – крикнул Морозов и изо всей силы опустил кулак на голову этого человека. Но было уже поздно. Из соседней комнаты выскочили двое здоровенных солдат, связали ему руки, вытолкнули на улицу и повели.
– Теперь будешь знать, партизанская морда! – сказал по-польски человек с куриным пером за ленточкой шляпы.
Его вели четверо. Впереди и позади него шли солдаты с автоматами.
«Вот и влип, как кур в ощип, – подумал Морозов. – Бежать? Пристрелят при первой же попытке». Он шел по мостовой, ему давали дорогу. Какая-то девушка посмотрела ему в лицо и отвернулась.
Его вывели на рыночную площадь и повели мимо бульвара, на котором он должен был встретиться с Борисовым и Ивашенко.
Зачем он пошел? Но он командир, он должен был пойти. Он еще выпутается из этой истории и вернется, как возвращался из труднейших полетов. Он стал вспоминать полеты, это успокаивало. К нему возвращалось мужество, и все же где-то там, в глубине сознания трезвая и прямая мысль говорила ему: «Для тебя все кончено».
У бульвара он стал искать глазами товарищей и нашел их. Они сидели на скамейке и разговаривали.
«Болтает Ивашенко об искусстве», – холодно, без раздражения подумал Морозов.
Увидят ли они его?
Его гнали быстро, он не удержался и оглянулся и получил удар в спину. Но он увидел, как одновременно поднялись со скамейки Борисов и стрелок и посмотрели ему вслед. «Увидели», – подумал Морозов, и ему стало легче.
Если бы не отобрали пистолет и не связали руки – он как пить дать улепетнул бы от этой пехтуры – юнцов с унылыми мордами.
Его гнали на край города, к старому замку. Замок виднелся издали. Его башни, разрушенные давным-давно, оплетали едва распустившиеся хмель и плющ.
В войну солдат так много, что им не хватает крыш. И теперь под сводами старой крепости жили солдаты.
Когда привели Морозова, они как раз собирались в дорогу из своего древнего пристанища. Тяжелые железные ворота были открыты. Пехота – старики и школьники – последняя гвардия, лихим шагом и с унылыми лицами выходила из крепости. Морозову сейчас не было дела до этих людей, так же как и этим людям до него.
Старый дуб стоял на плацу крепости. Он еще не оделся в листву, но уже приметно оживала в нем весенняя сила, и Морозов с тоской посмотрел на это могучее и одинокое дерево.
Морозова провели в полутемную комнату.
За столом сидели два офицера. Связист торопливо снимал походный телефон, другой солдат складывал карты.
Вошел повар в белом колпаке и с подносом и поставил на стол кофейник, чашки и хлебницу с сухарями и украдкой посмотрел на пленного.
Парень походил на батрака, наверно партизан или шпион. Он стоял между двумя автоматчиками с бледным замкнутым лицом, крепкий, красивый, еще очень молодой, и повар, человек старый, изверившийся в войне, потерявший на ней близких, пожалел его.
Но он не мог этого никому сказать, потому что жалость уже давно стала преступлением.
Выйдя от своих начальников, повар, именно потому, что на мгновение испытал чувство жалости, испугался: а не услышал ли кто-нибудь его безмолвную мысль?
Во дворе мальчишка-солдат собирался надеть седло на норовистую лошадь и ходил у точеной умной морды. Повар крикнул ему:
– Опять партизана привели! Стреляли бы их на месте…
В то время, когда повар ставил поднос на стол, Морозов заметил тень сочувствия, мелькнувшую на его лице. Но по тому, как тот сразу отвел глаза, он вдруг понял, что ему нечего ждать и не на что надеяться.
Офицер за столом был одних лет с Морозовым. Широкое лицо, маленькие усики, которые он носил, видимо, подражая главе государства, и крепкий тяжелый подбородок были полны энергии. Другой офицер, старый, с усталым сонным лицом, с редкими седыми волосами, зачесанными на затылок, не смотрел на Морозова. Он придвинул к себе чашку и наливал кофе. И по тому, как он наливал кофе, было видно, что он старший по чину и хочет дать возможность молодому заняться этим неинтересным и скучным делом.
– Du bist{1} партизан? – резко спросил офицер, испытующе глядя на Морозова.
– Развяжите руки, – сказал Морозов.
– Den Ьbersetzer, schneller.{2}
Солдат, складывавший карту, выбежал из комнаты.
Вошел человек в тирольской шапке с куриным пером. Только теперь Морозов мог разглядеть его ничего не выражающее, холодное, мертвенное лицо, на котором будто на всю жизнь застыло пугливое лакейское выражение.
Переводчик склонился к офицерам и что-то зашептал.
– Отвечайте: вы партизан? – вкрадчиво спросил переводчик.
Морозов молчал.
– Вас спрашивают в последний раз.
– Развяжите руки.
Переводчик махнул солдату, тот подскочил и развязал руки Морозову.
– Партизан?
– Нет, – сказал Морозов.
Сейчас ему было все равно. Для него все было кончено, он видел это по лицам офицеров. Во всем этом не было его вины, он никогда не работал разведчиком на земле, на земле он не умел воевать. Он просто ничего не знал об этой войне, он впервые видел противника, даже пленных он видел только издали. Он непоправимо ошибся, надо было узнать, кто в доме. Ужасно глупо, мальчишески глупо!… Борисов и стрелок могут погибнуть так же бессмысленно по его вине. Эта мысль показалась такой мучительной, что он забыл об остальном.
Он машинально наклонился завязать шнурок ботинка. Конвойный стремительно ткнул его автоматом под ребро:
– Stehen!{3}
– Обыскать, – крикнул офицер.
Солдат подскочил к Морозову. Карманы его были пусты, если не считать ста марок. С него сняли ботинки и портянки, и он стоял теперь босой.
На столе перед офицерами лежали две книжечки. В одной, синей, было сказано, что владелец ее Николай Морозов, капитан полка морской авиации, в другой, красной, что он член Союза коммунистической молодежи.
– Господин оберст, – подобострастно сказал по-немецки переводчик, – пленный – капитан морской авиации, член Союза коммунистической молодежи.
Оберст брезгливо отодвинул от себя обе книжечки и чашку, из которой пил кофе, вздохнул и сказал:
– Расстрелять. Мы не берем в плен коммунистов. Расстрелять для ровного счета.
– Для какого счета? – переспросил офицер.
– Для ровного, – повторил оберст. – Мне не хватает двух человек для ровного счета.
Офицер посмотрел на оберста и, решив, что это шутка, улыбнулся.
«Мы передали бы его гестапо, но части гестапо уже выступили из города, нам, собственно, ничего не нужно от этого капитана, – подумал офицер. – Расстрелять так расстрелять».
– Переводчик, переведите, я задам несколько вопросов.
– Где вы взяли эту одежду? Сто марок? Зачем переоделись? – спросил переводчик.
– Одежду снял с убитого, у него в кармане были марки, хотел добраться до своих.
Переводчик перевел ответ Морозова офицерам.
– Вы убили этого человека? – хотел спросить младший офицер, но оберст сказал, что в данном случае это совершенно безразлично.








