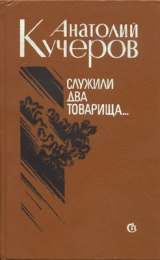
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
По всему вскоре стало ясно, что пришел он с заранее намеченной целью: навести дисциплину и порядок в нашем полку.
Дисциплина у нас немного подрасшаталась, хотя каждый выполнял все, что ему приказывали, от полного сердца. Если нельзя было летать, Василий Иванович без особо длинных просьб отпускал из гарнизона. В нелетную погоду смотрел на отлучку летчиков сквозь пальцы и требовал одного: чтобы возвращались в срок и чтобы потом из города не сообщали о происшествиях. И надо сказать, что все добросовестно выполняли это его требование. Из Б. кое-кто из наших в плохую погоду отлучался на сутки в город, и Василий Иванович делал вид, что он этого не замечает. В полку как будто и не было плохой дисциплины. Но только на первый взгляд и на взгляд невоенного человека. Трудно предсказать, какие непредвиденные обстоятельства могут возникнуть в военное время и как может сказаться отсутствие необходимого человека.
Соловьев это очень хорошо понимал и даже сам возглавлял атаку на Василия Ивановича, с которым был дружен, долго служил вместе, но именно в силу дружеских своих чувств не мог повлиять на него и, как говорится, выправить положение.
Когда Василия Ивановича взяли от нас, комиссар (к тому времени замполит) крепко горевал, все это видели, но он пересилил себя и начал работать так, как ему давно хотелось. С новым командиром они сошлись не сразу: уж очень несхожие это были люди.
Совсем иначе, не так, как Василий Иванович, повел себя наш новый командир. Как сейчас помню его первую беседу. Он начал ее так:
– Говорят, у вас подраспустился личный состав?
С этим вопросом он при всех обратился к заместителю по политической части майору Соловьеву. Соловьев с достоинством принял этот справедливый упрек.
Замполит был человек душевный, под стать Василию Ивановичу, кадровый политработник. В этом кругу мало было людей с жилкой теоретика, все больше практики-воспитатели, а наш был философ. Занятия, которые он проводил, действительно увлекали. Его любили, как и Василия Ивановича. Он хотел не внешнего благополучия и гладкости, а чтобы все в самой основе жизни полка было здоровым и жизнеспособным.
При старом командире, как уже сказано, Соловьев не умел настоять на своем, и следы этой старой практики сказывались некоторое время и при новом командире.
– Обстановка требует от нас строгости к себе и другим, – любил напоминать наш новый командир.
Он был гвардии майор, и его только так и называли, никто толком не знал его имени и отчества.
Дня через три после его назначения в полку произошло первое неприятное событие: обнаружилось, что техник второй эскадрильи Вязанкин выпил вечером с приятелем по случаю дня рождения своей дочки и утром едва таскал ноги.
Командир полка дал ему десять суток гауптвахты с исполнением служебных обязанностей. Это было строже, чем мы привыкли. Тут же крепко досталось и Соловьеву.
Таким оказался наш новый командир.
Второе событие этих дней: Вася Калугин и я получили новый самолет. Как раз в то время начали дарить самолеты и танки, построенные на личные средства трудящихся. Это было еще новшество.
Помнится, в конце лета приехала к нам делегация одного уральского завода: двое мужчин и две молоденькие девушки. И в это время Азаринов перегнал к нам новенького «Петлякова» – отличную машину с некоторыми техническими усовершенствованиями.
Новый командир и Соловьев устроили митинг; было сказано, что подарок доверяется нашему экипажу как одному из лучших. Вы понимаете, что эта была честь, и Вася Калугин особенно горячо радовался. Он даже перестал вспоминать свой сто пятый.
Мы покружили двух делегаток над аэродромом, а до мужчин очередь не дошла: начался обстрел.
Вечером в салоне командира делегаты рассказывали о жизни на Урале, спрашивали, как назовут машину, обсуждали разные названия и в конце концов остановились на названии «Месть уральских металлургов» и номере завода и цеха, строившего самолет на свои средства.
За сутки, которые делегаты провели у нас, мы так подружились, что не хотелось их отпускать, да и у девушек разбежались глаза. Климков постарался блеснуть своими изделиями, и это ему удалось, несмотря на скудность запасов.
– Одного мне жаль, Женя и Валя, – сказал Калугин в день отъезда делегатов, – вы уезжаете до первого боевого вылета на вашем самолете. Но я вам напишу: мы будем писать друг другу, согласны?
Они, конечно, были согласны. И уральские Женя и Валя, совсем недавно пришедшие из колхоза на завод, оставили нам свои адреса и фотографии, и Калугин, помнится, говорил, что Женей можно увлечься, – одно к одному.
Случилось так, что мы даже не успели как следует облетать машину, когда пришел приказ о перебазировании на новый аэродром, ближе к Ленинграду, в М.
Всем, кого соединяли с Ленинградом близкие люди или хоть какие-то знакомства, это было по душе. И хотя добираться до Ленинграда было по-прежнему очень трудно, всем казалось, что теперь-то мы стоим рукой подать от города, а следовательно, и от близких нам людей.
Помню, как мы снова устраивались в деревянных домиках возле аэродрома. За всей суетой перелета и устройства многие, да и я не заметили печальной стороны этого события. Калугин почувствовал ее сразу. Он был молчалив и мрачен в этот день, и причину этого я понял за обедом из его же слов.
– Оно, конечно, хорошо жить в комнатах, – мы поместились в одной с Калугиным и инженером эскадрильи, – вот если бы это была Рига или Либава, а то столько месяцев прошло, столько товарищей не вернулось, а мы все еще топчемся на одном месте.
Подлетая к Ленинграду, я увидел его сверху. Улицы были непривычно пустынны. Город жил узенькой дорожкой через Ладогу. Это было тоже видно: по Ладоге шли корабли.
Надо было во что бы то ни стало пробить настоящую дорогу, прорваться. Мы все думали только об этом, и каждый по-своему это переживал.
Мне снилось, как московский поезд входит под деревянную крышу Финляндского вокзала, как первый поезд разрывает красную ленточку. Мне почему-то казалось, что должна быть красная ленточка, как у финиша гонок.
Через несколько часов после перелета нам передали об артиллерийском обстреле Ленинграда. Калугина и меня срочно вызвали к командиру.
Наш майор сидел, склонившись над картой, в еще не прибранной после отъезда старых хозяев землянке и наносил последние данные разведки. Лицо у него было усталое, желтое. В оконце голубело чистое небо, и в нем, над городом – черные мячики разрывов.
– Придется слетать на батареи, товарищ Калугин… Вот примерные координаты.
Я развернул планшет, где лежала моя давно обтрепавшаяся карта, и нанес цели.
Мы взмыли сразу, и, пока Вася набирал высоту, я видел, как над городом рвались осколочные снаряды.
Мы вышли на залив, легли на курс, с порядочной высоты неожиданно спикировали на мысок недалеко от стрельнинского дворца, откуда предположительно вела огонь батарея, и положили четыре сотки.
Нас обстреляли, но Калугин ускользнул вверх, в облака, и через десять минут мы уже были на аэродроме. Как были, в комбинезонах и шлемах, побежали доложить о полете.
Майор, все так же склонившись, сидел над картой. Все так же над городом голубело чистое небо. Молчал телефон.
– Думаю, что накрыли, товарищ майор, – сказал я, – пикировали до шестисот метров.
Мы все еще сидели у майора (прошло не более двадцати минут), как зазвонил телефон. Майор взял трубку и, выслушав кого-то, сказал так же ровно, как говорил всегда:
– Придется повторить полет. Вылетите четверкой, будет прикрытие. По-прежнему – бомбоудар по артиллерийской батарее.
Он задумался и потом показал на карте:
– Вот здесь.
Калугин вызвал четыре дежурных экипажа.
Когда мы выбежали на аэродром, из города едва слышно доносились разрывы.
Калугин был раздражен.
– Давай точнее координаты! Что ты бросаешь в белый свет?
Я бомбил цель, а не белый свет, но фашисты отлично маскировали свои батареи.
Через полчаса мы вернулись. Четырнадцатый номер получил осколочное повреждение правого крыла.
Командир по-прежнему сидел над картой.
Калугин еще докладывал, когда дежурный снова передал об артиллерийском обстреле.
Калугин яростно рванулся.
– Разрешите вылететь в третий раз, – глухо сказал он, и лицо его стало каменным и злым.
Я давно не видел таким Васю.
Майор поднял голубые холодные глаза. На этот раз они были не такие холодные, в них мелькнула какая-то искорка.
– Надо лучше разведать цели, – сказал он наконец, – можете быть свободными.
– Долго еще нам торчать здесь и бомбить их орудия?
К черту! Разбомбишь – они ставят новые. Вот веришь, не могу больше, кончается мое терпение. Да и ты хорош: дважды летали, а ни одного путного попадания!
Я рассердился. Бомбы легли в указанные цели. Калугин нервничал, но я не хотел выслушивать несправедливые упреки и повторил:
– Бомбы легли точно.
– Может быть, он вел огонь с другой батареи?
Поздно вечером после ужина мы сидели на командном эскадрильи и рассматривали с Калугиным на карте линии немецких укреплений.
Часов в двенадцать позвонил командир полка. Калугин взял трубку, и я по его глазам понял, что новости хорошие.
– В нашу эскадрилью дают новые машины. Перегоняет Азаринов. – Калугин помолчал. – Теперь, должно быть, скоро! – потом подошел и обнял меня. Он ничего не прибавил к этому «скоро», но я отлично знал, о чем идет речь, все тогда думали об этом.
Далеко за полночь мы строили планы прорыва, а за крошечным вровень с землей оконцем КП падал осенний дождь, предвещая нелетную погоду.
И действительно, наступили туманные дождливые дни, выпадал осенний снежок и таял. А нет, знаете ли, ничего хуже этой бездельной погодки!
Кажется, дней через десять после перебазирования я получил письмо от сестры. Калугин в этот день был дежурным. Я вернулся с занятий. В комнате был наш сосед – инженер эскадрильи, отличный мастер, даже художник своего дела, и до удивления бездумный человек.
На флоте инженер служил лет двенадцать, и все в авиации. Он знал всех, помнил, кто на какой машине летал, где, когда и с кем служил и как протекала служба. Стоял он и на Дальнем Востоке и на Кавказе. Еще до войны разошелся с женой, хотя своих ребят, мальчика и девочку, любил и высылал сверх аттестата, что оставалось. Оставалось, правда, немного.
– Бегут, как сорокаградусная, – любил говорить наш инженер о деньгах, поднимая брови и делая круглые и удивленные глаза.
Когда я вошел, инженер лежал с гитарой на койке и напевал. Пел он как-то странно: слух был хороший, а голос бабий.
– Вы, что ж, праздник себе устроили? – спросил я.
– Да чего там, Борисов: с утра до ночи у машин, как проклятый, можно и полежать после обеда часок. Вот думаю, куда бы под вечер закатиться?… Вам письмо.
Это и было письмо от родных! Я развернул его. Сколько горя, скупого и уже пережитого, таилось в этих строчках!
«Не знаю, жив ли ты, Саша, но почему-то уверена, что жив, ведь вот бывает же ни на чем не основанная уверенность. Пишем тебе уже не помню которое письмо (может быть, у тебя переменилась почта?), а ты все молчишь».
Я не молчал, я отвечал, но письма уплывали куда-то в пространство, исчезали. Потом я узнал, что родители переезжали и письма не доходили.
«Неделю назад умер папа, совершенно неожиданно, в депо, на работе. Видно, ему было очень нелегко, но он молчал, а поздно вечером читал газеты и вспоминал о тебе. Сводки его очень огорчали и то, что от тебя нет писем. Почему ты молчишь? Однажды после такого разговора папа очень разволновался, а в последнее время у него и ночью была работа, и с ним случился удар. Это было так неожиданно. Он был такой еще крепкий и бодрый, жил бы еще двадцать лет, не будь войны.
Мои дни проходят в работе. Собиралась учиться на горного инженера – оказалась техником в цехе на сборке самолетов, и, быть может, ты летаешь на одном из тех, что собирала я.
Мама плохо себя чувствует. После смерти отца она стала еще молчаливее. Петрович с нами и шьет для фронта. Он по-своему очень заботится о маме, да и обо мне.
У нас огород, правда не у дома, а далеко за городом, но мама туда ходила все лето, даже посадила куст георгин, чтобы вспоминать, как было дома.
Живем очень тесно, сначала жили вчетвером в одной комнате, а теперь втроем. Два месяца я уже не была в кино: то некогда, а то не хочется. У меня только работа и никого из старых друзей, а на новых не хватает сил.
Помнишь вертушку Катю Ложкину? Представь себе, ушла в армию и теперь снайпер. Недавно получила от нее письмо. А мы смеялись, называли ее глазастой, ты говорил: «Посмотрит – и труп», оказалось – правда. Я часто думаю о тебе, о том, что ты не пишешь. Бываешь ли ты дома или там немцы? Если немцы, тогда, конечно, все пропало, а если нет – хорошо бы сберечь дом.
Мне очень жаль отца, и я не хотела даже писать об этом, чтобы не делать тебе больно, но ведь ты это должен знать.
Будь здоров и жив, Саша. Мама молится о тебе каждый вечер. Будь здоров и жив.
Твоя Аннушка».
Она и подписалась, как я любил ее называть: Аннушка.
Я спрятал письмо в планшет, лег на койку. Я представил себе отца, мать и сестру, проводы на вокзале, вспомнил последние слова отца, сказанные мне у вагона: «Делай все как следует». Я старался делать все как можно лучше, как можно лучше воевать, мои товарищи тоже старались, и все же отец умер, а мы еще торчим под Ленинградом.
– Ну как? – спросил инженер.
Я сказал, что потерял отца.
– Да, – промычал инженер; в голосе его послышалось добродушное, грубоватое участие, и он, путаясь, заговорил о неизбежности, о судьбе, но мне показались дикими его слова, захотелось домашнего тепла, мира, покоя. Ужасно захотелось видеть Веру, побывать в «порту».
Вывести меня из этого состояния мог только боевой полет, но за окном в тумане моросил нудный мелкий дождик.
Я долго лежал, уткнувшись лицом в стену.
Инженер зажег лампочку, а я раскрыл «Красное и черное» Стендаля, недавно вышедшее в осажденном Ленинграде (мы все читали в тот год «Красное и черное»), попробовал читать, но мысль автора ускользала от меня.
Инженер затопил печурку и, глядя в огонь, отщипывал на гитаре что-то тихое и унылое, потом, кряхтя, слез с койки помешать в печке. А что, если уехать на денек-другой в город? Ведь погоды нет.
Я сказал об этом инженеру.
– Валяйте, – не раздумывая, ответил инженер, – валяйте, не съедят.
В тот вечер пришла эта проклятая мысль, а через день она вернулась и, как приблудная собачонка, таскалась за мной по пятам, не давая покоя.
Я начал с себя.
Мне нужно было и с собой повозиться.
Я доказал, как дважды два, что я песчинка, от которой почти ничего не зависит: так мне было удобнее и проще. Я утвердился в мысли, что полетов, без сомнения, не случится, что отсутствовать я буду не более двух суток, и я уговорил себя, крепко уговорил. Это оказалось не так трудно, потому что мне помогало непреодолимое желание встретиться с Верой и тревога за нее. Мне так хотелось увидеть ее еще раз, увидеть, положить в свою ее теплую, ласковую руку. Мы были совсем рядом, рукой подать!
«А другие? Они разве не рядом?» – спрашивал кто-то беспокойный во мне и пересчитывал ленинградцев, служивших в полку. Но я не хотел слушать об этом. И когда в тот вечер пришел Калугин, я атаковал его.
– Вася, ты мне друг?
– Не люблю такие вступления, не морочь голову! Что тебе надо?
Я подвел его к окну и долго говорил о нелетной погоде.
– Ну и ладно, что тебе надо? – повторил Калугин.
– Отпуск на один день в Ленинград.
– Ты с ума сошел, Саша, – огорчился Калугин. – Время не то, обстановка не такая. Пойди выспись. А вдруг полет?
– Какой полет, что ты шутишь?
– Но пойми, Саша, – прикладывая для убедительности руку к груди и широко раскрывая добрые голубые глаза, сказал Калугин, словно удивляясь моей настойчивости, – пойми: мне с тобой спокойнее летать, разучился с другими. Не веришь? Не шучу. Ну, не вовремя просишь, штурман. Что погода? Иногда и в непогоду можно слетать, она переменчива, балтийская погодка!
– Да ты посмотри за окно, высунь нос в поле.
И на второй день лил дождь.
– Сашка, – сказал мне Калугин, хмурый и красный от злости, – запомни: если ты уедешь, а тут начнутся боевые – пеняй на себя. Мне надоело тебя уговаривать.
Но я не выпускал Васю. Каких только я не находил доводов! А дождь и туман доказывали мою правоту. Мы шли на занятия, и дождик поливал наши регланы, мы шли к капонирам, и вдали по летному полю стлался белый скучнейший туман.
– Если бы ты попросил меня в такую погоду о таком деле, я бы, наверно, отпустил, я бы и разговаривать не стал, потому что надо быть товарищем, – и я больше не стал с ним разговаривать.
Калугин заговорил со мной, но я промолчал.
И на третий день лил дождь, и Калугин проворчал:
– Иди к богу в рай, Борисов, ты мне надоел хуже горькой редьки! Иди к командиру сам, скажи, что, будь они прокляты, все бабы, я не возражаю. Проваливай к чертям.
Я обнял его, как он ни упирался, и заторопился к командиру.
Предстоял нелегкий разговор. Майор, как известно, был человек холодный, сухарь, и только боевые тревоги находили отклик в его душе. Я долго волновался, прежде чем пошел к нему, но в конце концов решился. Другого пути не было, и надо было преодолеть это последнее препятствие.
Когда я пришел к командиру в его уголок, или, если хотите, в кабинет, в штабной землянке, перед ним лежало развернутое письмо. Майор не читал, а смотрел в печурку и продолжал теребить это самое письмецо. Только потом я узнал, о чем ему в нем писали, и понял, почему все так неожиданно просто разрешилось в тот вечер.
– Значит, по личному делу? – спросил майор и посмотрел очень внимательно. – Что-то давно по личному никто не приходил. Видно, не время нынче для личных дел, – вдруг добавил он хмуро, словно рассердившись, поморщился, открыл ящик письменного стола, спрятал лежавший перед ним листок и, снова взглянув в мою сторону, кивнул:
– Излагайте.
Я стал излагать. А за стеной барабанил дождь, и густые дождевые потоки ползли по стеклу оконца. Майор прислушивался к ним и даже сказал сам себе: «Еще зальет, чего доброго, землянки». И это было очень кстати, что он обратил внимание на дождь.
Я старался быть кратким: любимый человек, ни души близких, нет писем, ни строчки, давно, очень давно!
Я излагал, а командир прислушивался к дождю и, если судить по выражению лица, был занят чем-то не очень веселым.
У него было довольно мрачное и скучное, этакое серое, пыльное выражение. И как я ни старался, – разобраться в нем не мог. А майор все о чем-то вспоминал.
– Никого близких, говорите? – переспросил он и, размешав ножом сахар в чае, который принес ему дневальный, снова замолчал. И пока мы молчали, я понял, что майор думает о чем-то своем, и только потом, много месяцев спустя, я узнал, что во время нашего разговора он был мыслями далеко, в большой холодной и темной комнате в Ленинграде, где умирала женщина. И там не было рядом никого из близких, только две фотографические карточки и на них два похожих человека в военной форме – один молоденький, а другой пожилой. И можно бы не говорить, что это была жена майора, я обо всем этом не знал тогда. Но я обрадовался, когда в его молчании уловил тень сочувствия, и, не зная и не понимая, откуда оно пришло, постарался это сочувствие подогреть и сказал о Вере, о том, что, может быть, она тяжело больна, и о том, как сейчас все еще нелегко в Ленинграде, чутьем угадав, что майор думает не столько обо-мне, сколько о ней, об этой неведомой ему ленинградке.
– А ведь сильный дождь к хорошей погоде! – сказал он резко, посмотрел мне в лицо, горевшее от нетерпения, и вдруг добавил: – Поезжайте, Борисов!
Потом, словно пожалев, что у него вырвалось это неприятное ему слово «поезжайте», майор стал прикидывать, сколько времени надо на поездку, и в обрез получалось два дня.
– Даю вам двое суток и ни часу больше, торопитесь, – сказал наконец майор своим обычным скучным голосом и еще раз помешал сахар в кружке.
Как хотелось мне его поблагодарить тогда! Но я сказал только «слушаюсь» и пулей вылетел из землянки под дождь.
Лило как из ведра. На всем Ленинградском фронте была дождливая балтийская погодка. Я с наслаждением топал по лужам, подставляя лицо и руки под струи осеннего дождя.
– Ребята, – сказал я, сияя, наверно, как новенькая монетка, – майор отпустил на двое суток.
Калугин сидел под лампой и читал нашу боевую авиационную газету, а инженер тренькал что-то на гитаре. Оба они посмотрели на меня, и Калугин широко и открыто улыбнулся почти детской безмятежной улыбкой, которую я отлично изучил.
– Ну и проваливай, штурман, – сказал он с грубоватой добротой, – стараешься в командировки! Везет тебе, мальчик, хрен с тобой!
Калугин вздохнул и, обернувшись к инженеру, спросил:
– Что ж, пускай едет?
– Пускай, – сказал инженер, – иди, Борисов, счастливец, эгоист проклятый, выправляй свои «кукументы».
* * *
На этот раз я захватил с собой изрядный вещевой мешок со всякой всячиной. Настенька была далеко, и Калугин, передавая мне банку консервов, сказал:
– Подари в Ленинграде кому найдешь нужным.
На этот раз лейтенант, выписывая командировку, посмотрел на меня с завистью:
– А в Ленинграде сейчас можно провести времечко! Только срок у вас невелик. Да ничего, старший лейтенант: один час, да твой. Желаю!
На армейском грузовичке я добрался до шоссейной дороги. Это была знаменитая дорога с Ладоги в Ленинград, и тысячи машин шли по ней, хотя еще и не началась зима и продукты подвозили катерами. Тысячи грузовых машин шли по ней бесконечной вереницей, везли мешки и ящики с наклейками: «Только для Ленинграда!» И чего тут не было: замороженные абрикосы, свиная тушенка, сгущенное молоко, бараньи туши, сухой урюк и апельсиновый сок. Меня взяли на одну из машин в кабину, и мы медленно потянулись к городу. Потом остановились, потому что навстречу шли отремонтированные ленинградцами танки, и это было очень хорошо, что в Ленинграде ремонтируют танки.
Мы всю ночь плелись, или мне так казалось от нетерпения и желания поскорее попасть в Ленинград. Я спал в кабине злой, как черт, я устал смотреть на часы, устал смотреть на ящик с наклейкой «Сухой бульон. Привет ленинградцам из Сибири!» на маячившей впереди трехтонке. Потом мы поехали быстрее.
В черном небе зажигались и гасли лучи прожекторов. Замелькали освещенные луной мокрые, слепые домики разбитых пригородных поселков, замелькали огромные кипящие и раскачивающиеся на ветру придорожные деревья, кое-где еще одетые в листву.
Когда мы добрались до заставы, было уже раннее утро. Отсюда пешочком я дошел до города.
Город оживал. Прогромыхал навстречу трамвай с синими огоньками, мелькнула гостеприимно открытая парикмахерская, чайная со слезящейся от тепла и уюта витриной. Шли на работу деловитые ленинградцы, проносились камуфлированные эмки. За городом артиллерия вела рокочущий, на бархатных нотах, разговор.
По– прежнему лил густой отличный дождь. И вот, промокший и счастливый, я наконец у дверей Веры.
Стучу.
Ни шороха, молчание.
Снова стучу, потом жду. Может быть, Вера на работе? Может быть, и соседки нет? Может быть, Вера ушла за хлебом?
Я сижу на грязной ступеньке лестницы, потом снова стучу.
И вдруг я вижу замок на дверях. Надо быть по меньшей мере идиотом, чтобы стучать в дверь, на которой висит замок.
Но я должен во что бы то ни стало узнать о Вере. Я перехожу к дверям на другой стороне площадки и что есть силы стучу, стучу долго и наконец слышу легкие шаги. Кто-то слабыми руками снимает крюк с дверей, открывает.
Передо мной совсем маленький белобрысый мальчонка в ватнике, подпоясанном ремнем.
– Войди, обсохнешь, – деловито советует он, осмотрев меня с любопытством, и пропускает в переднюю.
– Маша, – кричит он куда-то в темноту, – к нам командир приехал.
Из глубины квартиры выкатывается шарик. Это Маша, увязанная платками. Ей лет шесть.
– Ребята, – спрашиваю я, – в соседней квартире живет тетя Вера? Не знаете, где она?
– А у нас вода из крана бежит… А тетей нет, они дружинницы, – сказала Маша.
– Молчи, – отстраняет ее мальчик. – Тут к нам приходит Вера – водопроводчик.
– Какая она?
– Большая, – вмешивается Маша, – ей стукнуло… Пятнадцать лет ей стукнуло, мама говорила.
– А где ваша мама?
– На заводе, – с гордостью говорит мальчик, – мать у нас теперь важная, начальник.
– Вот зажгут электричество и придет, – перебивает Маша.
Я отправляюсь в домоуправление. Управдома нет, он будет поздно. Какая-то бабушка, дежурная, вяжет чулок. Она из разбомбленного дома и никого здесь не знает. Тогда я решаю подождать соседку, возвращаюсь к ребятам, и ребята, довольные, вводят меня в комнату. В комнате полутемно, пахнет дымом, холодно, стоит кабинетная мебель темного дуба и детские железные кроватки. На ломберном столе чернильница и белый лист.
– Это Витька палки пишет, – щебечет Маша.
– В школу готовлюсь, – не без самодовольства, баском говорит Витька.
– Так ты же еще маленький, или ничего?
– Не понимаете, а военный, – вмешивается Маша, – ему сейчас в самый раз, он от блокады ростом маленький.
– В самый раз, – соглашается Витя.
Мы сидим и разговариваем о войне и самолетах, потом я снова завожу разговор о Вере. Но это не помогает, потому что, на мое несчастье, в доме не то жили, не то и теперь живут четыре Веры и нет никакой возможности в них разобраться.
Я достаю еду из своего чемоданчика, и Маша приходит в неописуемый восторг. Потом мы затапливаем времянку клепкой от бочки, пахнущей солеными огурцами, путешествуем на кухню за водой, кипятим чай. Едим колбасу и конфеты, и Маша говорит, что у нас сегодня чей-то день рождения, раз такой обед, только она не знает чей. По соседству с книжным шкафом бойко поскрипывают кухонные ходики, и время бежит, бежит мое драгоценное время.
Маша, поев, засыпает, счастливая, и даже артиллерийский налет где-то рядом не производит на нее, как и на Витю, ни малейшего впечатления.
– Вы посидите, а я поработаю, – говорит Витя и, высунув кончик языка, старательно принимается за палки, искоса посматривая на меня.
Время бежит, я хожу по комнате, посматриваю на заколоченное фанерой окно, в которое вставлен крошечный кусочек стекла, почти такой, как листок тетради, и вижу чистое, ясное, темнеющее небо.
– Ребята, – говорю я, – сейчас вернусь, – и выхожу на улицу.
В домоуправлении управдома все еще нет, и бабушка связала изрядную часть чулка.
Дождь словно чудом перестал: тихо, пахнет глубокой осенью; ясное-ясное небо, и в нем одна ранняя колючая, омытая дождями звезда. Вполне летная погода.
У меня неприятно холодеет в груди, но что же теперь делать? Я смотрю на дверь Вериной квартиры. Там по-прежнему висит замок. Возвращаюсь к ребятам, жду. Мы еще раз выясняем с Витей военное положение, Маша спит. Потом приходит мама Маши и Вити. И я почти ничего не узнаю о Вере, кроме того только, что она теперь в армии, стоит под городом, а где – кто ее знает; что соседка с концертной бригадой в поездке в части; она, мама Маши и Вити, переселенная из-под Кировского завода, вот так работает и живет с детьми; что с Верой Ивановной она, может, всего-то и сказала за все время слова четыре, а комната, наверно, запечатана и ключ у управхоза, а управхоз где-то на дежурстве.
Я прощаюсь с Витей и его мамой, оставляю свой адрес на всякий случай для Веры, оставляю часть того, что я вез с собой, Вите и Маше и уношу много соболезнований и прекрасных пожеланий их мамы.
«Стоило ехать, ишак?» – говорю я себе на улице и храбро утверждаю: да, стоило. Я теперь знаю, что она жива, точнее – совсем недавно была жива, в армии, комната запечатана, ключ у управхоза, как удивительно много я знаю.
Отправляюсь в комендатуру отметить командировку. Здесь, как обычно, изрядно народу, приезжающим и отъезжающим выписывают по аттестатам. Разговоры о делах на фронте, о ночлеге, пахнет махоркой, ваксой, тускло горят и мигают лампы, а за окном нежное небо и ярко светят звезды.
Из комендатуры я шагаю в наш флотский автобат. Машины уходят на рассвете. Мне отводят койку, жесткую как камень. За стеной оказывается камбуз, и ночлежникам приносят пшенную кашу в котелке. Но есть не хочется, я ложусь и думаю о Вере, о бессмысленной поездке, о чистом небе, в котором хорошо летать. У меня обидно много времени для неприятных размышлений. А у окна на высоте второго этажа осыпается рябина. Чудом на ней уцелели кисточки пунцовых ягод, ночью она стучит потихоньку в заклеенную форточку. На рассвете выяснилось, что машины отправятся в полдень – ждут каких-то бензозаправщиков из ремонта. Мы выезжаем только в обед, добираемся под вечер, и тут страшная новость обрушивается на меня.
* * *
Было несколько боевых вылетов. В первом Калугин сел на вынужденную и поломал подарок уральских металлургов.
Сеня Котов подробно рассказал мне об этом полете. Он был очень взволнован, но старался изобразить всю картину по возможности точно.
– Перво-наперво вас нет, товарищ старший лейтенант, ну, хоть и сам отпустил, а все же очень неприятно. С кем полетишь, если мы всегда с вами? – Сеня с сожалением развел руками. – Так это он похаживает, а через тридцать минут вылетать. Сердитый – не подступись. Ходит перед землянкой – то ему не так, это не хорошо, и чую: он и себя и вас мысленно костит, товарищ старший лейтенант. Ох, чую! На все корки, аж пыль столбом. И я его, да и вас пробираю, не так, чтобы очень, но все-таки, по справедливости! Вы уж меня простите, – извинился Котов.
– Ну, вскоре капитан решает, что лететь надо без вас – ничего не поделаешь. И вижу, начинает он уже одного себя утюжить. «Это все я виноват, – говорит командир нашему адъютанту, – дружба, нежности, уступочки, романы, а долг собакам под хвост!» – В этом месте Сеня Котов сокрушенно покачал головой.
Мне ясно представилось, как добрейший Вася Калугин расхаживает по мокрой осенней траве у землянки и понемногу наливается яростью и Сеня Котов старается не попадаться ему на глаза.
И вот последние минуты перед вылетом, командир принимает решение. Из штурманов свободен только новичок Ярошенко, хороший парень, старательный, но не нюхавший огня и, главное, не знающий района.
Калугин в раздражении говорит, что надо когда-нибудь начинать, что летать без штурмана нельзя, а лететь нужно, и командир полка дает «добро» на вылет.
Солнышко светит, но погодка обманчивая, неустойчивая. И небо очистилось, и воздух прозрачный, какой бывает по осени, но влагу источает каждая травинка и каждая ветка, набухшая и черная от дождя.
Поле аэродрома серое; озерки осенней воды всюду, куда только ступишь ногой. «Будет туман», – наверно, думает Вася Калугин, а Ярошенко торопливо, тут же на скамейке у землянки, прокладывает на карте маршрут. Предстоит полет на разведку дальнего железнодорожного узла. Расстояние изрядное. Лететь надо точно, не удлиняя пути.








